Новгородцев П., Муромцев С., Кареев Н. и др. Немецкая историческая школа права
Подождите немного. Документ загружается.

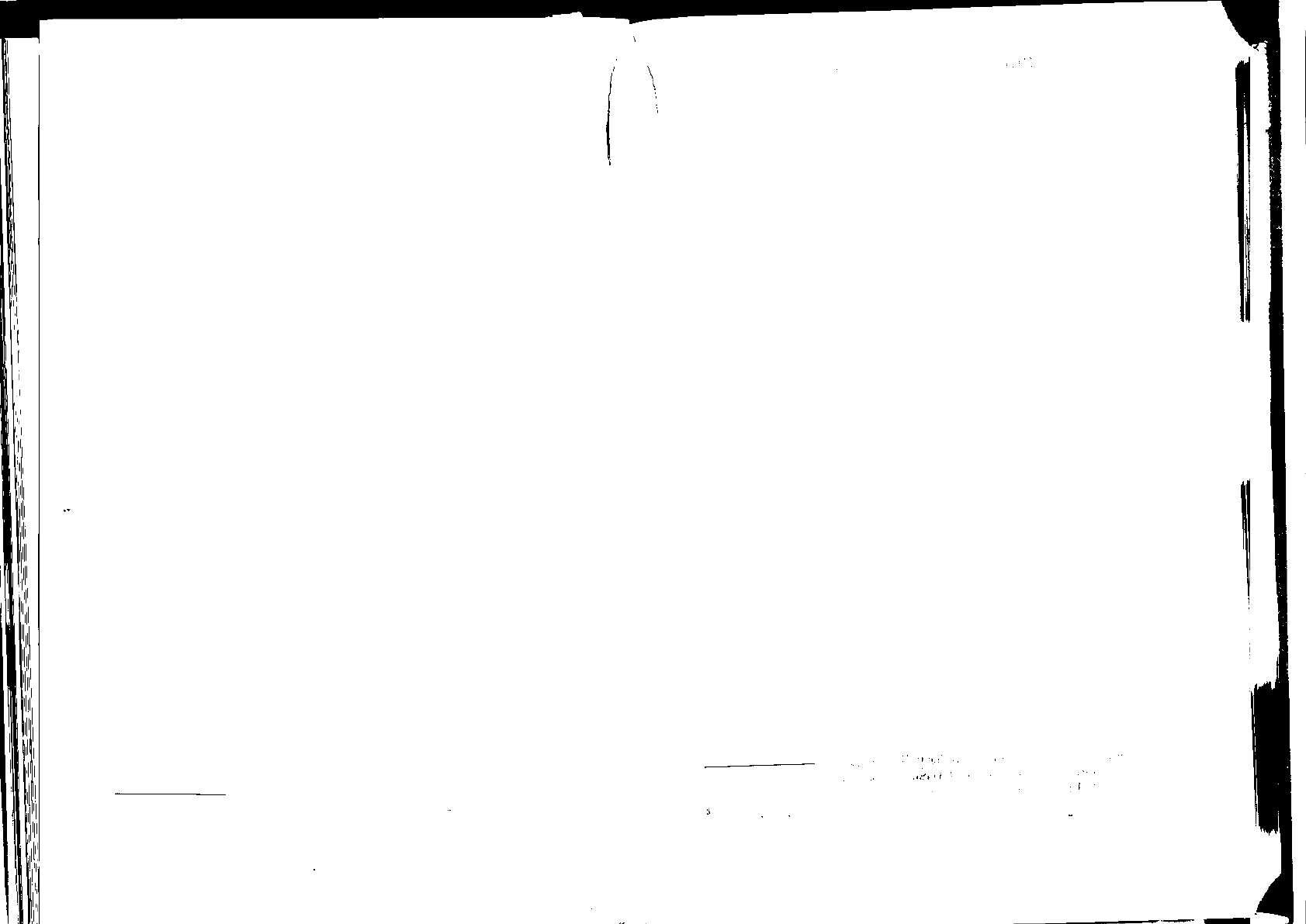
70
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
общие основания положительного права, он указывал на то,
что они должны выводиться ИЗ положительных источников.
«Мы должны прибегать к философии, — говорит автор «Духа
юридической литературы», — но к философии исторической,
которая всегда имеет в виду законодательство и его опреде-
ления. Мы скажем вместе с Монтескье: история может быть
объясняема только из истории»
1
. Анонимный автор нашел и в
диссертации Тибо неумеренные притязания со стороны фило-
софии, хотя последний и делал оговорку, отвергающую внесе-
ние чуждых начал в положительное право. В результате мнение
Тибо, справедливо замечал автор «Духа юридической литерату-
ры», все-таки сводится к этому, что общие положения для объ-
яснения права должны быть почерпнуты не из него, а выведе-
ны заранее и внесены со стороны.
В ответ на эти замечания Тибо написал пространную ста-
тью «Ueber den Einfluss der Philosophie auf die Auslegung der
positiven Gesetze», которая в первый раз была напечатана в
1798 г. вместе с другими статьями, изданными под общим загла-
вием «Versuche iiber einzelne Theile der Theorie des Rechts»
2
.
Тибо делает здесь попытку подвергнуть критике «господст-
вующее мнение исторических юристов о бесполезности фило-
софской интерпретации». И в этой новой статье он защищает
не вмешательство философии в юриспруденцию, а только на-
хождение, с помощью философии, основных положений права,
от которых законодатель исходил в действительности. Казалось
бы, что для подобной задачи следовало бы скорее обратиться к
истории. Тибо думает иначе. Разъяснения, которые он дает по
этому поводу, вскрывают нам старую абстрактную точку зрения
на право как на продукт неизменного разума.
Для подтверждения возможности философской интер-
претации Тибо ссылается на существование в человеке прак-
тического разума — голоса о праве и неправе, предписания ко-
торого в существенных чертах остаются всегда одни и те же
3
.
Возведенные в систему, эти предписания получают достовер-
ность, гармонию и последовательность. Так образуется сис-
тема естественного права, из которой может быть выведена
правомерность каждого отдельного случая. Если положитель-
1
Geist der juristischen Literatur von dem Jahre 1796. Gottingen, 1797. S. 83.
2
Статья находится в I томе сборника, с. 140 слл.
3
Thibaut A. F.J. Versuche iiber einzelne Theile der Theorie des Rechts. 1798.
Bd. I. S. 153.
ГЛАВА III. ТИБО
71
ное законодательство, рассуждает Тибо, представляет собой
не продукт неразумия, произвола и своекорыстия, а результат
философствующего разума или просто обыкновенного здраво-
го разума, то непонятно, как можно объяснить его последние
основания, его источник и дух при помощи одной истории
1
.
Примером законодательства, которое разум может принять за
свое собственное произведение, Тибо считает римское право;
именно оно и нуждается в философской интерпретации. При
объяснении законов, являющихся продуктами разума, история
может оказать лишь чисто отрицательную услугу, — обнаружи-
вая, что они не обусловливаются какими-либо историческими
обстоятельствами. Философия идет далее и объясняет их из
собственных оснований
2
. Так, право собственности или нена-
рушимость договоров объясняются не из истории, а из основ
человеческого духа
3
.
Все эти утверждения возвращают нас к старой тенденции
смешивать положительное право с естественным, против ко-
торой боролся еще Гуго. Философская интерпретация поло-
жительного права в том смысле, как понимает ее Тибо, с необ-
ходимостью приводит или к превращению временных истори-
ческих установлений в неизменные веления разума, или же к
искажению положительных законов (там, где они оказываются
несогласными с логическими требованиями). На эту послед-
нюю опасность указывал еще критик Тибо, автор упомянутого
выше анонимного произведения. Воздавая хвалу историческим
юристам за их верность положительным установлениям и духу
источников
4
, он в следующих выражениях говорил о юристах
философского направления, не умеющих держаться в рамках
положительного права. «Они не остаются беспристрастными
истолкователями положительного духа, но примешивают к
нему то, что согласуется с их собственной системой юридиче-
ской политики... Они даже устанавливают правило: только то
должно считаться обязательным в положительном праве, что
соответствует канону моральной возможности
5
. Они не оста-
навливаются на том, чтобы провести параллель между соб-
1
Ibid.S. 155.
2
Ibid.S. 159.
< I^fd^uristischen Literatur von dem Jahre 1796. Gottingen, 1797.
S. 103ff.
5 To есть что допустимо с моральной точки зрения.
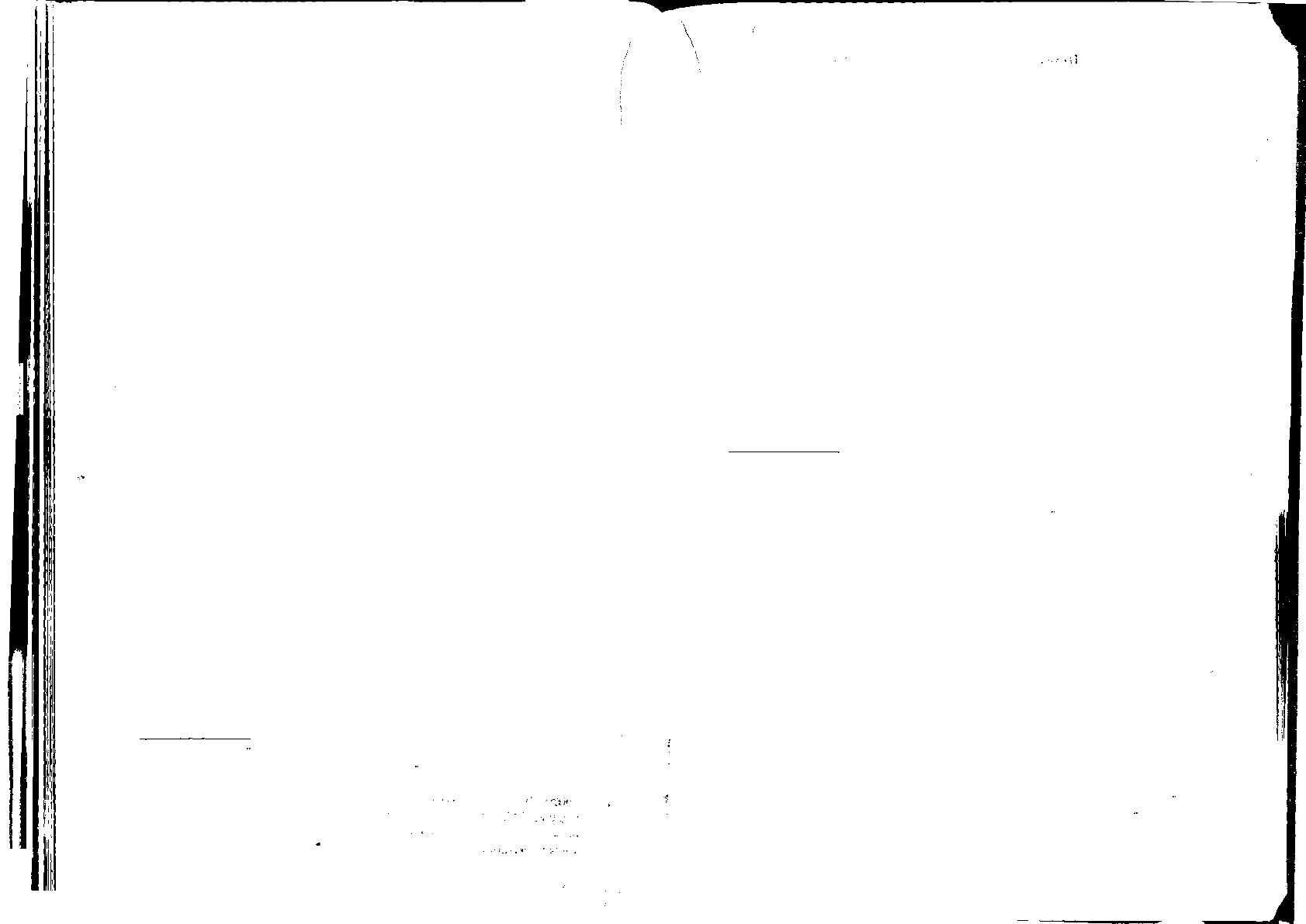
72
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ГЛАВА III. ТИБО
73
ственными мнениями и существующим правом с целью побу-
дить законодателя к соответствующим изменениям. Этот путь
для них слишком скучен. Они охотнее стирают границу между
положительным и спекулятивным и смешивают основания, на
которых покоятся эти области».
Возможность подобного смешения признает и сам Тибо,
когда замечает, что философский истолкователь может иногда
подставить законодателю собственные соображения и извра-
тить дух положительного права
1
. И действительно, как пору-
читься за согласие устанавливаемых философом высших осно-
ваний права с мотивами, руководившими законодателем? Если
Тибо утверждает затем, что для перехода от философии к поло-
жительному праву как посредствующее звено между ними, тре-
буются более глубокие и тонкие психологические познания
2
,
то этим он сам признает беспомощность чисто философской
интерпретации при объяснении положительных законов.
Еще большее недоверие к идее философской интерпрета-
ции внушает Тибо своим заявлением, что правильное фило-
софское истолкование права есть дело будущего: пока в естест-
венном праве все находится в брожении, и ни одно положение
в нем не может считаться установившимся и бесспорным. Оно
должно предварительно достигнуть значительной степени
совершенства; лучшие умы должны согласиться между собой
относительно его существенных оснований. Менее всего воз-
можно в настоящее время пользоваться едва созданной систе-
мой для философской интерпретации
3
. Попытки такого рода
дадут лишь оружие в руки элегантных юристов, противников
философских методов
4
. Тем не менее Тибо выражает надежду
на прекращение споров между элегантными и философскими
юристами, ибо без философии нет законченной истории, а без
истории не может быть завершенной философии
5
.
Изложенная здесь статья Тибо и сочинение «Дух юридиче-
ской литературы» знакомят нас с теми спорами, которые шли
в конце XVIII в. между сторонниками исторического и фило-
1
1
ThibautA. F.J. Uber den Einfluss der Philosophie auf die Auslegung der po-
sitiven Gesetze // Thibaut A. F.J. Versuche uber einzelne Theile der Theo-
rie des Rechts. 1798. S. 199-200.
2
Ibid. S. 202. ^
3
Ibid. S. 197. :,'••, /*. : •' » •
4
Ibid. S. 198. - •".:.• >• H ' '
5
Ibid. S. 202-203. ч< «•<• •
софского направлений в юриспруденции. Мы указали ранее, как
гёттингенские юристы разрушали идею общепригодного естест-
венного права и полемизировали с вольфианскими юристами;
пунктом разногласия был в данном случае вопрос о разнообра-
зии исторических прав. В споре Тибо с его противниками про-
тиворечия двух направлений сказались в вопросе о приемах ис-
толкования положительных законов. Одна сторона требовала
«верности положительным определениям и духу источников»,
другая признавала необходимым сведение положительного пра-
ва к высшим философским началам. Последняя задача составля-
ет основную цель философии права, и требования Тибо были
бы вполне законными, если бы он не объявлял велений разума
неизменными, а римское право — истинным выражением ра-
зумных начал. Это была именно та несовершенная философия,
которая не хотела признавать истории. Противоречие обоих на-
правлений таким образом и здесь сводилось все к тому же разно-
гласию по вопросу о разнообразии исторических установлений
и неизменности естественного права
1
. Относясь отрицательно
к историческим особенностям, легко было прийти к искажению
1
Подобный же характер имел и спор Гроса с Цахариэ, относящийся к
тому же времени, когда Тибо полемизировал с автором «Духа юридиче-
ской литературы». В 1795 г. Карл Заломо Цахариэ издал брошюру под за-
главием «Ueber wissenschaftliche Behandlung des romischen Privatrechts»
(Wittenberg), в которой философское изучение права, как единствен-
но научное, противополагалось историческому, как ненаучному (с. 6).
Он требовал, чтобы римское право выводилось из общих философских
положений (с. 7) и строилось в виде системы всеобщего частного права,
получившего от данной законодательной власти только свою санкцию
(с. 8). Цахарие ссылается при этом на старое замечание, что римское
право, по большей части, содержит ничто иное как естественное пра-
во (с. 24), и видит в нем законодательство, пригодное для всех времен
и народов (с. 35). Историческую юриспруденцию он признает только
как удовлетворение потребности разума к познанию причин происхож-
дения законов (с. 45). Грос возражал Цахарие, упрекая его в стремле-
нии к ненормальному расширению границ философии. (См. его бро-
шюру «Meditationes quaedam dejusto philosophiae usu in tractando jure
Romano» (Erlangae 1796), особ. с. 8 слл. и 19.) Прибавлю здесь, что и
исторические юристы не отрицали пользы философии, но лишь в том
случае, когда ощущается необходимость в новых нормах, когда юристу
приходится выйти за черту положительного и искать для себя новых
опор. (См., напр.: Geist der juristischen Literatur von dem Jahre 1796. Got-
tingen, 1797. S. 103, атакже Seidensticker. Juristische Fragmente. Gottingen,
1802. II Th. §165. Последний допускает влияние философии на право
лишь через посредство законодательной воли).

75
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
положительных норм в угоду идеальным определениям, и про-
тивники философской интерпретации справедливо восставали
против нее, опасаясь «тирании философии».
Что касается Тибо, то он склонен был вообще умерять фи-
лософские притязания в области юриспруденции. Сомнения в
прочности начал естественного права коснулись и его, хотя он
не переставал высказываться за идею философской интерпре-
тации. Мы видели, насколько пессимистичны были его отзы-
вы о естественном праве своего времени в статье «Einfluss der
Philosophie auf die Auslegung der positiven Gesetze», но вместе с
тем мы отметили и его приверженность философскому направ-
лению. То же соединение традиционной веры в естественное
право со скептическим отношением к его современному состо-
янию мы находим в «Юридической энциклопедии», которую
Тибо издал в 1797 г. Совершенно в духе своего направления,
Тибо заявляет здесь, что достоинство каждого положительно-
го права должно определяться пред судилищем разума. Первое
требование к законодателю состоит в том, чтобы законы, изда-
ваемые им, были разумны
1
. Положительное право не должно
отличаться от естественного; хотя в действительности поло-
жительные законы часто и основываются лишь на произволе
и силе правителя. Однако, заявив столь высокие притязания к
положительному праву, Тибо вслед затем сознается, что в опре-
делении главных оснований естественного права между юрис-
тами господствует полное разногласие
2
. Он решается даже
сказать, что естественное право как наука пока не существует.
Но кто станет отрицать науку из-за слабости ее теперешних
сторонников? Этот вопрос показывает нам, что Тибо, сомнева-
ясь в настоящем состоянии своей науки, возлагал надежды на
будущее.
В связи с этим скептицизмом к современному естествен-
ному праву, несомненно навеянному критическими нападками
противников, мы находим у Тибо и другую уступку духу време-
ни: он нередко говорит о пользе и необходимости историче-
ского изучения права и сам называет себя юристом историко-
философским
3
. В 1808 г. он напечатал статью под заглавием
1
Thibaut. Juristische Encyclopadie. §8. S. 9.
2
Ibid. §13, S. 17.
3
Thibaut. Uber den Einfluss der Philosophie auf die Auslegung der positiven
Gesetze / / Thibaut A. F.J. Versuche iiber einzelne Theile der Theorie des
Rechts. 1798. S. 153.
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
101
«Ueber das Studium der romischen Rechtsgeschichte», в которой
мы находим полное признание важности истории
1
. Нельзя без
удивления читать этой статьи, имея в виду известную брошю-
ру того же автора о необходимости общегерманского граждан-
ского кодекса.
Исходя из положения, что в позднейших определениях пра-
ва отражаются законы более древние, Тибо считает историю
римского права совершенно необходимой для понимания Юс-
тиниановых сборников. Даже введение новых кодексов не сдела-
ет историю излишней. Ибо тенденция нашего времени состоит
не в стремлении к новым воззрениям и радикальным реформам,
а скорее к удержанию прошлого
2
. Новые кодексы долго еще бу-
дут сохранять старое, хотя и на новом языке, и вследствие этого
будут требовать исторического изучения. Тибо заключает свою
статью требованием, чтобы догматическое изложение соединя-
лось с историческим, чтобы отдельные исторические понятия
уяснялись при помощи изучения их истории
3
.
Казалось, что Тибо приходил здесь к тому, чтобы признать
требования своего века и окончательно стать на сторону исто-
рического направления, как вдруг шесть лет спустя, в 1814 г.,
он издал брошюру, в которой заговорил совершенно иным язы-
ком. Все заветы и понятия естественно-правовой школы вдруг
ожили в его памяти. Он дал здесь простор своим реформаци-
онным стремлениям, забыв все те исторические соображения,
которые незадолго до того высказал в гейдельбергском журна-
ле. Я считаю уместным более подробно остановиться на упо-
мянутой брошюре, так как она прекрасно передает воззрения
века Просвещения на историческое право.
Противоречие двух направлений проявилось здесь во взгля-
дах на кодификацию.
2. Проект кодификации гражданского права.
;
, Отношение Тибо к местным особенностям
в праве и к историческому прошлому
Тибо издал брошюру в то время, когда Германия, освободив-
шись от французского владычества, почувствовала себя воз-
1
См.: Heidelberger Jahrbiicher. Erster Jahrgang. II. Abth.
2
Ibid.S. 4.
3
Ibid. S. 13.
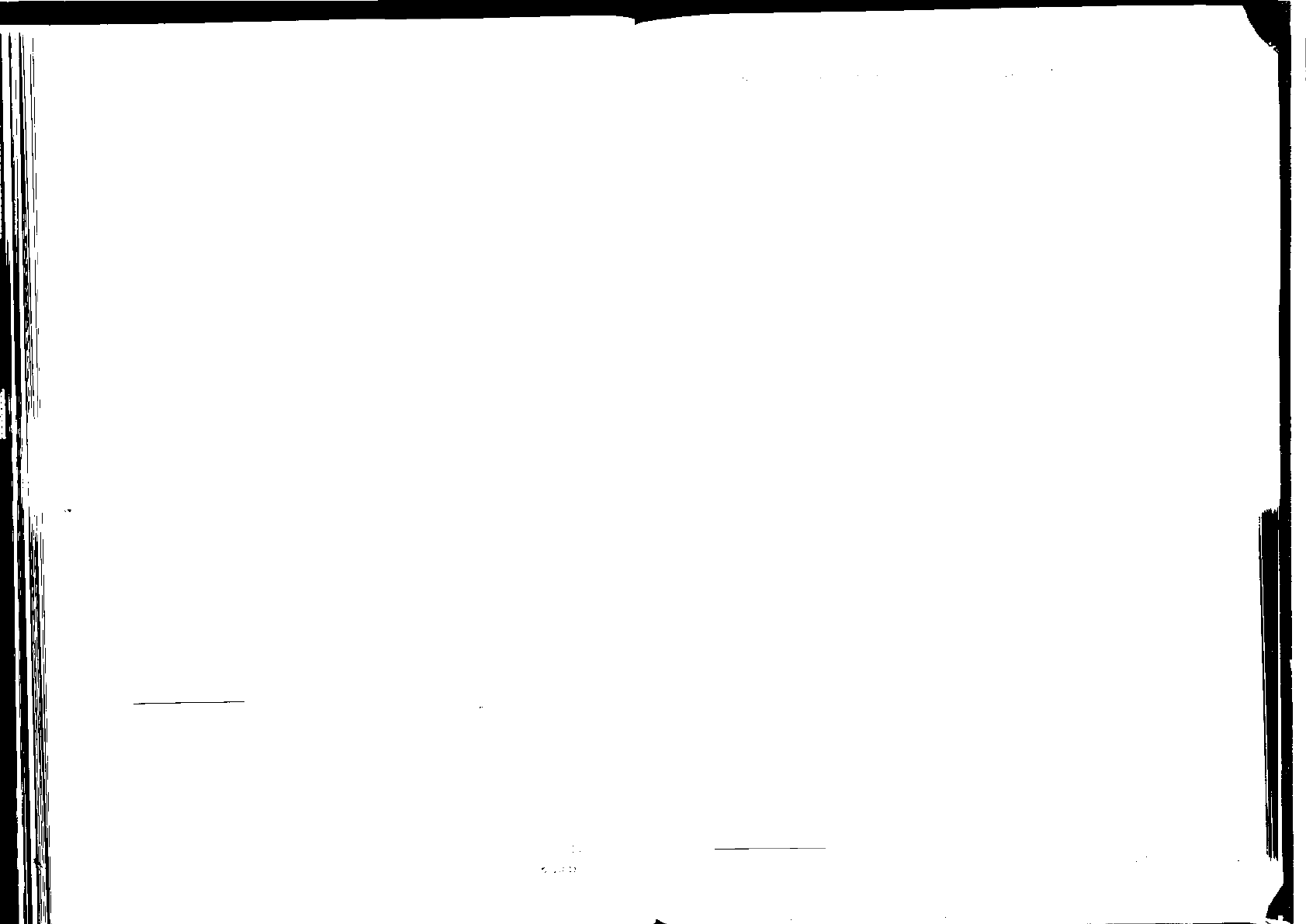
76
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
рожденной к НОВОЙ ЖИЗНИ. Идея национального единства,
пробужденная совокупным действием всех сил нации против
общего врага, вдохновляла немецких патриотов к составлению
различных планов объединения. В числе других высказался и
Тибо, предлагая составить для Германии общегражданский ко-
декс, который послужил бы основой для общей жизни, покон-
чив с разнообразием местных прав и господством римского за-
конодательства. Тибо не скрывает, что хорошие законы — дело
чрезвычайно трудное
1
. Тем не менее он говорит о составлении
нового кодекса с очевидным преувеличением реформаторс-
ких сил законодателя, требуя от него полной отмены всех дей-
ствующих законов
2
. При том взгляде, который он высказывает
по отношению к действующему праву, ничего другого и не оста-
валось. По его словам, это не более чем масса противоречивых
и пестрых определений, поддерживающих разъединение Гер-
мании и совершенно недоступных для изучения. Все источни-
ки действующего в Германии права представляются ему уста-
ревшими и негодными; а сборники римского законодательства
кажутся ему продуктом эпохи упадка, на каждой странице нося-
щим печать своего происхождения
3
.
С этим отрицательным отношением к существующему Тибо
соединяет веру в возможность создать совершенное законода-
тельство: простое и ясное, соответствующее духу немецкой на-
ции и понятное для каждого
4
. Вместе с тем при помощи нового
кодекса он считает возможным достигнуть и единства в граж-
данском обороте, так как общие законы порождают общие нра-
вы и обычаи
5
.
Но как быть с разнообразием местных потребностей и
условий, как быть с историческим прошлым? Не встретятся
ли здесь препятствия к введению однообразного законода-
тельства для всей страны и к полной отмене старого права?
1
Thibaut. Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts
fiir Deutschland. Ill Aulf. Heidelberg. 1840. S. 27. (Первое издание появи-
лось в 1814 г.).
2
Ibid. S. 6.
3
Ibid. S. 7—8. Во избежание недоразумений, которые могут возникнуть
из кажущегося противоречия в отзывах Гуго о римском праве (ср. с. 73),
замечу, что и прежде (в «Einfluss der Philosophie», S. 155), восхваляя
римское право, он называл Юстинианову компиляцию «продуктом вар-
варства и глупости».
4
Ibid. S. 17-18. « ' -
J
5
Ibid. S. 26. * ч
ГЛАВА III. ТИБО
77
Тибо предвидит подобные возражения и делает по этому по-
воду весьма любопытные замечания, составляющие интерес-
нейшую часть его брошюры
1
. Ходячие воззрения XVIII в. об-
лекаются здесь в форму решительных и резких положений,
совершенно отрицающих в явлениях права индивидуальную
сторону, вырабатываемую историей. Вместо исторического
разнообразия местных прав Тибо представляет себе в качест-
ве нормального и желательного порядка господство единого
идеального права. Истинные юридические положения пред-
ставляются ему как своего рода математические данные, неиз-
менно обязательные для разума при всяких условиях. Но вы-
слушаем здесь самого Тибо.
«Со времени Монтескье мы часто слышали, что право
должно сообразоваться с обстоятельствами: с почвой, клима-
том, характером нации и тысячью других вещей. При таких
условиях в конце концов все может оказаться справедливым,
и самое нелепое найдет где-нибудь свое оправдание. Но в этих
воззрениях я могу видеть лишь извращенность взгляда и недо-
статков глубокого чувства права. По большей части мы имеем
здесь дело с простым смешением естественных последствий
явления с тем, что может и должно было быть, согласно с ра-
зумом. Если человек следует своим прихотям, своей ограни-
ченности и каждому побуждению, как это обыкновенно бы-
вает, и если таким образом проистекают различные законы
и учреждения, то это лишь объясняет результат, а не оправ-
дывает его. Право должно стремиться к тому, чтобы объеди-
нить людей, а не закреплять различие их косных привычек;
оно должно не льстить их дурным свойствам, а приводить их к
полному сознанию и вырывать из омута жалкой самостоятель-
ности и ничтожности. Если иногда особые условия требуют
и особых законов, как, например, экономических и полицей-
ских, то в общем гражданские законы должны основываться
только на требованиях человеческого сердца, рассудка и ра-
зума, и весьма редко встретится для них необходимость сооб-
разовываться с обстоятельствами. И если из единства могут
произойти некоторые затруднения, то выгоды от него значи-
тельно перевешивают неудобства. Стоит только рассмотреть
для этого отдельные части гражданского права. Многие из
них представляют, так сказать, нечто вроде юридической ма-
1
Ibid. S. 41ff.
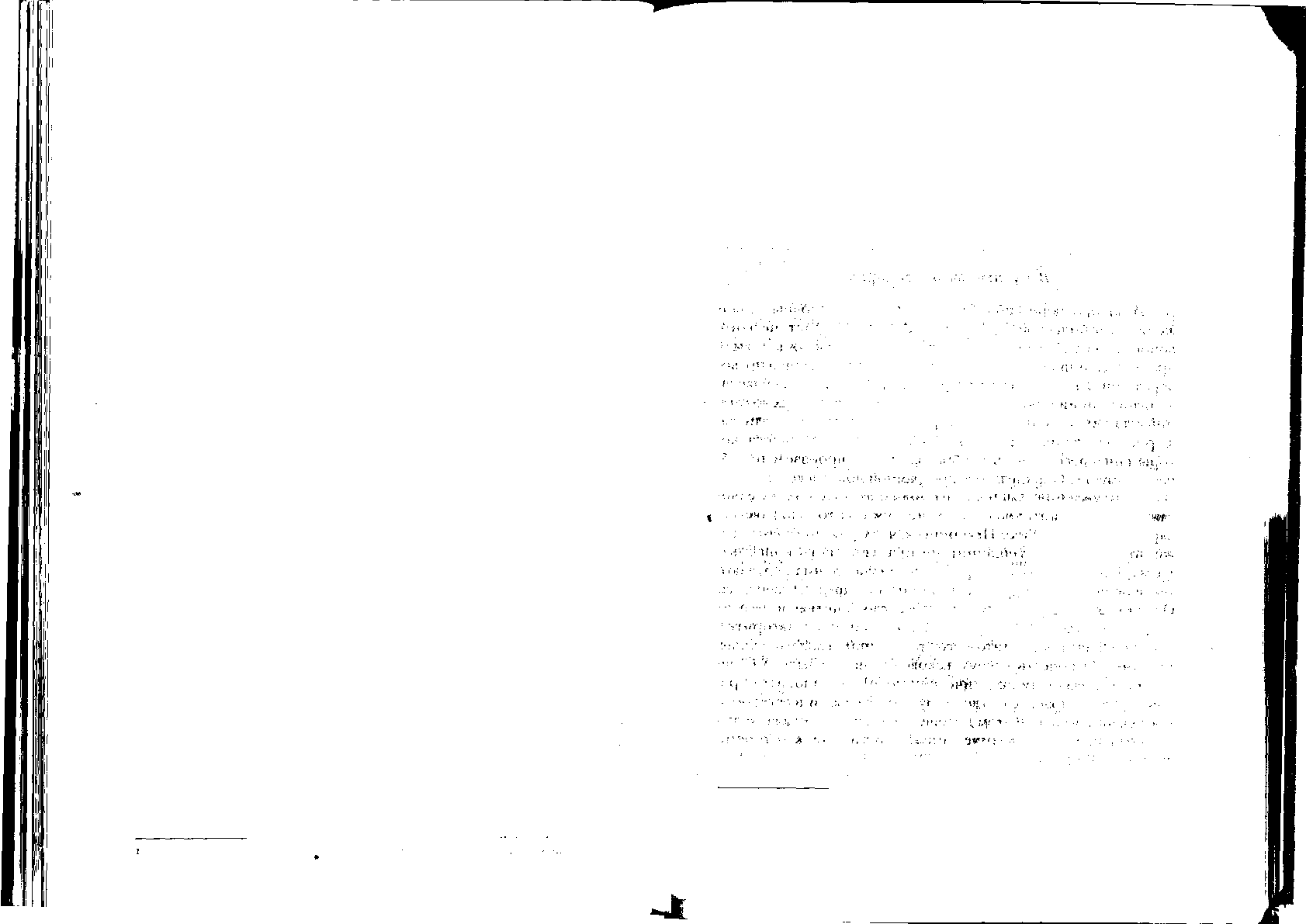
78
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
тематики, и никакие местные условия не могут иметь на них
решительного влияния. Таковы учения о собственном праве,
о гипотезах, о договорах и обо всем, что относится к общей
части юриспруденции. Даже в тех учениях, на которые чело-
веческая индивидуальность имеет, по-видимому, большее вли-
яние, обыкновенно можно обнаружить, что одно какое-нибудь
мнение имеет преимущество над другими. Хваленые различия
в юридических установлениях, которым придают такое значе-
ние, представляют собою не последствия естественных пред-
расположений и местных отношений, а результат неразумной
замкнутости и безрассудного произвола.
Говорят, что следует по возможности избегать всяких изме-
нений, уважать существующее, потому что граждане привыкли
к нему, щадить даже очевидные предрассудки, потому что выше
человеческих сил преодолеть их. Легкомысленные перемены
всегда гибельны, замечает в ответ на это Тибо, но устойчивость
и благословенная склонность народа к уважению старины мо-
гут быть достигнуты при помощи общего законодательства, ко-
торое будет продуктом национальных сил. Уважение же к про-
шлому не следует преувеличивать. Многочисленные местные
обычаи часто являются результатом простой косности права,
и достаточно легкого прикосновения к ним, чтобы сделать шаг
к новой цели»
1
.
Так говорил Тибо о старом праве и о предполагаемых в
нем реформах. Вера в возможность быстрого преобразования
юридических установлений на началах идеального права, до-
верие к силам субъективного разума, радикальное отрицание
исторического прошлого — таковы основные черты его бро-
шюры. Мы имеем здесь дело с писателем эпохи Просвещения,
с типическим выразителем взглядов XVIII в. Вдохновленный
мыслью о германском объединении, среди общего оживления
немецкой нации Тибо взывал к законодателю, приглашая его
совершить великое дело. Он, по-видимому, забыл свои старые
сомнения относительно естественного права и свои прежние
утверждения о невозможности отрешиться от исторического
прошлого и предлагал создать новое законодательство на осно-
вах общечеловеческого сердца и разума.
В утверждениях Тибо была и доля истины, поскольку он
справедливо указывал на исторические злоупотребления и на
Ibid. S. 43-47.
ГЛАВА IV. САВИНЬИ 101
79
необходимость законодательного творчества, открывающего
пути для лучшего будущего. Когда ему говорили о естественных
силах, движущих историю, он не без основания отвечал, что
в истории действуют также и случайные решения, и недоста-
ток понимания, определяющие иногда развитие права на це-
лые столетия
1
. Но все это было высказано у него с большими
преувеличениями и с крайней резкостью. Возражения напра-
шивались сами собой. Их высказал Савиньи.
> ' ' V >г V . ' :•) Mij:'-';
> ,, »•• ' '•! I' >) г- •' • »•., ччЬ
j u 1 j » I ru, i i i
1
" • ' " i i'
'! I ' > • ' ! ' , Hi! t
I , <, 1 f ,
I , < t > fi< < ' | >
' ! , >( • , ' ' ' ,1 ,
> ' i ' I Г' |t
'< .
1
4 IK
> if ' '». ' • >
"f -1 • I 1.
1
См. его рецензию на брошюру Савиньи в приложениях к III изданию
«Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen biirgerl. Rechts», S. 95, 101.
И немецкие писатели нашего времени склонны видеть у Гуго не одни
заблуждения (см., напр., Carlowa в Fest-Chronik. №11).

ГЛАВА IV. САВИНЬИ
81
В. Основы ИСТОРИЧЕСКОЙ школы
« ь по УЧЕНИЮ САВИНЬИ И ПУХТЫ
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
Вступительные замечания '''
Возражая брошюре Тибо, Савиньи затронул основные поло-
жения исторической философии XVIII в. От практического
вопроса о кодификации он перешел к общим рассуждениям о
происхождении права и развил при этом целую теорию право-
образования в духе новых исторических воззрений. В области
юриспруденции никто еще не высказывал до него этих воззре-
ний с такой уверенностью и определенностью. Талантливая
форма изложения и принципиальная постановка вопроса, ко-
торым интересовались все, обратили на его произведение об-
щее внимание. Оно сделалось программой новой школы.
В рассуждениях Савиньи мы можем отметить то же соче-
тание научных мотивов с политическими, которое является
характерным для Гуго. Историческая теория его точно так
же подкрепляется тенденциями практического консерва-
тизма. Но у Савиньи консервативные стремления получают
иные основания, чем у его гёттингенского предшественника.
Охранительная проповедь Гуго имела своей целью не только
поддержать уважение к прошлому, но и укрепить авторитет
власти. Общим результатом его требований являлась полная
преданность существующему, каково бы оно ни было. У Сави-
ньи преобладающим практическим мотивом становится про-
тиводействие правительственному вмешательству в естествен-
ное течение жизни. В этом отношении он мог иногда вступать
в противоречие с политическим абсолютизмом, к которому
склонялся Гуго.
Среди научных задач Савиньи полемика с естественным
правом занимает столь же второстепенное место, как и в лите-
ратурной деятельности гёттингенской школы. С абстрактными
философскими теориями боролись как с одной из причин упад-
ка юриспруденции, возрождение которой было главной целью
стремлений
1
. Однако философская сторона исторической
школы всецело определяется ее отношением к естественному
праву и к стоявшим с ним в связи старым взглядом на историю.
Как покажет дальнейшее изложение, отношение это представ-
ляется гораздо более сложным, чем думают обычно. Вопреки
распространенному представлению, оно характеризуется дале-
ко не одним отрицанием старых начал. В основных воззрениях
школы мы найдем и признание некоторых здоровых тенден-
ций естественно-правовой философии. Более того, мы откро-
ем у нее и отражение иных философских заблуждений, объяс-
няющееся силой традиции.
Согласно принятому плану, я должен начать с характери-
стики исторической теории Савиньи, чтобы выяснить затем
его отношение к естественному праву
2
. ..•
См. выше, с. 33, прим. 2. « -- ^
Литература о Савиньи довольно обширна. Основателю исторической
школы особенно посчастливилось на краткие характеристики, суще-
ствующие в изобилии. Почти каждый из крупных юристов Германии
посвятил его памяти особую статью. Не раз подвергались изложению
и критике и общие основы исторической школы. Однако до сих пор
мы не имеем полного и систематического анализа ее учений (Ср.: Berg-
bohm. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Leipzig, 1892. I. S. 481, Note
2). Едва ли не всего менее выяснена философская сторона школы, ха-
рактеристике которой посвящена настоящая работа. Из многочис-
ленных статей о Савиньи особенного упоминания заслуживают сле-
дующие: Jhering, Rudolf von. F. С. v. Savigny / / Jahrbiicher fiir Dogmatik.
Bd. V. 1861; перепечатано в собрании статей); Rudorff. F. С. v. Savigny.
Erinnerung an sein Wesen und Wirken. Weimar, 1862 (перепечатано из
Zeitschrift fiir Rechtsgeschicte. II); Bethmann-Hollweg. Erinnerung an F. C. v.
Savigny, als Rechtsgelehrten, Staatsmann und Christ. Weimar, 1867. (Пере-
печатано из Zeitschrift fiir Rechtsgeschicte. Bd. VI); Brinz. Die Savigny-feier
am 21 Febr. 1879 // Kritische Vierteljahresschrift fiir Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft. Bd. II (XXI). 1879; III (XXII) 1880 - краткая свод-
ка всего, что написано по поводу столетия со дня рождения Савиньи;
Bruns. Zur Erinnerung an F. С. v. Savigny. 1879 (перепечатано в Kleinere
Schriften. Weimar 1882); Ennecerus. F. C. v. Savigny. Marburg, 1879 (с прило-
жением некоторых неизданных писем Савиньи; другое собрание писем
Савиньи (к Вейсу) издал Schulin в Drei academische Voltage. Basel, 1881);
Landsberg. Savigny (Allgemeine deutsche Biographie. 1890. Bd. XXX. S. 425).
На русском языке следует отметить превосходную статью Муромцева
(в «Очерках общей теории гражданского права». М. 1877, с. 205 слл.),
дающую оценку значения исторической школы, и краткий, но содер-
жательный очерк Нечаева (в Энциклопедическом словаре Брокгауза и
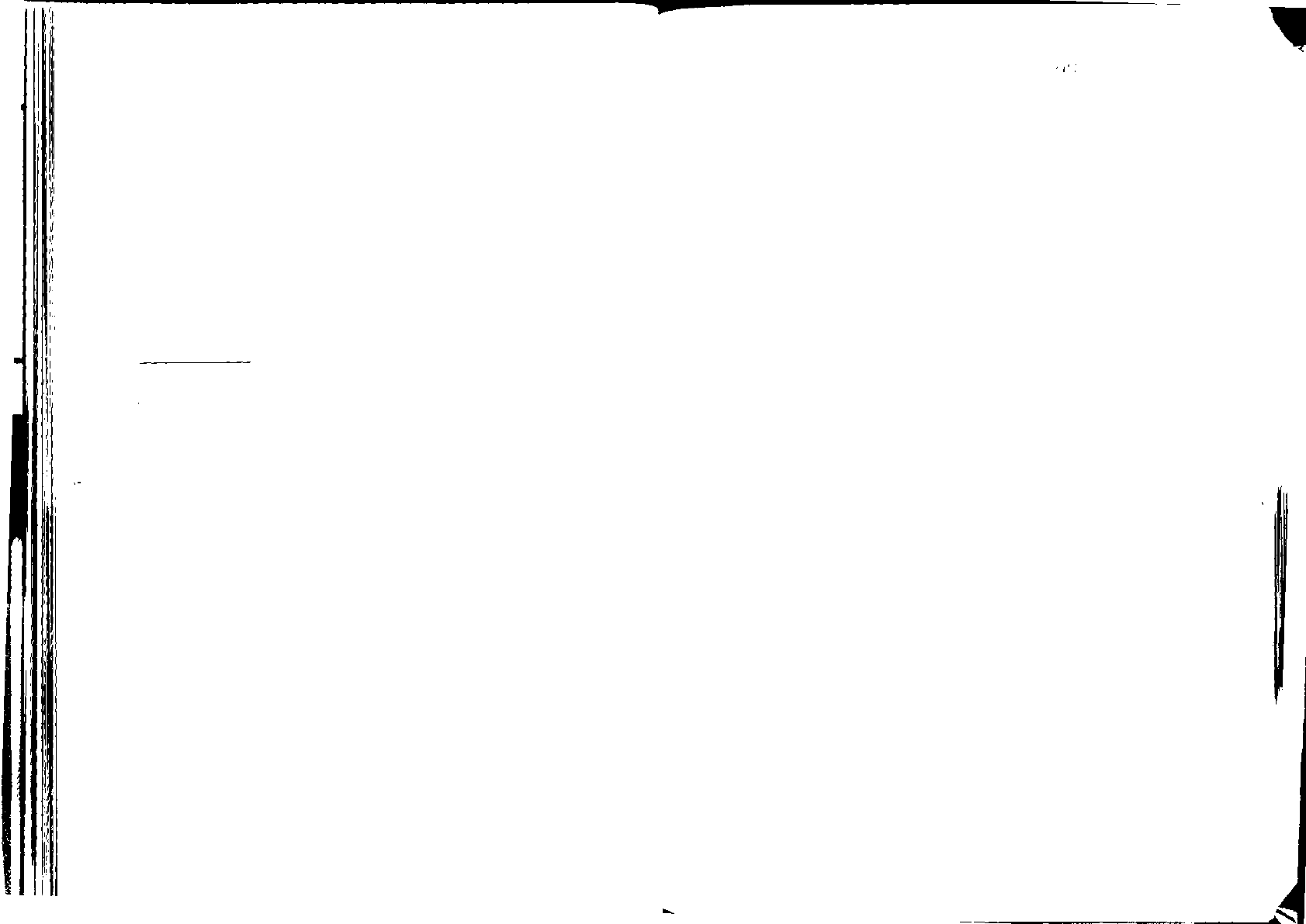
83 НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
' jc 1. Общая характеристика исторической- гг;
философии Савиньи '
Основой воззрений Савиньи на историю является то объектив-
но историческое созерцание, которое со времени Шеллинга
стало достоянием немецкой философии. Подобно современ-
ным ему философам, Савиньи думает, что исторический про-
цесс управляется законом внутренней необходимости. Жизнь
народов, как и отдельных лиц, ни на минуту не знает абсолют-
ного застоя и находится в постоянном движении; но это движе-
ние имеет характер органического и закономерного развития,
исключающего всякую мысль о случае и произволе. Последнее
утверждение служит отличием Савиньи от Канта и Шеллинга
1
.
Корифеи идеалистической философии согласно учили, что
Ефрона, т. 13, с. 478; статья «Историческая школа»). Критическую ли-
тературу об исторической школе см. ниже, глава VI.
Что касается специального вопроса об отношении исторической шко-
лы к естественному праву и к философии права вообще, то он ставился
издавна. Еще сам Савиньи должен был защищаться против обвинений
в отрицании философии права (См.: Vorrede der zweiten Ausgabe. 1828;
по 3-му изд. S. V.). Краткие разъяснения по этому поводу мы находим
уже у Шталя (Stahl. Geschichte der Rechtsphilosophie. III. Aufl. Heidel-
berg, 1856. S. 586; II Aulf. 1847) и Фихте (Fichte I. H. Die philosophischen
Lehren von Recht, Staat und Sitte. Leipzig, 1850. §179, 196), а также у
Рудорфа (Rudorff. F. С. v. Savigny. Erinnerung an sein Wesen und Wirken.
Weimar, 1862. S. 41—43) и Бетманн-Гольвега (Bethmann-Hollweg. Erinner-
ung an F. C. v. Savigny, als Rechtsgelehrten, Staatsmann und Christ. Weimar,
1867. S. 35-36). В недавнее время подробному рассмотрению вопрос
наш был подвергнут в трудах Штаммлера (Stammter. Ueber die Methode
der geschichtlichen Rechtstheorie. Halle, 1888) и Бергбома (Bergbohm. Ju-
risprudent und Rechtsphilosophie. Leipzig, 1892), в каждом — с особен-
ной точки зрения. Относительно интересной книги Штаммлера я дол-
жен заметить, что рассуждения его, вполне применимые к позднейшим
стадиям исторической школы, не совсем подходят к доктрине Савиньи
и Пухты, у которых историческая теория была не только методой, но и
философским созерцанием. Как признает сам Штаммлер (см. указ. соч.,
с. 9, 30, 31, 34), основатели исторической школы не ограничивались
принципиально одной эмпирической методой, в чем он винит их поз-
днейших преемников. Допуская философское исследование наряду с
историческим, их доктрина могла служить отрицанием естественного
права не по характеру своей методы, а по смыслу положенных в ее ос-
нование философских начал, и прежде всего в силу органического уче-
ния о праве (дальнейшие рассуждения см. в тексте). О труде Бергбома
см. ниже, с. 99 сн.
1
См. выше, с. 61 слл. < " ,
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
101
общий план, с необходимостью осуществляющийся в истории,
допускает частные отступления и произвольные действия. Са-
виньи, напротив, очень настаивает на том, что исторический
процесс совершается независимо от индивидуального произво-
ла. В своем стремлении подчеркивать органический характер
истории он приходит к крайнему выводу, отрицающему всякое
участие человеческой воли в историческом развитии.
Этот вывод подкрепляется в доктрине Савиньи ученьем о
национальном сознании как источнике исторических проявле-
ний народной жизни. Все эти проявления имеют, по его мне-
нию, свою последнюю основу в общем убеждении народа, оди-
наково присущем всем его членам. Независимое от личных и
частных мнений оно господствует над ними как прирожденное
достояние каждого. Повинуясь закону внутренней необходимо-
сти, оно постепенно раскрывает свое содержание в истории.
Согласно этому воззрению, развитие права, как и других сторон
народной жизни, совершается в сфере безличного народного
духа, в которую не проникают ни страсти людей, ни случайные
превратности истории. Это придает положительному праву
особенное значение. Как органический продукт внутренних
сил народа оно приобретает высший авторитет и становится
одинаково неприкосновенным как для общества, так и для пра-
вительства. С этой точки зрения теоретические построения
идеального права должны казаться жалкими попытками субъ-
ективного разума изменить естественное течение истории.
Как мы можем отсюда видеть, в теории Савиньи положи-
тельное право уже в силу своего происхождения наделяется
высшим моральным авторитетом. В этом заключается его су-
щественное отличие от Гуго; в этом же состоит и особенность
его отношения к естественному праву. Для гёттингенского пи-
сателя последней санкцией права являлось его соответствие
однажды сложившимся отношениям. Вопрос о нравственном
оправдании юридических норм у него совершенно отпадал, и,
как мы видели, Гуго готов был мириться со всяким содержани-
ем права, лишь бы только оно утвердилось в обществе. Подоб-
ное воззрение устраняло, конечно, основную проблему естест-
венного права, но само по себе оно создавало серьезные затруд-
нения для его сторонников. Не говоря уже о том, что оно шло
вразрез с присущим обществу сознанием связи между правом
и нравственностью, оно являлось также противоречием идее
прогресса. Не разрешая нравственных сомнений относитель-
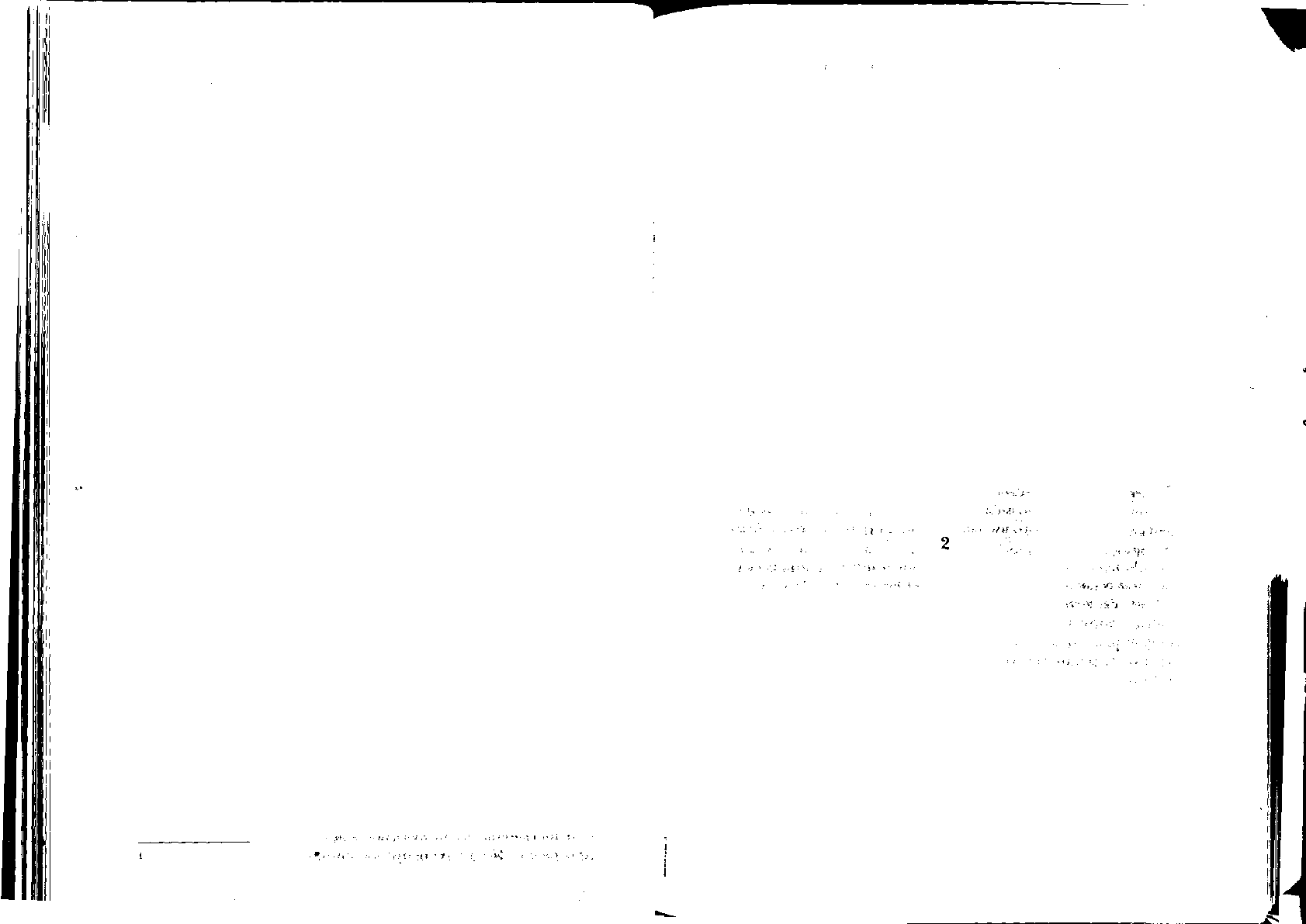
84
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
но положительного права, оно лишь обходило их, ссылаясь на
то, что надо принимать всё как есть.
Савиньи нашел другой выход, который позволял ему, не от-
рицая идеи прогресса и нравственной сущности права, выска-
зываться против естественно-правовой идеи и стоять за исто-
рические установления. Если рационалистическая философия
отрицала положительное право на том основании, что оно яв-
ляется продуктом случая и произвола, то он попытался в самих
условиях происхождения права найти для него нравственное
оправдание. Таков был смысл его учения об органическом раз-
витии юридических норм из национального сознания.
Если бы это воззрение могло быть обосновано историчес-
ки и философски, то оно, конечно, способно было бы в самом
корне подорвать идею естественного права. В самом деле, если
положительное право является органическим продуктом на-
родного сознания, создающимся помимо человеческой воли,
то критика его становится излишней и неуместной
1
. С точки
зрения органической теории, необходимое развитие права со-
вершается естественным течением истории: право теряет свои
устаревшие части, как дерево — отжившие листья. То, что про-
изводится историей, и есть идеальное и лучшее. Подобное воз-
зрение было прямым отрицанием естественно-правовой идеи.
Критика существующего имеет смысл лишь с точки зрения иде-
алов и целей, не реализованных в действительности. Если же в
истории все совершается само собой, с разумной необходимо-
стью и в надлежащее время, то дуализм нравственного созна-
ния и положительного права, а следовательно, и нравственная
критика положительных установлений, должны быть призна-
ны невозможными.
Устраняя возможность критики положительных институ-
тов, теория Савиньи угрожала также идее общих начал право-
образования, которые всегда составляли опору естественно-
правовых стремлений. При обсуждении существующего поряд-
ка можно отправляться и от частных и местных соображений,
которые представляются вытекающими из данных условий.
Но естественно-правовая доктрина в силу нравственного ха-
рактера своей критики стремилась обыкновенно к отысканию
общечеловеческих основ права, опираясь на которые можно
было бы высказывать общеобразовательные требования. При-
Ср. Введение, с. 10 слл.
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
101
знавая источником правообразования неразложимый и не-
объяснимый далее национальный дух, Савиньи, по-видимому,
полагал преграду для этих стремлений, как и для философско-
юридических исследований вообще. Если каждое положитель-
ное право представляет собой самобытный продукт народного
творчества, не имеющий сходства с другими, то идея общности
правовых основ должна быть отвергнута.
Все эти выводы могли, однако, иметь значение лишь в том
случае, если бы теория органического и национального проис-
хождения права, обеспечивающая уверенность в его нормаль-
ном развитии, имела всеобщее применение в истории. Допус-
кая возможность фактических отступлений от этой истории,
мы тем самым допускаем и возможность сомнений в неизмен-
ной разумности исторического права. С другой стороны, внося
поправки и ограничения в националистическую теорию право-
образования, мы должны прийти и к признанию общих начал,
лежащих в основе различных прав.
Обратимся же теперь к анализу учений Савиньи, чтобы
определить подлинный смысл его утверждений. Ближайшее
знакомство с этими учениями покажет нам, что в них далеко
нет той цельности, какой их обыкновенно наделяют.
а) Теория органического развития права
b ) Роль законодательства ,
с)Национальный характер права .. , ^ ,, .
а) Первоначальные положения Савиньи относительно орга-
нического развития права высказываются им, по-видимому, в
форме безусловной. Таков смысл этих хорошо известных ут-
верждений его брошюры:
С самого начала истории право, подобно языку, нравам и
учреждениям, имеет определенный характер, свойственный
данному народу. Все эти проявления народной жизни в действи-
тельности неразрывно связаны между собой и только представ-
ляются нам обособленными. Их связью служит общее убежде-
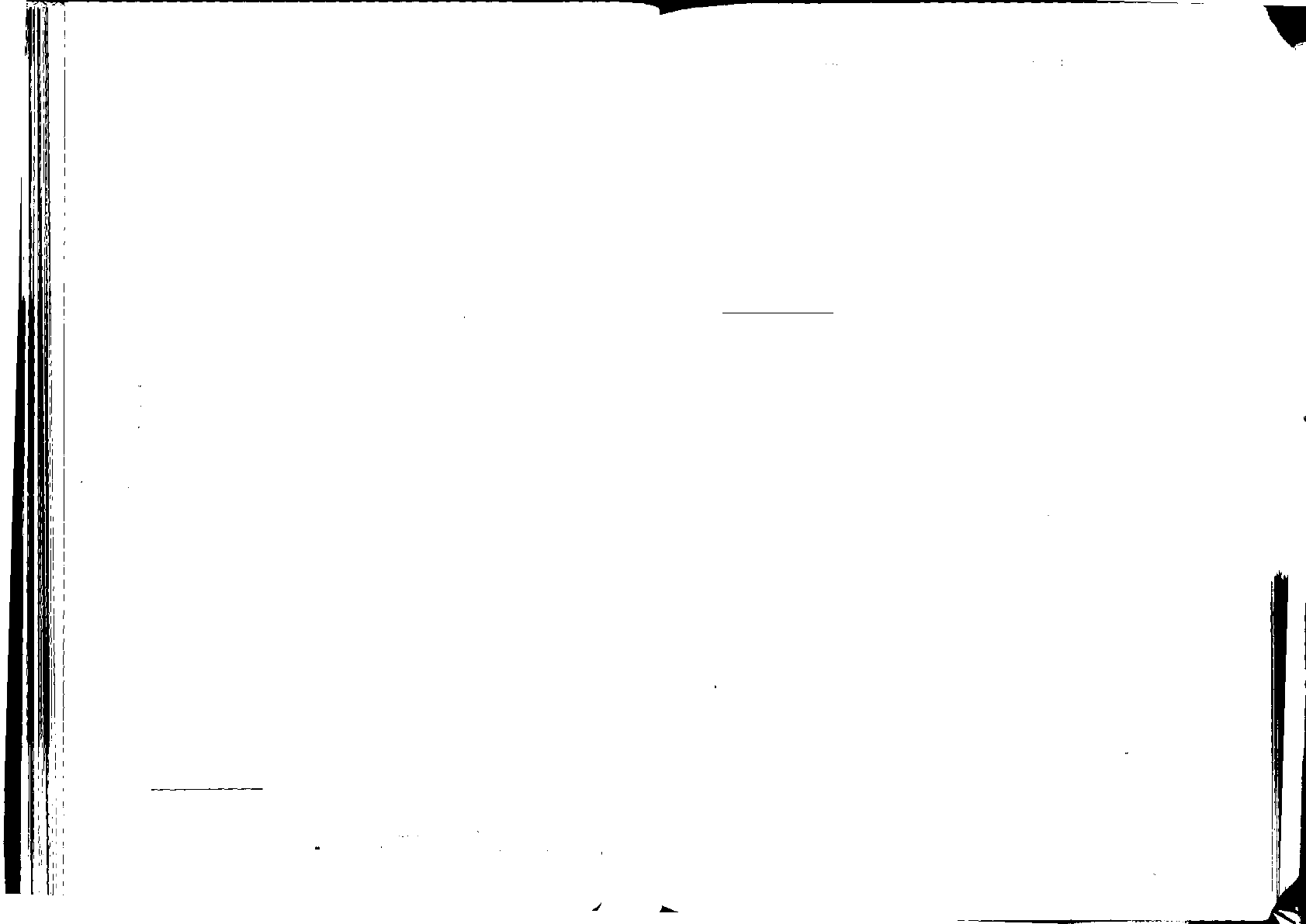
87
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ние народа и одинаковое чувство внутренней необходимости,
исключающее всякую мысль о случайном и произвольном про-
исхождении. Подобно возникновению, и дальнейшее развитие
права стоит в органической связи с сущностью и характером
народа: им управляет тот же закон внутренней необходимости.
Заключенное первоначально в общем сознании народа, оно
начинает разрабатываться с развитием культуры, сословием
юристов. Но и здесь оно не перестает быть частью народной
жизни и продолжает развиваться путем органическим. Таким
образом, все право повсюду создается не произволом законодате-
ля, а при посредстве внутренних, незаметно действующих сил,
как право обычное
1
.
Савиньи говорит здесь: alles Recht und liberal! [всё право и
повсюду] , и только в этой категорической форме его утверж-
дения имели бы свое значение, в смысле отрицания естествен-
но-правовой идеи. Однако, приписавши происхождение права
1
действию внутренних тайно действующих сил, он сам считает
нужным сделать при этом известные ограничения. Здесь пред-
полагается, замечает он, беспрепятственное национальное раз-
витие, совершающееся без чуждых влияний; с другой стороны,
не отрицается частичное воздействие на гражданское право за-
конов — как благодетельное, так и вредное
2
. Савиньи допускает,
следовательно, как возможность иноземных влияний, так и слу-
чаи законодательного вмешательства в органическое течение
жизни.
Из дальнейшего изложения мы узнаем, что образцом чисто
органического развития, на основании которого Савиньи по-
строил свою теорию, служило для него право Древнего Рима.
Новые формы создавались здесь в непосредственной связи со
старыми, и юридическое мышление постепенно переходило от
крайней простоты к высшему разнообразию без внешних пре-
пятствий и перерывов. Все римское право развивалось изнут-
ри, как право обычное
3
. Что же касается Германии и вообще
новых народов, то у них не было непрерывного национального
развития. Они рано подверглись римскому влиянию; а с другой
стороны, постоянные передвижения и столкновения с други-
ми племенами и внутренние революции, незнакомые римские
1
Savigny. Vom Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung und Rechtswissenschaft.
III. Aufl. S. 8-14.
2
Ibid. S. 14.
::
' ' i••••'" ' '•••:• ''•'••• ••
3
Ibid.S. 32fF. •>, • . ' 4f • • -
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
101
истории, совершенно изменили первоначальные их установле-
ния. Когда выработалась феодальная система, от старой нации
не осталось более и следа. Это превращение уже совершилось,
когда римское право получило доступ в Германию
1
.
Из этого мы видим, что органическое развитие права, воп-
реки общему смыслу первоначальных утверждений, представ-
ляется Савиньи скорее желательной нормой, встречающейся
при известном сочетании условий, чем необходимым истори-
ческим явлением, наблюдаемым повсюду. Но подобное изме-
нение органической теории лишает ее того значения, которое
она могла иметь в борьбе с естественным правом и кодифика-
1
Ibid. S. 38—39. В связи с этим следует толковать и учение Савиньи о фак-
те рецепции. «Давнишние указания на несовместимость этого факта с
националистической теорией происхождения права, верные сами по
себе, в отношении к Савиньи устраняются собственными его оговорка-
ми по этому поводу. Лишь в общих своих рассуждениях он настаивает на
том, что «содержание права вытекает из внутреннего существа нации»
(см. особ. Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. I. S. 6). Пе-
реходя к рассмотрению конкретных исторических явлений, он допуска-
ет и возможность заимствований. Влияние общей точки зрения сказы-
вается разве только в утверждении, что «первоначально чуждое право,
веками живя в известной нации, делается частью ее собственного суще-
ства» (Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. III. 1816. S. 6;
перепечатано в Savigny. Vom Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft. Beilagen. S. 166). Вообще же Савиньи уже в своей
брошюре признает, что у новых народов не было непрерывного нацио-
нального развития. Не менее ясные указания на этот счет мы находим
и в «System des heutigen rdmischer Recht» (1840). Нам недостает, гово-
рит здесь Савиньи, собственного, вместе с нацией выросшего права
(с. 92). Водворение у новых народов права римского он объясняет тем,
что они не были призваны в такой мере, как древние, к замкнутой на-
циональности: общая христианская вера связала всех их невидимыми
узами, если и не уничтожила их национальных особенностей (S. 80. Ср.
также: Savigny. Geschichte des rdmischer Recht im Mittelalter. Bd. III. §33.
Последнюю ссылку делаю по указанию Савиньи). Может быть, в целях
согласования этого воззрения с общими началами своей теории Сави-
ньи поясняет, что римское право нашло доступ в новые европейские
государства в качестве права обычного, явившегося продуктом неятель-
ности ученого сословия юристов (Savigny. System des heutigen romischer
Recht. §18, S. 78 u. §19). Оставляя в стороне вопрос, насколько удачно
было обозначение реципированного римского права правом обычным,
хотя бы и утвердившимися при помощи юристов, я должен, однако, в
признании факта общности правообразования у новых народов под-
черкнуть сознательное отступление Савиньи от националистической
теории.
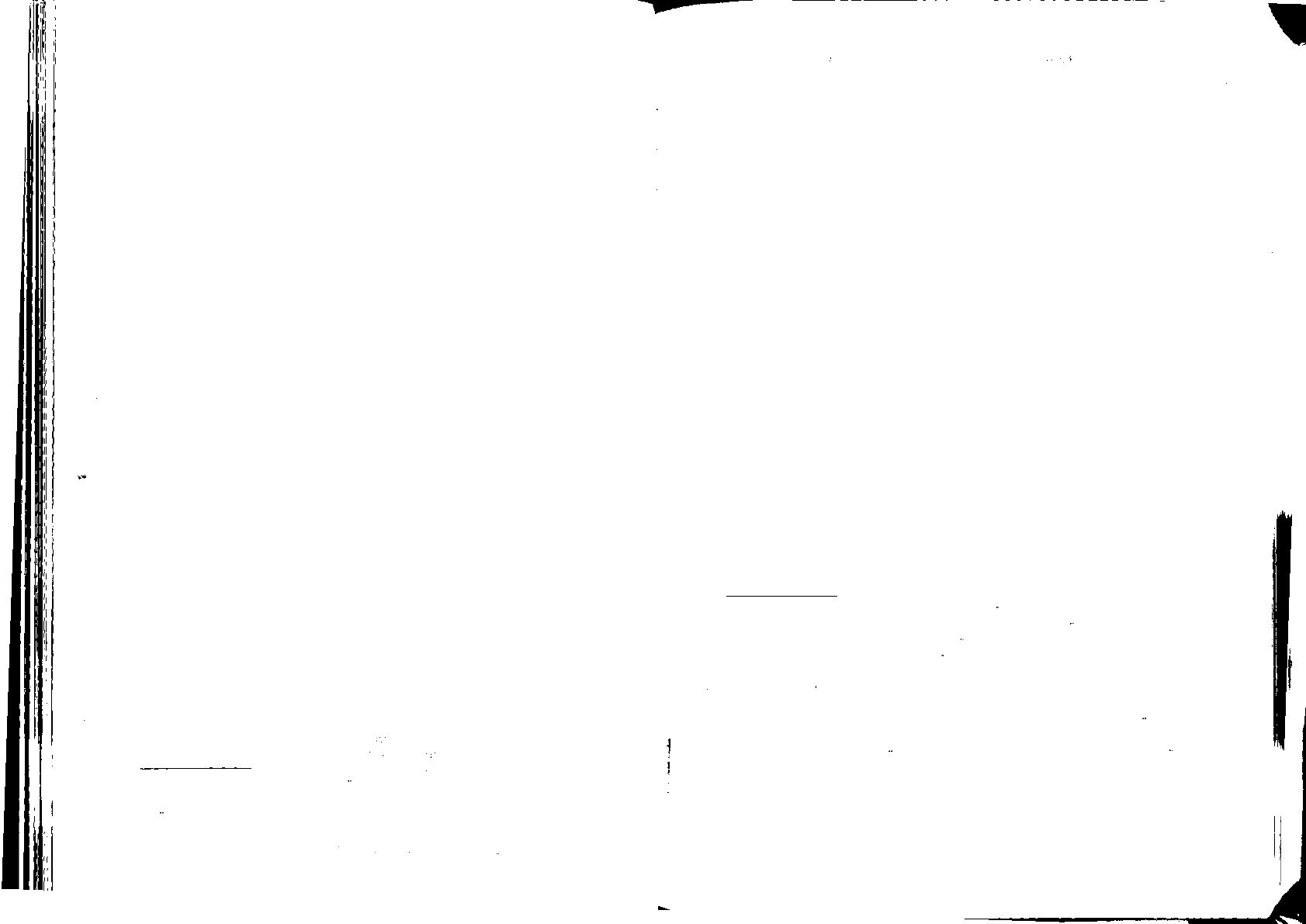
89
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ГЛАВА IV. САВИНЬИ
101
ционными стремлениями. Если не всякое положительное пра-
во есть продукт органического развития, то не всегда, следова-
тельно, можно рекомендовать законодателю безусловное ува-
жение к положительным установлениям. Различая в истории
органические продукты от неорганических, мы тем самым до-
пускаем критическую точку зрения по отношению к историче-
скому праву.
В сочинениях Савиньи нетрудно найти и другие примеры
того, как постоянно, при встрече с историческими фактами,
он должен был отказываться от строгих начал органической
теории. И случай, и произвол, и личное начало вообще — все
эти понятия старой теории правообразования, с такой энер-
гией отвергнутые первоначально, вновь получили доступ в
новое учение, которое, вследствие этого, утратило свою цель-
ность и последовательность. Правда, все эти допущения дела-
лись в виде частных и попутных замечаний, но от этого они
нисколько не теряют своего значения. Так, например, в «Сис-
теме современного римского права», протестуя против учений
о произвольном и случайном образовании государств, Савиньи
признает, что иногда государства создаются под влиянием на-
сильственных актов: так бывает при завоевании и раздробле-
нии территорий
1
. «Подобные события, — прибавляет он, — как
бы часто они ни встречались в истории, суть не более как ано-
малии. Народ остается и в этом случае естественным базисом
государства, а внутреннее развитие — нормальным способом
его образования. Если в этот естественный процесс вторгается
чуждое историческое влияние, то оно может быть преодолено
и переработано нравственными силами народа. Если это не
удается, тогда водворяется болезненное состояние»
2
.
Допуская возможность исторических аномалий, Савиньи
невольно впадал в круг естественно-правовых понятий. По-
требность критического отношения к истории сказывается и
у него. Новые подтверждения этому мы находим в его взглядах
на роль законодательства. Савиньи и здесь не остался верен на-
чалам органической теории.
1
Savigny. System des heutigen romischer Recht. Bd. I. S. 31. «Allerdings
kann auf die Bildung der Staaten Zufall und Wiilkiihr grossen Einfluss aus-
uben...» [«Иногда случай и произвол могут иметь огромное влияние на
становление государств...» (нем.)].
2
Ibid.S. 31-32.
b) Как я заметил уже выше, органическая теория Савиньи
вовсе не состояла в противоречии с идеей прогресса. Не остав-
ляя своей точки зрения, он мог вполне последовательно защи-
щаться против упреков в проповеди застоя
1
. Если он и говорил о
невозможности прервать нити исторического развития, о влия-
нии сложившихся взглядов и сил утвердившихся отношений, об
отражении старых традиций на постановке новых вопросов и на
их решении
2
, то все это обозначало лишь признание власти про-
шлого, но вовсе не исключало возможности прогрессивного дви-
жения. Несомненно, однако, что органическое учение, допуская
идею прогресса, обрекало законодательство и юриспруденцию
на чисто пассивную роль свидетелей непроизвольного развития
народного духа. Из основных начал этого учения само собой вы-
текало требование правительственного невмешательства.
В брошюре Савиньи это требование было преобладающим
практическим мотивом. Не говоря уже о кодификации, он во-
обще считал здесь опасным всякое произвольное изменение
существующих установлений. В сущности, единственной нор-
мальной функцией законодательства он признавал (в этом ран-
нем своем произведении) лишь то содействие, которое может
быть оказано законом обычному праву в виде установления
большей определенности его положений (например, относи-
тельно давностных сроков), разрешения контроверз и выясне-
ния старых обычаев
3
.
Соответственно с этим Савиньи высказывает в своей бро-
шюре полное недоверие спасительной силе законов. Он счита-
1
См.: Savigny. Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechts-
wissenschaft. III. Aufl. S. 117; Verm. Schriften. Bd. V (Conner's Rezension)
S. 141. Savigny. System des heutigen romischer Recht. Bd. I. S. XIV.
2
Savigny. Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft.
III. Aufl. S. 112-113. §39.
3
Ibid.S. 16—17и 131. На этих страницах Савиньи говорит также вскользь
об изменении существующего по высшим политическим соображе-
ниям, рекомендуя при этом величайшую умеренность (die hochste
Sparsamkeit) ввиду легкой возможности бесплодного искажения пра-
ва. В статье «Stimmen fur und wider neue Gesetzbiicher» (Zeitschrift fur
geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. III. Heft 1. 1816) Савиньи пытал-
ся показать, что он вовсе не хочет сделать из государства пассивного
зрителя правообразования; но и здесь он допускает лишь такую зако-
нодательную деятельность, которая не нарушает естественного хода
событий (1. с. S. 47—48. см. также прил. 1 к «Vom Beruf unserer Zeit fiir
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft», S. 188).
