Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы
Подождите немного. Документ загружается.


представлены скифские воины, натягивающие лук и ухаживающие за ранеными товарищами; на
знаменитом золотом гребне из Солохи (IV в. до н. э.) скифы сражаются верхом: вырезанные
фигуры воинов образуют уравновешенную геометрическую композицию в соответствии с
техникой, часто используемой в скифском искусстве и достаточно редко у греков. Сцена охоты,
изображенная на кубке из Солохи — еще одно произведение греческого чеканщика, — содержит
многочисленные иконографические элементы, заимствованные в скифской среде. Возможно, мы
недооценивали национальную восприимчивость кочевников, уделяя слишком мало внимания
эллинизму.
В начале IV в. до н. э. массивный импорт расписной керамики из Афин, с которой связаны вазы из
Керчи, свидетельствует о более широкой эллинизации. Отметим по этому поводу, что ремесло
городов Понта не создало своей собственной расписной керамики: здесь производились
исключительно металлические изделия, потому что дорогостоящая посуда не входила в специа-
лизацию скифского ремесла. С наступлением эллинистической эпохи приходят новые иноземные
элементы — прежде всего персидские, — которые пользовались большим спросом, но не были
приняты. Знаменитое колье, или «узел Геракла», нэ кургана Ар-тюковский, украшенное
разноцветными камнодй, еще одно колье из Херсонеса с богатым рельефным декором и
роскошные серьги из Феодосии, с филигранью, розетками, завитками, растительными элементами,
небольшими фигурами Ники и лошадей — богатством, которое выходит далеко за греческие
рамки, соответствовали в своей барочной вычурности варварскому стилю, но не копировались.
Древние источники скифского искусства связаны с мотивами, широко распространенными в
азиатском мире, которые трансформировали стиль кочевников в декоративном плане схе-
матизацией, если не абстракцией. Волны, которые хлынули в это время на равнины бассейна
Волги с Нижнего Дона, Днестра и Днепра, контактировали с весьма разнообразной азиатской
средой
181
Часть III Континентальная Европа
на пространстве огромной протяженности. Очевидно, они принесли, помимо великих достижений
главных цивилизаций Азии, преобразования в орнаментальной области; одновременно рас-
пространялась и коммерческая продукция. Именно поэтому репрезентативное, нарративное в
историческом и мифическом смысле искусство не вызывало отчуждения в скифском сознании,
которое, напротив, интересовалось отдельными элементами и декоративными композициями.
Скифская религия, спиритуалистическая и магическая, если исключить некоторые остатки то-
темизма, не использует в искусстве изображения человека. Фигуры животных — на этом основана
уверенность исследователей в тотемических пережитках — доминируют в темах скифского
искусства, но наряду с животными, связанными с повседневной жизнью, такими как олени или
лошади, появляются, например, кошачьи, которые не были представителями местной фауны. Лев,
в частности, заимствуется с Ближнего Востока.
Важно не упускать из виду связь между декоративным элементом и предметом, который он
украшает. В общем, не только предмет предопределяет декоративную структуру, но и фигурный
элемент диктует форму предмета, в отличие от искусства кельтов, которые украшают, строго
соблюдая функциональные формы. Так, например, очень часто элементы фигурного декора
проходили тщательную отделку, а затем прилаживались к предмету — речь идет о композициях из
Пазирика или статуэтках, встроенных в понтийские деревянные саркофаги. Вот что объясняет
золотые и бронзовые вставки и золотые брактеи, которые обнаружены в некоторых курганах юга
России и прилегающих районов. Фигуры, как правило, создавались отдельно, затем вставлялись
различными способами в декоративную композицию, тогда как в традиции Средней Азии они не
образуют симметричного, геральдического равновесия. Поскольку эти элементы не
рассматривались с точки зрения других составляющих, они замкнуты на самих себе: отсюда
преувеличения, настоящее буйство органической формы, которая, разрушаясь, сводится к
абстракции и чистому декору. У оленя со стоянки Костромская, который датируется VII или VI в.
до н. э. — эпохой скифских побед на Ближнем Востоке, — рога выполнены в виде серии спиралей,
а пластика сводится к изображению самого существенного; эта несогласованность частей,
182
Глава 9 Евро-азиатские потоки. Скифы
создававшихся как автономные элементы, является художественной, декоративной. Она
присутствует в графических изображениях на золотом листе, который окружает рукоятку
железного топора из кургана Келермес (VI в, до н. э.) цветными бликами и оттенками, в пантере из
того же кургана, уши которой выполнены в технике клуазоне, а на лапах и хвосте изображены

фигурки свернувшихся в клубок животных. Рыба из катаного золота из Веттерс-фельде (VI в. до н.
э.; современная Восточная Германия) — одна из самых натуралистичных — содержит немало
греческих элементов в рельефных изображениях животных на ее поверхности и бараньих голов на
концах хвоста; тритон с рыбами в нижней части соответствует греческой архаической детали,
которая свидетельствует об эклектическом характере этого ремесла. Подобные замечания можно
сделать по поводу схематизированного оленя из Куль-Обы, покрытого изображениями реальных и
фантастических животных в эллинизированном стиле. Вопреки общепринятой точке зрения,
сомнительно, что это произведение греческого ремесленника. В первой половине V в. до н. э., о
которой идет речь, скифские ремесленники начали с интересом обращаться к образному миру
греков, но их привлекали в нем только отдельные элементы, а не весь ансамбль и его возможный
смысл. На крышке из сплава золота и серебра из кургана Келермес чередуются архаичные
ионические элементы (сфинкс) с элементами азиатской традиции, интерпретированными в
эллинизированных формах. Патера из Солохи, которая представляет многочисленных животных в
поразительных ракурсах^ имее.' натуралистический характер: никакого схематизма в et
композиции не наблюдается. Эта работа была выполнена греком.
Скифы Запада узнали греков в изображениях, сделанных ими самими, но скифские персонажи,
которые украшают многочисленные золотые брактеи с отдельными или объединенными в пары
чеканными фигурами, — чужды композиционной структуре, в которую они включены, поскольку
декорированы в соответствии с локальной традицией. Их местный характер проявляется в
отсутствии композиции, которая поддерживала бы изображения скифов, выполненные греками; их
интерес выражается только по отношению к деталям одежды и позам; пропорциональные связи
разрушаются. На пластинках, для которых менее
183
Часть III Континентальная Европа
характерны фигурные группы, композиция организуется полностью во фронтальной плоскости,
как в некоторых поздних и очень редких работах по камню. Благодаря археологическим находкам
в Алтайском регионе мы получили представление о границах сравнения, что очень важно. Эта
среда, которой не достигли греческие влияния, дает нам подтверждение фундаментального
единства Скифии. Алтайские захоронения сохранили множество деталей, имеющих чаще
техническую, чем художественную, ценность; многочисленные находки, связанные главным
образом с одеждой, свидетельствуют об уже подчеркнутом стиле скифов в одежде, убранстве и
роскошной конской сбруе. Открытия в этом регионе составляют особый раздел наших знаний о
скифском мире и позволяют составить представление о предметах из тленных материалов,
сохранившихся благодаря чрезвычайно холодному климату, тогда как западные находки
представлены лишь металлом и керамикой. И даже если речь не идет о произведениях искусства,
они показывают, какое значение у скифов имел культ красоты: это изысканные произведения,
редкостные вещи, Они увлекают нас чарующей игрой цвета и ярким блеском. Ремесло Алтая по
существу своему декоративно и анималистично: поразительно яркие натуралистические черты
сопровождаются усовершенствованными стилизациями, фантастическими абстракциями. Среди
наиболее красивых из известных рисунков этой группы нужно отметить татуировку предводителя,
погребенного во втором кургане Пазирика. Удивительно и невероятно, что обнаружена
татуировка, представляющая собой замечательное произведение искусства. Фигура человека не
игнорируется: так, на войлочном ковре изображен правитель на лошади перед Великой Богиней,
восседающей на троне. До сих пор это самая яркая сцена, найденная у восточных скифов. Они
заимствовали изображение человека в искусстве Китая и Ближнего Востока через посредство
Ирана, как их братья по расе, обосновавшиеся на другом конце степи и принятые греками.
На Западе, наряду с расцветом греко-понтийского искусства и эллинистическими привнесениями,
претерпевает эволюцию скифское искусство: пластический характер анималистических
изображений уступает место стилизации и рисунку. Декоративная абстракция остается наследием
прежде всего древнего
184
Глава 9 Евро-азиатские потоки. Скифы
скифского мира: верхняя часть скипетра из Улы, графически воспроизводящая голову птицы,
изображение которой накладывается на рельеф небольшой лошади, датируется серединой VI в. до
н. э. Это наложение, которое мы уже наблюдали в рыбе из Вет-терсфельде и олене из Куль-Обы,
является обычным приемом: стилизованное животное на диске из Кулакорски (Симферополь) уже
не просто фигурка барана, «двойные животные» на золотых и костяных дощечках Киевской
группы — еще один пример. Великолепно стилизованному декору чеканных золотых рыб из

Кимбала Могила соответствуют экспрессионистские в гравировках на кости Киевской группы
изображения птичьих голов. Головы комбинировались с пальметтой в небольшие декоративные
композиции в VII в. до н. э. (Тенир, Келермес), затем в V—IV в. до н. Э; (Семибратское,
Журовская, Акмечеть). На ручке кубка из Солохи, датированного концом V в. до н. э., они
образуют сплошной декоративный ряд, а отдельные их элементы Напоминают непосредственно о
кельтском искусстве. Мы уже подчеркнули значение гравированной кости: этот материал сам
подсказывал формы и снабдил модели техникой чеканки металла. Но очевидно, нужно учитывать
также тенденции и стиль самих скифов, помимо этих простых технических совпадений. На
Кубани переход от пластического стиля к простой линейной декоративности хорошо
проиллюстрирован изображением двух стоящих друг против друга оленей. Олень с
симметричными рогами, пластически выразительный, обнаруженный в Семибратском кургане,
встречается и в другой, более поздней группе, по-прежнему на Кубани, но декоративная тема
рогов сводится к простому изображению волнообразных мотивов, а фигура олень растворяется в
декоративной гравированной розетке. Этот процесс абстракции длится не более века. Параллельно
совершается распад декоративных элементов, как, например, в ажурном киме скипетра из Мелито-
поля. Различные части рассматриваются как автономные единицы, каждая из которых могла быть
одушевлена и индивидуализирована. Этот стиль проявляется также в ремесле Западной Сибири
между I в. до н. э. и I в. н, э. в ажурных деталях с тенденцией к абстракции: пантера нападает на
оленя, рога и хвост которого оканчиваются головами змей, а тело украшено изображениями
различных животных. Другую группу украшают цветные блики
185
Часть III Континентальная Европа
вставленных камней, которые сводят на нет пластический элемент, расщепляют форму и
орнаментальный стиль и напоминают иногда об античном натурализме, декантированном и обнов-
ленном. Так, на сарматской пластинке за динамической линейностью изгибов тел, создающих
замкнутую композицию, хотя и в абстрактных и несвязных формах, проступает прыжок пантеры и
падение сраженной лошади — такой выразительности скифское искусство еще не знало.
В западном культурном пространстве скифов выделяют различные группы: группы Крыма,
Кубани, Верхнего и Нижнего Днепра, близ Воронежа, Киева, Полтавы, — но их различия более
ощутимы в деталях, чем в стиле. Это объясняет, если подумать, то, что в открытом и подвижном
мире русской равнины, несмотря на огромные расстояния, изменения происходили легко. Здесь
предстают перед нами более явные отличия между собственно скифским .периодом, который
продолжается до конца IV в. до н. э., и сарматским периодом, который характеризуется большей
любовью к цвету и греческим влиянием, проявляющимся скорее в технике, чем в иных элементах.
Но второй период является лишь продолжением первого и подтверждает, что пространство между
Кавказом, Уральскими горами и нижним Дунаем играло роль моста между Европой и необъятным
азиатским миром. К IV в. до н. э. скифские влияния встретились на Балканах с западными
влияниями цивилизации Ла Тен. Этот регион оказался открытым также для потоков, пришедших с
Востока, но скифы утратили здесь изначальную оригинальность своего традиционного искусства.
Глава 10
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ. КЕЛЬТЫ
Начиная с середины VI в. до н. э. кельты доминируют внутри европейского континента. Не нужно
рассматривать их, как делалось ранее, только как предков французской нации, или носителей
цивилизации Ла Тен, или народы, находящиеся на стадии особенно динамичного развития,
влияние которых хорошо ощущалось за пределами их территории. Однако кельты оказались
именно той континентальной силой, которая определенно нашла свое место в истории древнего
мира. Контакты, которые они установили с народами Средиземноморья во время их миграции, а
затем торговые и политические отношения сделали кельтов одним из первых этнических
объединений, которое фигурирует в наших исторических источниках. Некоторые из них позволя-
ют нам предположить, что кельты окончательно обосновались на Западе уже в VI в. до н. э., хотя
географические знания греков тогда были неточными. «Отец» греческой истории, Г-зкатей из Ми-
лета ', знал, что греческий город Марсель, расположенный на побережье Лигурии, соседствует с
территорией кельтов, а чуть позже путешественник Авиен отметил, что кельты оттеснили лигу-
ров к Альпам. Согласно Титу Ливию, битуриги и их объединения, готовясь перейти Альпы под
руководством Белловеза, пришли на помощь фокейцам, когда лигуры препятствовали
установлению
1
Историк и географ из Ионии, живший вУ1 в. до н. э. Автор сочинений
«Путешествие вокруг мира» и «Генеалогии», сохранившихся точько фрагментарно.

Часть III Континентальная Европа
их колонии в Марселе. Эти события имели место во времена Тар-квиния Древнего ', то есть в
начале VI в. до н. э. Немного позже у Геродота мы читаем, что кельты обитают в районе истоков
Дуная, и если они еще не достигли Средиземноморья, то уже занимают территорию по другую
сторону Геркулесовых Столбов на побережье Атлантики. Наконец, во второй половине IV в. до н.
э., их значение и слава становятся такими, что Эфор Кумский признает за ними весь северо-запад
территории, занятой некогда племенами лигуров. С этих пор размещение кельтов в данном
регионе становится очевидно достоверным. Но грекам, которые опирались зачастую на сведения
моряков, было известно только о прибрежных кельтских территориях. Это одна из причин того,
что историческая Галлия была известна лучше и дольше, чем другие занятые кельтами регионы.
Эти тексты очень неполно освещают прошлое кельтов, сообщая об их существовании начиная с VI
в. до н. э. до появления цивилизации Ла Тен. Должны ли мы, таким образом, заключить, что эти
народы были уже сформировавшимися? Сегодня этот вопрос не вызывает сомнения: все
исследователи соглашаются с точкой зрения, что некоторые кельтские группы являлись но-
сителями гальштатской цивилизации. Но остается открытым вопрос, принадлежит ли культурный
вид Ла Тен собственно кельтам исторической эпохи. Нужно подчеркнуть, что цивилизация Ла Тен
развилась на гальштатской основе. Если принимать во внимание все свидетельства в целом,
особенно с хронологической точки зрения, выходит, что Ла Тен — современница исторических
походов кельтских групп; нельзя сказать, что кельты сразу выступают как носители цивилизации
Ла Тен, — скорее Ла Тен представляет собой лишь выражение культуры этих народов в период их
«вхождения» в историю. Ее вариации во времени и пространстве отражают внутренние перемены;
именно им она обязана своим распространением и влиянием.
Истоки цивилизации Ла Тен, названной по швейцарской стоянке на реке Тиель
2
, вне всякого
сомнения, следует искать
1
Тарквиний Древний (616—579 гг. до н. э.) — пятый правитель Рима, пер-
вый этрусский правитель в Риме.
1
Тиель (Орб) — река во Франции (Лангедок), которая пересекает г. Беэье
и впадает в Средиземное море.
188
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
в Центральной Европе, даже если основным историческим местопребыванием кельтов являлась
собственно Галлия. Но нужно помнить, что под Центральной Европой подразумевается доста-
точно обширная зона, чтобы учесть подвижный характер населения.
Кельты затронули огромную часть Европы, от Италии до Британских островов, от Иберийского
полуострова до Балкан и окраин Южной России и Понта. Анатолийские ветви, в частности ветвь,
упомянутая Анри Губером, — не более чем часть европейской кельтской системы. Хотя сама по
себе она представляет огромный интерес, в рамках данной книги мы можем лишь упомянуть о
кельтском расселении, связанном с институтом наемничества, которое привело кельтов в Азию, на
Сицилию, в Карфаген и Египет.
Если не брать во внимание, естественно, условную дату 500 г. до н. э. как исходный момент
цивилизации Ла Тен, то образование этой цивилизации совпадает с исторической экспансией
кельтских групп на Западе. Динамизм — характерная черта кельтского мира, которую
подчеркивает вся историографическая традиция, — представляется следствием беспорядочных
перемещений, прерываемых периодами затишья. Но тем самым порой утрируется
непоследовательность, которая рассматривалась как действия и поведение варваров. Галлия,
наиболее известная среди прочих кельтских территорий, представляет нам картину непрерывного
кипения, напоминая магму, которая с таким трудом застывает. Но нельзя, на самом деле,
распространять это .тление в целом на кельтскую цивилизацию: оно характеризовало главным
образом политическую организацию, а моральные и духовные установки оставались
неизменными. Во всяком случае, нет сомнения, что движения кельтов — или галлов, или галатов,
как хотелось бы их назвать, — представляют собой первое в истории античного мира проявление
сил, пришедших из континентальной Европы и до тех пор остававшихся в тени.
Сначала попытаемся определить, что представляли собой эти перемещения: в одних случаях они
обозначали «миграцию», а в других, когда были связаны с приобщением к более высокому уровню
цивилизации, — «вторжение». С этой точки зрения и в пределах, которые требуют уточнения, можно
принять
189
Часть III Континентальная Европа
высказывание Анри Губера, согласно которому кельты сыграли на континенте ту же

цивилизационную роль, что и греки в Средиземноморье.
Сразу нужно оговориться: эти два сравниваемых зрелых народа разительно отличаются в плане
социальных структур. Главная разница между средиземноморским пространством и
континентальным миром, особенно заметная в Галлии, заключается в том, что жизнь одного
целиком сводится к городу, тогда как в другом над civitas превалирует oppidum, то есть племенная
форма существования на ключевом месте, которое приобретает главным образом
функциональный характер: это место сосредоточения, точка конвергенции скорее материальных
интересов, нежели духовных или политических. Даже если огшидумы не могут рассматриваться
на самом деле просто как пристанища на случай опасности, они были составной частью civitas, а
не упрощенной его разновидностью. Вся история кельтов, действительно, — это именно история
племенных групп, не связанная ни с одним городским центром-эпонимом. Ни один кельтский
народ, ни народ, близкий ему в культурном аспекте, не испытывал внут ренней потребности
воплотиться в городе. Функциональная дифференциация кварталов, как, например, в Бибракте,
усилия по упорядочиванию псевдогородских поселений, подобных Нуман-ции или оппидумам
Южной Галлии, свидетельствуют об инструментальной роли жилых центров и, на мой взгляд, о
пассивном заимствовании внешних морфологических признаков. Городская структура, которая,
как известно, предполагает гармоничное участие всех горожан, несущих коллективную
ответственность, по крайней мере формально, в жизни сообщества, остается чуждой кельтскому
менталитету, и это отличает его от менталитета этрусков, греков и римлян. Племенная форма
обязательно допускает устойчивость древних элементов, которые восходят к доисторическим
структурам. Полис, в своем классическом понимании, пришел к автономии и априори отказался от
территориальной организации; племя, которое греки обозначали термином ethnos, а римляне —
civitas^ было привязано к более или менее обширной территории и не ведало функции эпонима и
городского регулирования. Впрочем, некоторым грекоязычным народам, обитающим на
периферии эллинистического мира, напри-
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
мер этолийцам, были знакомы лишь структуры, подобные кельтским. Кельты, правда, развивались
в направлении городских форм, но не принимали их полностью. Это произошло только после
завоевания: римляне — посредники между средиземноморским и континентальным миром —
реорганизовали территориальную структуру побежденных в сеть, состоящую из городов, каждый
из которых, впрочем, считался столицей-эпонимом определенной территории.
То, что литературные источники сообщают нам о кельтском обществе, подчеркивает
неопределенный и зачаточный характер республики — государства. Система родовых клиентел,
трансформированная в персональные, в конце концов разрушила патриархальный авторитет
доисторической монархии. Концепция рода, проявляясь на разных уровнях, естественно, привела
к кастовой системе, но, характеризуясь также экстенсивностью во времени, она связала настоящее
и будущее Античности, зачастую отдаляясь от реальности и облекая в легендарную, метафо-
рическую форму исторические факты. Параллельно эволюция от групповой экономики к
концентрации богатств в руках всемогущей аристократии неизбежно вела к распрям и войнам,
которые наблюдал и широко использовал в своих целях Цезарь. Индивид существовал только в
группе: кельты не знали ни eleutheria, ни принципа «свобода превыше всего» (как в греческих
полисах), ни юридической и городской libertas римского общества; свобода провозглашалась
только на уровне представит йлей знати.
Отношения между доминирующими кастами и массой клиентов внутри общин были такими же,
как между гегемонист-скими и клиентскими сообществами. Военный контингент происходил из
клиентельных сообществ; что касается единства, кельты действовали племенем, даже если
служили в качестве наемников. В основном именно свою племенную независимость они и
использовали против римлян. В борьбе за первенство они не отказывались от чужой помощи: так
же как эдуи опирались на римлян в противостоянии арвернам, секваны и арверны нашли
поддержку против эдуев у свевов Ариовиста. Последний, обладая исключительной
проницательностью, сумел оценить значение экономической и политической оси «запад —
восток» и мечтал встать во главе галло-германской империи. Он утвердился
191
Часть III Континентальная Европа
в стане секванов, приняв участие в кельтской политике, и в 59 г, до н. э. встал на сторону Рима.
Уловив этот намечающийся перевес, Цезарь желал установить римское главенство, понимая, что
сенат, договариваясь с Ариовистом, недооценил его амбиции. Таким образом, он тоже вступил в
сложную межплеменную политику, соединяя силовую тактику с дипломатической. Обычное

использование обмена заложниками, по-прежнему широко распространенного в античном мире,
порождает атмосферу взаимных подозрений, которые не препятствовали, однако, и переговорам;
по крайней мере, когда они происходили в самой галльской среде, они не в меньшей степени
учитывали интернациональные интересы и способствовали утверждению автономии племен.
Соглашения, очевидно, основывались на трансцендентной концепции права, хранителями которой
являлись друиды и которая объясняет по большей части узкоконсервативный характер кельтской
цивилизации.
Цезарь приводит некоторые подробности внутренних противоречий и индивидуальных войн за
власть. Нарисованный им портрет эдуя Думнорига весьма показателен в этом отношении: он
монополизировал пошлины и государственные доходы civi-tas — по крайней мере те, на которые
претендовали его враги, — что позволило ему не только проявлять показную демагогическую
щедрость, но прежде всего увеличить количество своих клиентел и создать настоящую личную
армию. Это богатство, связанное с политической ловкостью, ставит его во главе эдуев. Дум-нориг
принадлежал к той галльской знати I в. до н. э., представители которой, что явно противоречило
общему традиционализму, обладали культурой, пронизанной греческими элементами, были
убедительными ораторами, так же как хорошими воинами, объединяя две крайности, которые
кельты восхваляли как главные составляющие их облика: res militaris и argute loqui'.
Персонажи подобного рода, которые явственно свидетельствуют об экономическом и социальном
неравенстве, оказались в конечном счете не разрушителями древних традиций, но естественными
продолжателями процесса, сходного, несмотря на различие условий, с тем, что в течение II в. до и.
э. происходило
«Военное дело» и «ораторское мастерство» (лат.).
192
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
в римском мире, где представители элиты, осознав свою автономию, добивались первых ролей
любыми способами. Монархическая власть, не имея никакого стабильного института, была обя-
зана своей эффективностью только инициативе энергичных личностей, которые добивались
признания личного авторитета и объединения сильных партий внутри и вне их собственной civitas.
Наследственный принцип отражен в традиции, связанной с королем битуригов Амбигату, который
мог поставить своих племянников во главе крупных экспедиций в другие земли, но Бер-
цингеториг не был назначен главой галльской антиримской коалиции просто потому, что был
сыном Кельтиллы, который однажды попробовал воссоздать и возглавить гегемонию арвер-нов.
На неожиданное получение Верцингеторигом позиции первого плана повлиял скорее не этот
прецедент, а его собственные способности. Национальный союз, по-видимому не связанный с
личными интересами, был впервые образован благодаря ему перед лицом общей опасности и
вызвал своего рода идеологическое возбуждение, так же как произошло веком раньше на Ибе-
рийском полуострове при попытке Вириафа, возможно менее грандиозной, но столь же
неудачной. Цезарь в своих «Записках» неоднократно сообщает о легком и быстром
распространении пропаганды среди галльских народов. Он представляет civitas как активные
единицы, ответственные за политические противоречия, а большое количество мятежей, как
внутренних, так и внешних, — лишь ничтожной причиной падения их независимости.
Несомненно, религиозный фактор сыграл важную роль в становлении антиримских движений,
предстаглявших собой последний шанс для духовных и материальных сил Галлии. Но ес-
тественно, Верцингеториг олицетворял не только светскую власть друидов. Разумеется, не стоит
преуменьшать историческую важность этой поистине великой личности, ибо ему также припи-
сывают намерение установить свою личную власть и возглавить объединенное галльское
движение и борьбу против римской угрозы. С этой точки зрения Верцингеториг воплощал в тот
момент кельтский дух и историческую эпоху, характеризующуюся поистине замечательной
политической зрелостью. В реальности Галлия пережила столкновение двух сил, находящихся в
состоянии кризиса, каждая из которых стремилась решить свои
Часть III Континентальная Европа
собственные проблемы. Цезарь, повествуя о своей кампании и политике, прекрасно понимал
аналогичность ситуации, одинаково плачевной, несмотря на разницу в зрелости, и для галлов, и
для римлян.
В основных аспектах социальной и политической организации «кельтизм» проявляется как
феномен типично и традиционно континентальный, хотя и расцвечивается, больше или меньше,
средиземноморскими привнесениями. Последнее прежде всего отмечено среди групп Балканского
полуострова, которые взяли за образец структуру эллинистических монархий. Выше говорилось,

что эллинистическая монархия была установлена в Македонии, причем это был переход сразу от
племенной стадии, минуя этап города-государства. Эта система имела, таким образом, сходство с
кельтским миром. На юго-востоке Европы система мощных кельтских племенных государств,
вскоре обозначенных как царства за счет энергии царей, была более простой, чем на западе, где
общины, организованные с давних времен на соответствующих территориях, находились в
контакте с политическими формами, абсолютно несовместимыми с культурными основами и
менталитетом кельтов. Близость эллинистических государств на Балканах привела к тому, что
кельты, пришедшие позже и обосновавшиеся в среде с населением, различным по происхождению
и принадлежащим к разным культурам, проявили активность и предприимчивость, нуждаясь в
централизованной власти военного типа, чтобы установить свое верховенство. Во время своих
миграций и заселений они сохраняли, таким образом, формы правления, характерные для них,
которые эллинистический пример трансформировал в монархии. Тогда как на Западе древность
поселений, связанная с отсутствием серьезной внешней угрозы на протяжении долгого времени —
инородные остатки в культурном плане были ассимилированы, — позволяет кельтам, напротив,
автономно и естественно изменять институты, которые во времена Цезаря поощряли
индивидуальное превосходство.
Несмотря на значительное число экспедиций, о которых мы знаем по текстам и археологическим
данным, естественно, не нужно думать, что вновь прибывшие полностью заменяли предшеству-
ющие пласты населения: они только занимали демографические
194
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
лакуны, которые впоследствии переполнятся благодаря особой плодовитости, присущей кельтам.
Речь идет о феномене сухопутной колонизации, которая в некотором отношении, в своем
развитии, напоминала морскую, но, осуществляясь, если быть точным, наземным путем,
приводила к образованию поселений, политическая жизнь которых не могла быть изолирована от
окружающей среды: она становилась ее частью в качестве элемента обусловленного и
соответственно обусловливающего. Сохранение поселений требовало тотального политического
превосходства, а значит, было напрямую связано с их военным потенциалом и централизацией
командования, как мы уже видели. Если попытаться провести параллель с классическим
греческим миром, то, пожалуй, только спартанское государство может сравниться с этой
системой.
Повсеместное распространение оппидума как укрепленного бастиона происходит, скорее всего,
позднее; в Италии, где кельты утратили превосходство в начале II в. до н. э., они встречаются
только на севере и лишь спорадически. Согласно Полибию, галлы Италии, в частности бойи, жили
без стен — ateikhistoi* то есть без городов, распространяясь небольшими рассеянными группами
по всей территории. Их численность была не слишком высока, поскольку долгое время они
сопротивлялись римлянам, особенно после похода Ганнибала, всякий раз обновляя силы. Эта
галльская оккупация в Северной Италии привела к разложению зачаточной городской
организации, реализуемой этрусками. В Галлии и Центральной Европе распространекк£
гальштатской культуры постепенно заменяется концентрацией общин в оппи-думах римского
вида, но ни одной гальштатской крепости нет среди крупных оппидумов эпохи Ла Тен. Гейнебург
(Вюртемберг) был оставлен в конце VI в.; несомненно, это объясняется тем, что некоторые из
кельтских волн, которые занимали южные предгорья Альп, — возможно, бойи — имели в
качестве точки отправления Среднюю Европу. Укрепленные жилища на возвышениях, возможно,
оказались повсеместно покинутыми до появления оппидума, которое в Галлии имело связь с
борьбой общин за гегемонию, а в Центральной Европе — с военной необходимостью,
обусловленной германскими вторжениями с севера и северо-востока. Напомним также о
существовании на Балканском
Часть III Континентальная Европа
полуострове комплексных укреплений иллирийских, фракийских и скифских племен. Этот
переход от гальштатской фрагментации к историческим кельтским общинам сложно восстановить
при помощи только тех археологических свидетельств, которыми мы располагаем. Затруднение, с
которым мы сталкиваемся, пытаясь археологические данные осветить исторически, проявляется в
данном случае в максимальной степени. В Испании кельтские группы долгое время не ощущали
необходимости обороняться, в результате слияния коренных и соседних народностей
образовались кельтиберы, частично сохранившие организацию гальштатского типа. В некоторых
регионах, особенно на востоке и юго-востоке Европы и в Италии, кельты долгие десятилетия жили
лагерями, не имея постоянных поселений, — на скифский манер. В более близкие к нам эпохи
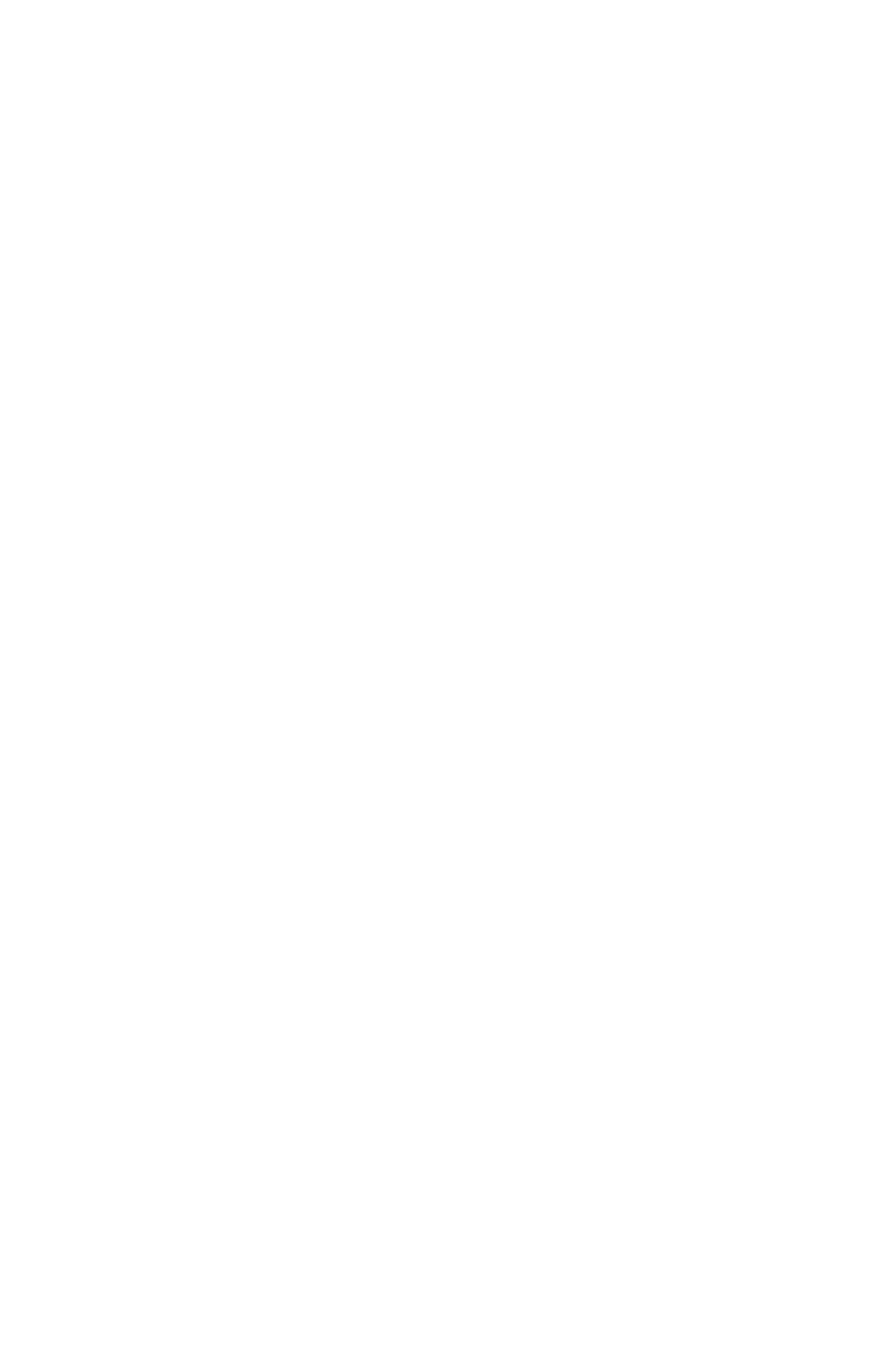
положение вещей оставалось аналогичным еще в течение некоторого времени, например у
франков в Испании и лангобардов в Италии. Эти группы, хотя и не включившиеся в регулярную
демографическую канву, удерживаются благодаря своему предприимчивому духу и собственной
силе. То же можно сказать о галатах Азии, до того как эллинистические правители не остановили
их размещение в регионе, позже получившем название по их имени — Галатия.
Везде, куда бы они ни направляли свои экспедиции, кельты сочетали военные действия и
переговоры. Тит Ливии в своем рассказе о наступлении сенонов на Ареццо и Рим в начале VI в.
наделяет их сознанием прав человека и привычкой предварять военные выступления фазой
переговоров, сводившихся зачастую к угрозам или шантажу. Другие примеры этого — их
демарши по отношению к греческим городам Европы и Азии с целью обложить данью племена и
вызывающее вмешательство гельветов в дела Цезаря до и после событий в Бибракте. Однако
дипломатия кельтских общин не ограничивалась этим шантажом; хорошие отношения, которые
они поддерживали с Марселем, открытость для греческой и италийской коммерции
свидетельствуют о широких связях с иноземными государствами. К югу от Альп кельты
приобщаются к поистине интернациональной политике. Сначала это объединение сенонов в
системе италийского влияния с целью попытаться остановить римскую экспансию начала III в. до
н. э.;
196
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
затем — длительный союз ценоманов и венетов; и наконец — устойчивая коалиция галльских сил
Италии и заальпийских территорий против Рима (карфагенское золото скорее всего играло
определяющую роль в союзе гезатов с бойями и инсубрами). Отношения с цизальпийцами,
впрочем, предшествовали экспедиции
Ганнибала.
Отношения многочисленных галльских общин с римлянами долгое время были превосходными:
во всяком случае, об осторожном и заискивающем поведении северных трансальпийцев детально
менее известно, чем об иноземной политике эдуев — «братьев и кровных родственников римского
народа», Миграции гельветов (58 г. до н. э.) предшествовали дипломатические соглашения и
тщательная подготовка со стороны секванов и некоторых эдуев.
В Восточной Европе кельтские группы сотрудничали с Филиппом II и Александром в войнах
против антариатов и трибал-лов. Установлено, что кельтские посланники сопровождали Алек-
сандра во время его экспедиции на Дунай и позже, когда он стал хозяином Персидской империи: в
324 г. до н. э. кельтские послы нанесли ему визит в Вавилоне. На новых территориях кельты стали,
таким образом, во времена Александра политическим элементом, участвующим в отношениях
власти. Этот и другие подобные факты, которые можно зафиксировать в Италии и на Иберийском
полуострове, свидетельствуют о хорошей способности к адаптации в' различных средах, к
включению в инородные системы. Хотя эта быстрая ассимиляция и гибкость приобретают разные
формы в зависимости от регионов, их повторяемость свидетельствует о кельтском единстве. Но
это способствовало также истощению кельтских групп там, где не существовало коренной
традиции: кельтские следы, многочисленные в Галлии и Центральной Европе, на Балканах
сводятся к топонимическим напоминаниям.
* * *
С экономической точки зрения это были общины, которые обусловливали внешнюю и
внутреннюю торговлю: торговцы перемещались поэтапно, с территории на территорию, вдоль
197
Часть III Континентальная Европа
длинных трансконтинентальных путей. Впрочем, то же самое отмечено и у других народов: дар
агафирсов, предназначенный для святилища в Дельфах, сопровождался от одного племени к
другому — племена встречались на большей части пути. Это естественная система организации,
характерная для данного периода.
Начиная с V в. до н. э. карта распределения греческих и италийских находок модифицируется.
Ушедший VI в. до н. э., в течение которого они были в большом количестве зафиксированы в
низовьях Роны, а в соседних регионах вплоть до Бургундии встречались редко, показывает, что
отношения юго-востока Галлии со средиземноморским миром были менее тесными. Северо-
восток, напротив, входит в центральноевропейское пространство, включая средний Рейн и
Баварию, где в течение почти двух с половиной веков концентрировалась привозная сре-
диземноморская готовая продукция и некоторые первичные материалы, например кораллы.
Этот факт, который Ж. Ж. Хатт отметил в своей новой книге, частично объясняется, по мысли

автора, тем, что роль долины между Роной и Сеной перешла к долинам реки По, Тессина и Рейна,
Это следствие карфагенской политики в Западном Средиземноморье, препятствовавшей
распространению интересов Марселя. Но перемещение к северу эпицентров импорта свиде-
тельствует также о том, что этот регион на короткое время стал центром преобладающей
политической силы: концентрация власти, естественно, привела здесь к параллельной
концентрации коммерческой деятельности. На юго-восток и в центр Галлии непрерывно
ввозились только первичные материалы, необходимые для ремесленного производства, прежде
всего янтарь, кораллы и стеклянная масса.
Эти факты объясняют трансформацию гальштатской культуры в культуру Ла Тен, то есть переход
от кельтского доисторического периода к историческому. Находки, подобные тем, что были
обнаружены в Вике, не могут относиться к эпохе Ла Тен. Только вожди небольших
монархических объединений, предшествующих V в. до н. э., могли иметь столь ценные вещи.
Впоследствии своеобразный эгалитарный характер погребального убранства показывает приход
общества, организованного в классы. С экономической точки зрения констатируют, что
аристократия
19В
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
заменяет царей. Знаменитая ваза из Вике, которая поражает своей красотой и особенно своими
величественными размерами всякого, кто зайдет в небольшой музей в Шатийон~сюр-Сен, веро-
ятно, была заказана правителем кельтской цивилизации (по своей сути еще гальштатской)
далекому греческому мастеру; возможно также, это был «дипломатический» подарок,
преподнесенный средиземноморскими торговцами с целью получить право пройти через чужие
земли. Некрополь в Вике был расположен на дороге, которая связывала бассейн Роны с бассейном
Сены, — поэтому последняя интерпретация кажется вполне правдоподобной. Сокращение
импорта в данном регионе соответствует осознанию национальных ценностей; кельтские
ремесленники вскоре перестают обращаться к иностранным образцам движимого имущества и
изысканных украшений. Привезенные предметы своей редкостью больше не интересуют кельтов.
Поистине каждая фаза культуры Ла Тен соответствует, по мнению Дешелетта, определенной
совокупности материальных заимствований, но равным образом очевидно, что частота находок,
их качество и ценность гораздо выше, чем на предшествующем уровне. Со временем здесь
проявляется все более узкая функциональность. Преобладает спрос на изделия менее дорогие,
оружие, предметы обстановки, «серийную» продукцию, импортированную и впоследствии
переработанную на местный манер. Этим объясняется распространение кампанийской керамики,
функциональной, но малоценной, на юге Галлии и в Альпах и относительная редкость
средиземноморских драгоценных вещей 1?же на балканском пространстве, где контакты были
бо^тес частыми и тесными: существование кельтской «греческой)/ группы более очевидно в устье
Роны, чем на Балканах. Отметим, однако, что кельты, великолепные ремесленники по железу,
золотых дел мастера и декораторы, в целом приняли бронзовые предметы по причине хорошего
качества и прочности средиземноморских сплавов, а позже они смогли имитировать их сами.
Цезарь заметил, что торговцы, прибывающие из Италии и Греции, встречались все реже, по мере
того как удалялись от Provintia. Воспитанный на эллинистических доктринах, он полагал, что
моральный прогресс обратно пропорционален жизненному благополучию: у бельгийцев он
наиболее заметен, потому что в своем примитивном образе
199
Часть III Континентальная Европа
жизни они проявляли наибольшую отсталость. В эту эпоху импорт в Южную и Центральную
Галлию возобновляется, что объясняется повторным открытием Средиземноморья в результате
римских побед над Карфагеном, которые повысили значение итальянского побережья
Тирренского моря и, конечно же, Марселя. Речь идет главным образом о приобретении галлами
сельскохозяйственной продукции, в частности масла и вина, которое пользовалось спросом с
давних пор: как рассказывали те, кто побывал в Италии, этруски предлагали им угощение в виде
вина и инжира.
Импорт, которым не были задеты более отдаленные внутренние регионы, по объемам уступает
экспорту, который составляли продукты скотоводства — кожи и мясо, а также пушнина.
Кельтские группы служили посредниками в распространении на юг минерального сырья или
металлических полуфабрикатов и янтаря: сырье, необходимое для индустрии Средиземноморско-
го бассейна, пользовалось особенно высоким спросом. Металлические ресурсы — в основном
золото — усиливали кельтскую экономику в международном плане, и именно в сторону центров

минеральных месторождений и плодородных регионов направляется кельтская колонизация, то
есть на юго-запад и юго-восток Европы.
Этот факт ясно показывает, что направления экспансии, несмотря на то что в действительности не
подчинялись планированию, соответствовали все-таки определенным экономическим критериям,
основанным на точном знании мест и их ресурсов. Этим объясняются перемещения масс, иногда
довольно значительные. В исторической традиции они сравниваются с италийской ver sacrum ',
которая представляла собой усиленную эмиграцию молодых людей с целью сократить прирост
населения. Это объяснение на самом деле в древности соответствует состоянию, когда сельское
хозяйство, все еще технически отсталое, могло поставить некоторые общины перед дилеммой:
разделиться или погибнуть. Относительное распространение в эпоху Цезаря бойев и битуригов
вызвано расселением примитивных племен по этой причине. Позже, конечно, это было связано
«Священная весна» (лат,).
200
Глава 10 Континентальная экспансия. Кельты
с необходимостью сельскохозяйственного прогресса, применения глубокой вспашки и внедрения
в оборот культур, малоизвестных ранее, тем более что значительная часть населения занималась
металлургией или коммерцией. Однако сомнительно, чтобы равновесие между демографическим
ростом и экономическими ресурсами реализовалось за счет регулярных расселений. Эмиграция
зачастую принимала форму наемничества, где авантюрный дух сочетался с общепризнанной
ценностью кельтских солдат, и десятки лучших кельтов со своими мечами поступали на службу к
далеким иноземным правителям. Речь шла не о личной инициативе. Наемничество часто
приобретало ту же форму, что и переселенческие потоки, с которыми оно в результате иногда
смешивалось: это были группы, подчинявшиеся предводителю и сопровождавшиеся женщинами и
детьми; отдельные группы, имевшие сначала иные цели, в итоге, так же как в Азии, посвящали
себя этому доходному делу, которое поддерживалось потребностью в войсках эллинистических
монархий и Карфагена. Распространение кельтизма не имело целью установление империи,
которое предполагало централизованную, крепкую организацию, каковой не существовало:
«империя кельтов», если представлять ее в политическом смысле, лишь риторическая формула.
Мотивы этой экспансии были, повторяем, прежде всего демографическими и экономическими:
сначала нужно было заполнить демографические лакуны и получить минеральные и сель-
скохозяйственные ресурсы — кельты внутренних македонских районов имели репутацию
великолепных землепашцев.
Вследствие миграций кельты реализовали в течение некоторого времени культурные черты,
общие для значительной части континента и Британских островов. И прежде чем римляне
разглядели континентальное европейское единство, оно уже стало по большей части реальным
фактом. По правде, хотя кельты и были восприимчивы к культурным и политическим эклекти-
ческим решениям, они жили так же, как прежде: они являлись наследниками континентальных
цивилизаций, о чем свидетельствует их малый интерес к морю, за исключением прибрежных
атлантических регионов. Кельты размещались в основном в глубинных землях, их торговля была
исключительно караванной, а верность племенным институтам — безграничной. Взаимные
201
Часть III Континентальная Европа
влияния и «эндосмос»
1
, обусловленные их миграционными перемещениями, сохранили
практически нетронутым общее духовное наследие. Оно заключалось в религиозных убеждениях
и их внешних проявлениях, представителями и арбитрами которых были друиды. Иначе все
происходило в периферийных зонах, которые фактически не участвовали в жизни этого сложного
организма.
Одним из наиболее значительных аспектов кельтской экономики, возможно, является введение
монеты, действовавшей с давних времен в долине Дуная, где, мы это уже сказали, адаптация
кельтов к соседней эллинистической среде стала наиболее полной. До III в. до н. э. внутри
континента деньги не циркулировали и не чеканились. Средиземноморские державы, которые в
течение века распространили монету, использовали для континентальной торговли «стандарт цен»
(булавки или золотые кольца определенного веса) — доисторическую систему обмена, о которой
нам мало известно.
Приток золотых статеров Филиппа II к дунайским кельтам — показатель небезынтересных
отношений, которые они поддерживали с этим правителем, но очевидно, что эти деньги
появились, с одной стороны, как дань, выплаченная греческими городами, а с другой — в
результате экспорта и как жалованье наемников. Кельты быстро адаптировали использование
