Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.


непрерывно в памяти мыслителей и людей, наделенных воображением».
4
В самом деле, оно
существует в памяти каждого из нас. Мы непрерывно сознаем не только собственные
свершившиеся мысли и поступки, но и мысли и поступки других людей, свидетелями которых
были сами или знаем о них от других. В сознании могут находиться даже впечатления опыта,
весьма от нас удаленного. Герберт Баттерфилд говорит, как это бывает:
память каждого из нас содержит в себе груду образов и историй..., которые образуют то, что мы выстроили для себя как
Прошлое... Его приводит в действие беглый взгляд на старинные руины,... или намек в романе... Церковный колокол,
или упоминание об Азенкуре, или даже самое написание слова «именуемый» (ycleped) может быть достаточным для
того, чтобы отправить ум в путешествие по собственным галереям истории.
5
Прошлое, о котором говорит Баттерфилд, это одновременно прошлое историческое и прошлое
нашей памяти. События и опыт прошлого предшествуют нашей жизни, однако прочитанные,
услышанные и повторенные вновь, они становятся также частью наших собственных
воспоминаний.
Мы действительно знаем прошлое как нечто существующее наряду с настоящим, и,
одновременно, как нечто отличное от настоящего. То, что их объединяет — это наша по
большей части не сознаваемая способность схватывания органической жизни. То, что их
разделяет — са-
1
Robertson Davis. Rebel Angels. P. 124.
2
Heller. Theory of History. P. 201
3
Kelley. Foundation of Modern Historical Scholarship. P. 3.
4
Highet Gilbert. Classical Tradition. P. 447.
5
Butterfield Herbert. Historical Novel. P. 1.
296
мосознание, размышления по поводу воспоминаний, истории и рассуждения о возрасте
окружающих вещей. В мысли мы зачастую различаем события «здесь-и-теперь» —
выполняемые задания, формирующиеся идеи, предпринимаемые шаги — от прошлых вещей,
мыслей и событий. Однако (эти процессы) соединения и разъединения находятся в
постоянном напряжении, прошлое неизбежно ощущается как часть настоящего и как нечто от
него отличное. «Мы часто пробуждаем прошлое как таковое тем, что помним и мыслим
исторически, — писал Коллингвуд, — но делаем это, высвобождая прошлое из пут настояще-
го, где оно в действительности и находится».
1
Что содержит в себе обитающее в сознании прошлое, почему оно там обитает, до какой
степени и почему оно ощущается как отдельная область, — все эти вопросы варьируются от
культуры к культуре, от человека к человеку, ото дня ко дню. У некоторых из них
воспоминаемое или воображаемое прошлое столь живо (или столь подавлено), что весь опыт
настоящего им резонирует. Для других прошлое мало что значит, их внимание полностью
поглощено настоящим и будущим. Чахлое или обильное, мертвое или живое, обитающее
отдельно от настоящего или слитое с ним в нераздельное целое, прошлое поднимается до
уровня осознания одними и теми же путями.
В этой главе мы рассмотрим три источника знания о прошлом: память, историю и реликты.
Память и история — это процессы, предполагающие интуицию и озарение. Каждый из них
включает в себя элементы другого, границы их размыты. Тем не менее память и история
вполне естественно и правомерно различаются: память неотвратима и prima facie
2
вполне
бесспорна, история же, напротив, полна случайностей и поддается эмпирической проверке.
Созданные человеком реликвии называются артефактами, у предметов же естественного
происхождения особого наименования нет.
3
И те, и другие свидетельствуют о прошлом
биологически, через свой возраст и степень эрозии, и исторически, через анахронические
формы и структуры.
Каждый из путей прошлого — память, история и реликты — является областью действия
специальных дисциплин, а именно, психологии, истории и археологии. Однако знание
прошлого предполагает более широкую перспективу, чем та, с которой эти дисциплины
обычно имеют дело. А потому в своем исследовании я буду отступать в сторону, а иногда и
вовсе выходить за пределы данных профессиональных сфер.
Прежде чем обсуждать, каким образом память, история и реликты имеют отношение к
прошлому, постараемся показать как мы обычно обретаем опыт прошлого или веру в него.
Тот факт, что прошлое не яв-
1
Collingwood R. G. Some perplexities about time. P. 150.
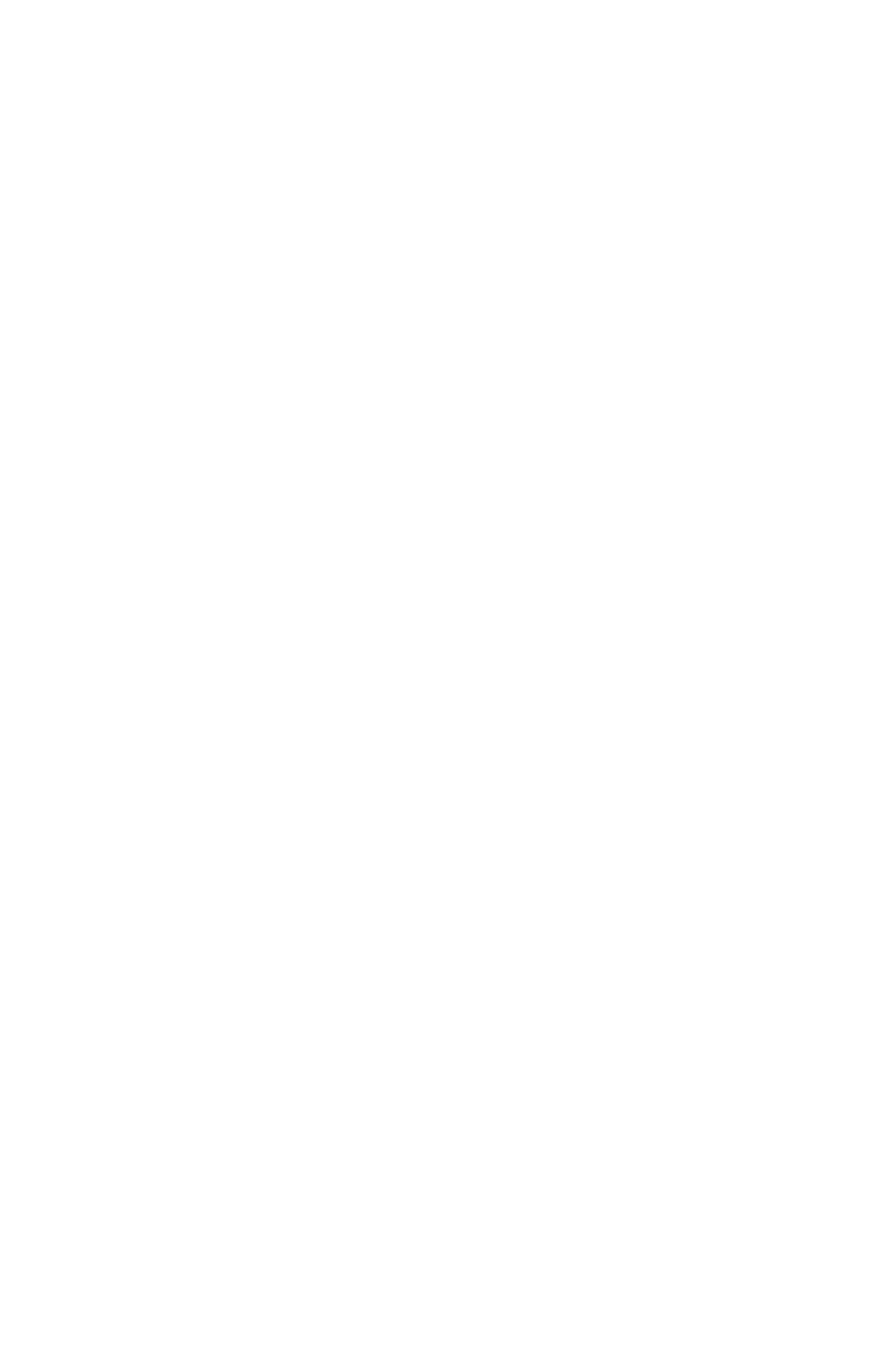
2
На первый взгляд (лат.) — Примеч. пер.
3
В русском языке это различие отчасти передается различением реликвий (предметов, свято хранимых как память о
прошлом) и реликтов (предметов естественного происхождения, пережитков древних эпох). — Примеч. пер.
297
ляется более настоящим, придает знанию некоторую неопределенность. Поскольку прошлое
включает в себя процессы различной длительности, опасно связано с настоящим, причем еще
не известно в какой мере существует, оно зачастую приводит в замешательство своей неу-
ловимостью. А поскольку эти сомнения в значительной мере окрашивают собою большую
часть из того, что мы знаем о прошлом, они заслуживают отдельного разговора.
Прошлое как предмет опыта и веры
Все события прошлого удалены от наших чувств более, нежели звезды отдаленнейших галактик, чей собственный свет в конце
концов достигает наших телескопов.
Джордж: Кублер. Облик времени'
...В памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем — даже того, что
лживо.
Хорхе Луис Борхес. Тлен, Укбар и Orbis Tertius
2
Память, история и реликты постоянно обновляют наши представления о прошлом. Но как мы
можем быть уверены в том, что они отражают именно то, что действительно имело место?
Прошлого уже нет, его соответствие тем событиям, которые мы теперь видим, вспоминаем
или о которых читаем, не может быть доказано. Никакие заявление о прошлом не могут быть
подтверждены путем рассмотрения предполагаемых фактов, потому что познание
совершается в эпистемологическом настоящем. По замечанию К.И. Льюиса, «нет никаких
оснований надеяться на достижение достаточной верификации любого факта прошлого».
3
Мы
не можем их верифицировать при помощи наблюдения или эксперимента. В отличие от
географически удаленных мест, мы не можем их посетить, даже если приложим к тому все
силы. Прошлое недосягаемо. Факты настоящего, даже известные нам косвенным образом, в
принципе поддаются верификации, факты же прошлого не верифицируемы по самой своей
природе.
Как-то именовать или мыслить события прошлого — значит предполагать их существование.
Но они не существуют. Мы обладаем в настоящем лишь свидетельствами прошлых
обстоятельств. «Прошлое как всего лишь прошлое абсолютно непознаваемо, — заключает
Кол-лингвуд, — единственное, что доступно познанию — это остаточное присутствие
прошлого в настоящем». Прошлое, еще продолжающее существовать, подобно «лимбу, где
уже свершившиеся события продолжают свой путь». А это значит, что есть «мир, где
галилеевы шары
1
Kubler G. The Shape of Time. 1962. P. 79.
2
Борхес X. Л. Коллекция. СПб., 1992. С. 116.
3
Lewis С. I. Analysis of Knowledge and Validation. P. 200.
298
продолжают падать, где дым пожара Рима при Нероне еще наполняет интеллигибельный
воздух, и где межледниковый человек все еще трудолюбиво учится расцеплять кремень».
1
Из отсутствия прошлого вытекают два сомнения: первое — в том, что нечто подобное
общепринятому прошлому когда-либо существовало, и второе — если оно даже и
существовало, может ли оно быть надлежащим образом познано. Рассмотрим оба этих
сомнения по порядку.
Действительно ли те события, относительно которых мы уверены, что они были,
существовали в действительности? Предположим, как об этом говорит Борхес, что фиктивное
прошлое наполняет наши воспоминания. Возможно, мы похожи на симулякры Рона Хаббарда,
которые были уверены, что живут в реальном мире и «считали, что помнят далекое прошлое и
своих предков».
2
Исторические документы и воспоминания могут ввести нас в заблуждение и
заставить думать, что прошлое действительно существовало. На самом же деле планета могла
быть сотворена пять минут назад, допускает Бертран Рассел, уже вместе с населением,
обладающим «памятью» всего иллюзорного прошлого.
3
Писатель, развивая сценарий Рассела,
представляет себе газету, обнаруженную в окаменевших челюстях тираннозавра, жившего 70
миллионов лет тому назад в меловом периоде. Это доказывает, «что вселенная действительно
была создана где-то в пять минут десятого этим утром, и тот, кто это сделал (кто бы он ни
был), допустил оплошность, обронив номер „Тайме"».
4
Эти гипотетические вновь созданные миры отличаются от библейского учения лишь своей

новизной и краткостью. Если раньше по этому поводу назывались разные сроки, то, наконец,
дата Творения была скрупулезно высчитана архиепископом Джеймсом Асшером (J. Ussher) и
ко всеобщему удовлетворению была отнесена к 4004 г. до н. э. В предоставленные прошлому
шесть тысячелетий умещаются все известные нам события. В отсутствие современных
методов геохронологии, ученые XVII в. не ощущали недостатка в истекшем времени. Даже в
XIX в. библеисты вполне умещали все известное человеческое прошлое в эти шесть
тысячелетий. Камни и ископаемые останки, относящиеся к более раннему сущему, не
принимались в расчет как подложные и нечестивые: по-видимому, допотопная эрозия и
сукцессии были частью единого акта Творения. Однако с развитием геологии и
палеонтологии отстаивать ортодоксальные воззрения становилось все труднее. Повсюду
проявлялись следы земного прошлого, куда более древнего, нежели то, что допускала
библейская доктрина Творения.
5
1
Collingwood. Limits of historical knowledge. P. 220, 221.
2
Hubbard. Typewriter in the Sky. P. 60.
3
Russel. Analysis of Mind. P. 159. См. также: Fain. Between Philosophy and History. P. 114—126.
4
Sabbagh Karl. New Statesman competition. 11 Aug. 1967. P. 183.
5
Davies G. L. Earth in Decay. P. 13—16; Butler R. J. Other dates. P. 23, 24; Rupke. Great Chain of History. P. 51—57.
299
Ф. Г. Госс, который в своем произведении «Омфал» пытался понять, почему вновь созданная
земля содержит в себе очевидные следы более раннего существования, сегодня совершенно
забыт как курьезный случай. Однако именно он поднимал те вопросы, которые послужили
толчком для расселовского скептицизма. Госс признает, что историческое прошлое
действительно существовало, поскольку люди, писавшие о событиях, которые сами видели,
оставили тому прямые свидетельства.
1
Однако доисторическая эпоха таких свидетельств не
оставила просто потому, что некому было наблюдать и записывать. Свидетельствам же
прошлого, исходящим от ископаемых останков, геологических слоев и живых тканей не
хватает достоверности свидетельств очевидцев.
Никто,... заявляет он, в действительности не видел полет живого птеродактиля и не слышал шелест ветра в кронах
лепидодондров. Вы скажете: «Ведь мы видели скелет одного и раздавленный ствол другого — это то же самое, — а
потому уверены в том, что они действительно существовали в прошлом точно так же, как мы есть сейчас». Нет,... это
вовсе не то же самое, поскольку мы можем утверждать что-либо об их существовании лишь на основе логического
вывода.
2
Если продолжить этот логический вывод, то «цепь причин и следствий... неизбежно приведет
нас к заключению о вечности всей органической жизни». А это бессмыслица. Все сущее,
включая и ископаемые останки, «древние» геологические слои и очевидных прародителей
всех живых существ, должно было в некоторой точке быть сотворено.
3
Все живые существа
несут на себе явные следы прошлого существования — кольца на деревьях, пупок у человека,
— которые в момент Творения были «ложными». Раковина каракатицы (cuttle-bone) — это
автографическое свидетельство, несомненно подлинное, наличия у каракатицы истории. Оно
определенно подлинно, определенно автогра-фично, и тем не менее, оно ложно. Каракатица
была сотворена только сегодня».
4
Божество, снабдившее вновь сотворенные создания
ненастоящими признаками прошлого существования можно было бы счесть извращенным.
Насмешники говорят: «Бог вложил окаменелости в камни для того, чтобы подвергнуть
испытанию веру геологов».
5
Но это не так, возражает Госс. «Были ли концентрические круги
на вновь сотворенных деревьях созданы только для того, чтобы ввести нас в заблуждение?...
Был ли пупок вновь сотворенного человека создан лишь для того, чтобы внушить ему мысль,
будто он имел родителей?» Нет, это было сделано потому, что Создатель решил сотворить
мир «именно
1
Gosse. Omphalos. 1857. P. 337.
Госс Филип Генри, английский натуралист. В наше время известен больше благодаря своему сыну, сэру Эдмунду
Вильяму Госсу (1849—1928), писателю и критику, который описал свои непростые отношения с отцом в книге «Отец и
сын» (Father and Son) (1907). —Примеч. пер.
2
Ibid. P. 104.
3
Ibid. P. 338. t Ibid. P. 239.
5
Gosse Edmund. Father and Son. 1907. P. 67.
300
так, как если бы он появился в данный момент своей истории, причем все предшествующие
эпохи также были бы реальны».
1
Однако, несмотря на всю веру Госса в свидетельства очевидцев, аналогичный скепсис

угрожает и реальности исторического прошлого. Реши Бог сотворить мир не в 4004 г. до н. э.,
а в 1857 г. н. э. (год написания работы Госса), мир все равно появился бы исполненным
«свидетельств» прошлого:
еще недостроенные домами, лежащие в руинах замками; полотнами на мольбертах художников с уже готовыми
набросками; гардеробами с поношенной одеждой; кораблями, плывущими по морю; отпечатками птичьих лап в грязи;
костями, белеющими в пустынных песках; человеческими телами в различной стадии разложения в гробницах. И в этом
мире должны присутствовать миллионы прочих следов прошлого, потому что они есть в мире сейчас;... и не для того,
чтобы задать головоломку для философов, но потому, что они неотделимы от условий мира в избранный момент
вторжения в историю;... именно они делают мир таким, каков он есть».
2
Короче говоря, историческое прошлое может быть столь же иллюзорным, как и
доисторическое.
Однако сомнения в историческом прошлом создают дополнительные проблемы. Мир,
сотворенный в пределах исторических времен, опровергнет не только некоторые, но вообще
все свидетельства предшествующей истории, причем с тяжкими для веры последствиями. Дез-
авуируя все свидетельства прошлого, ставя под сомнение правдивость и рассудок всех тех,
кто оставил многочисленные свидетельства о событиях, которых в действительности не было,
мы неизбежно поставим под вопрос и собственные рассудок и правдивость. Расселовский
вариант гипотезы Госса о том, что Творение состоялось всего лишь пять минут тому назад,
разоблачает ложность не только всех физических и исторических свидетельств прошлого, но
и ложность нашей собственной памяти как таковой. Если прошлому всего лишь пять минут от
роду, все наши воспоминания иллюзорны.
3
Изменилось ли что-нибудь, если бы прошлого вообще не было? Стали ли бы мы вести себя
как-то иначе? «Имеет значение... вовсе не то, что произошло в действительности, и даже не
то, что это было со мной, — отмечает Г. Г. Прайс (Н. Н. Price), — на самом деле что-то значат
только мои воспоминания, не важно, истинные они или ложные».
4
Но на самом деле
изменилось бы все. Все традиции стали бы по-
1
Omphalos. P. 347, 348, 351. За полвека до этого Шатобриан объяснял очевидную древность вновь сотворенного в
эстетических терминах: «Бог мог сотворить мир, и, несомненно, сотворил его со всеми теми следами древности и
завершенности, которые мы наблюдаем сейчас. Если бы мир не был одновременно юным и старым, величие, глубина,
мораль исчезли бы с лица природы, поскольку эти идеи существенным образом присущи древним объектам... Без этой
изначальной древности не было бы ни красоты, ни возвышенности в творении Всемогущего» (Genius of Christianity
(1802), Bk IV. Ch. 5. P. 135—137). См. также: Борхес. Творение и Ф. Г. Госс // Новые расследования. Соч. В 3-х т. Т. 2.
М.: Поларис, 1997. С. 29—31.
2
Omphalos. P. 352, 353.
3
Murphy. Our Knowledge of the Historical Past. P. 9—10; Danto. Analytical Philosophy of History. P. 66—84.
4
Price. Thinking and Experience. P. 84. См. также: Butler. Other days. P. 16—19.
301
просту смехотворными. Лишь немногие смогли бы проследить последствия своих
собственных действий. Невозможно было бы задержать преступника, поскольку не было бы
прошлого, в котором было совершено преступление. Действия нельзя было бы проследить,
восходя к причинам, невозможно было бы выявить мотивы поступков. Ничего нельзя было бы
доказать, поскольку «сомнения в чувстве прошлого, как оно проявляет себя сегодня, означало
бы утрату какого-либо критерия, при помощи которого можно было бы что-либо подтвердить
или опровергнуть, включая само сомнение и то, что подвергается сомнению», — рассуждает
К. И. Льюис (С. I. Lewis).
1
Скептицизм, доведенный до таких крайних пределов, ставит под
сомнение всю реальность и ведет с крайнему солипсизму.
Вряд ли можно найти еще нечто, столь же сомнительное. И тем не менее эмпирическое
отсутствие прошлого оставляет некоторые зерна сомнения, которые не в состоянии развеять
полностью даже философский анализ. «Нам приходится принимать на веру
неподтвержденные события неподтвержденных лет, — пишет Рэй Бредбери. — Реальность
необратима, даже реальность ближайшего прошлого... Несмотря на всю реальность руин,
древних свитков и глиняных табличек, нас не покидают опасения, что все, о чем мы когда-то
читали или слышали, было сделано искусственно».
2
Причины, по которым некто может стремиться уничтожить реальное прошлое и заменить его
искусственным прошлым, раскрывают нам два романа-предостережения, демонстрирующие
совершенно очевидное чувство безнадежной нереальности. Большой Брат в романе Оруэл-ла
«1984» контролирует настоящее тем, что контролирует прошлое. Поскольку «события
прошлого... не обладают объективным существованием, но существуют только в форме

письменных свидетельств и человеческой памяти», из этого следует, что «прошлое — это и
есть то, на чем письменные свидетельства и воспоминания сходятся». А потому, «что Партия
сочтет нужным... воссоздать в той форме, которая требуется в данный момент,... то и есть
прошлое, и совершенно безразлично, что такого прошлого на самом деле никогда не было».
Для того, чтобы обеспечить непогрешимость Партии, «прошлое, начиная со вчерашнего дня,
отменяется... Нет ничего, кроме бесконечного настоящего».
3
Следователь использует аргумент Госса для того, чтобы подорвать веру Уинстона в
существование прошлого:
— Земле столько же лет, сколько нам самим, ничуть не больше. Да и как она может быть старше нас? Нет ничего, кроме
сознания человека...
— Но в земле полно костей вымерших животных — мамонтов и мастодонтов, громадных рептилий, которые жили
задолго до того, как о человеке вообще что-либо стало слышно.
1
Lewis С. I. Analysis of Knowledge and Valuation. P. 358. См. также: Danto. Analytical Philosophy of History. P. 68—70, 77,
78; Murphy. Our Knowledge of the Historical Past. P. 10—12; Earle. Memory. P. 10.
2
Bradbury. Machine-tooled happyland — Disneyland. ^Оруэлл. 1984. P. 170, 126, 127.
302
— А ты когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Конечно же, нет. Это все биологи в XIX в. придумали. До человека
вообще ничего не было.'
Подобному скептицизму способствуют усилия по воссозданию утраченного прошлого в
произведении Дэвида Эли «Тайм-аут». Для того, чтобы никто не узнал о ядерном взрыве,
стершем за несколько десятилетий до того Англию с лица земли, американо-советские
военные решили воссоздать «каждую веточку и каждый камешек... каждую былинку, каждый
забор и кустик, каждый дом, дворец, хижину и свинарник. Абсолютно все», восстанавливая
при этом все архивы и реликвии, говорящие обо всем прошлом Англии — включая сюда даже
те события, которые могли бы случиться, если бы не ядерный инцидент.
2
Вовлеченный в эту
операцию по воссозданию нового прошлого, американский историк Галл (Gull) жалуется по
поводу того, что люди обречены видеть:
— Что они должны думать, когда видят, как строят Бленхеймский дворец...?
— Они должны думать так, как думают прирожденные англичане, Гулль, потому что именно так их воспитали. Если
учебники по истории и учителя говорят им, что Бленхейм был построен в 1722 г., они думают именно так, и неважно,
что происходит у них перед глазами.
— Прочистка мозгов?
— Возможно. Но ведь именно так всегда воспитывали молодежь. Меня и тебя, Гулль, тоже.
— С чего ты взял, что Бленхеймский дворец построили в 1722 г.?
— С того, что это так и есть... или так и было.
— С того, что тебя приучили думать, будто это так было.
3
Скрупулезное воссоздание прошлого в конце концов ставит Гулля перед вопросом:
предположим, что все это, «возможно, было прежде. Предположим, что сейчас мы делаем это
во второй раз... или в десятый? Вполне возможно, что та Англия, которую он теперь так
старательно копирует, сама была подделкой».
4
Исторические подделки в большом количестве
были известны и прежде, так разве все прошлое в целом не может быть чьей-то хитрой
выдумкой?
Несмотря на все наши успехи в понимании и воссоздании прошлого, сомнения протагонистов
Оруэлла и Эли преследуют нас до сих пор. «Познание прошлого, — как говорит Кублер, —
это столь же поразительное занятие, как и познание звезд»,
5
и его столь же трудно подтвер-
дить документально.
Исходная неопределенность прошлого заставляет нас сомневаться, действительно ли все было
так, как утверждает общее мнение. Для того, чтобы убедиться в том, что вчерашний день
столь же реален, как и сегодняшний, мы насыщаем жизнь разнообразными реликтами про-
1
Там же. С. 213.
2
Ely David. Time Out. P. 95, 90.
3
Ibid. P. 104.
4
Ibid. P. 130, 131.
5
Kubler. Shape of Time. P. 19.
303
шлого, освежаем память и историю при помощи разных осязаемых форм. Нам нравится
думать, что те, кто жил прежде, хотели дать нам понять, насколько это было реальным.
Выставляя на обозрение в 1978 г. дневники и письма пионеров XIX в., Центр Наследия в
Колорадо прокомментировал это событие так: «Они взяли на себя труд зафиксировать свои
наблюдения и чувства, оставляя нам свидетельства самых своих сокровенных помыслов». Они
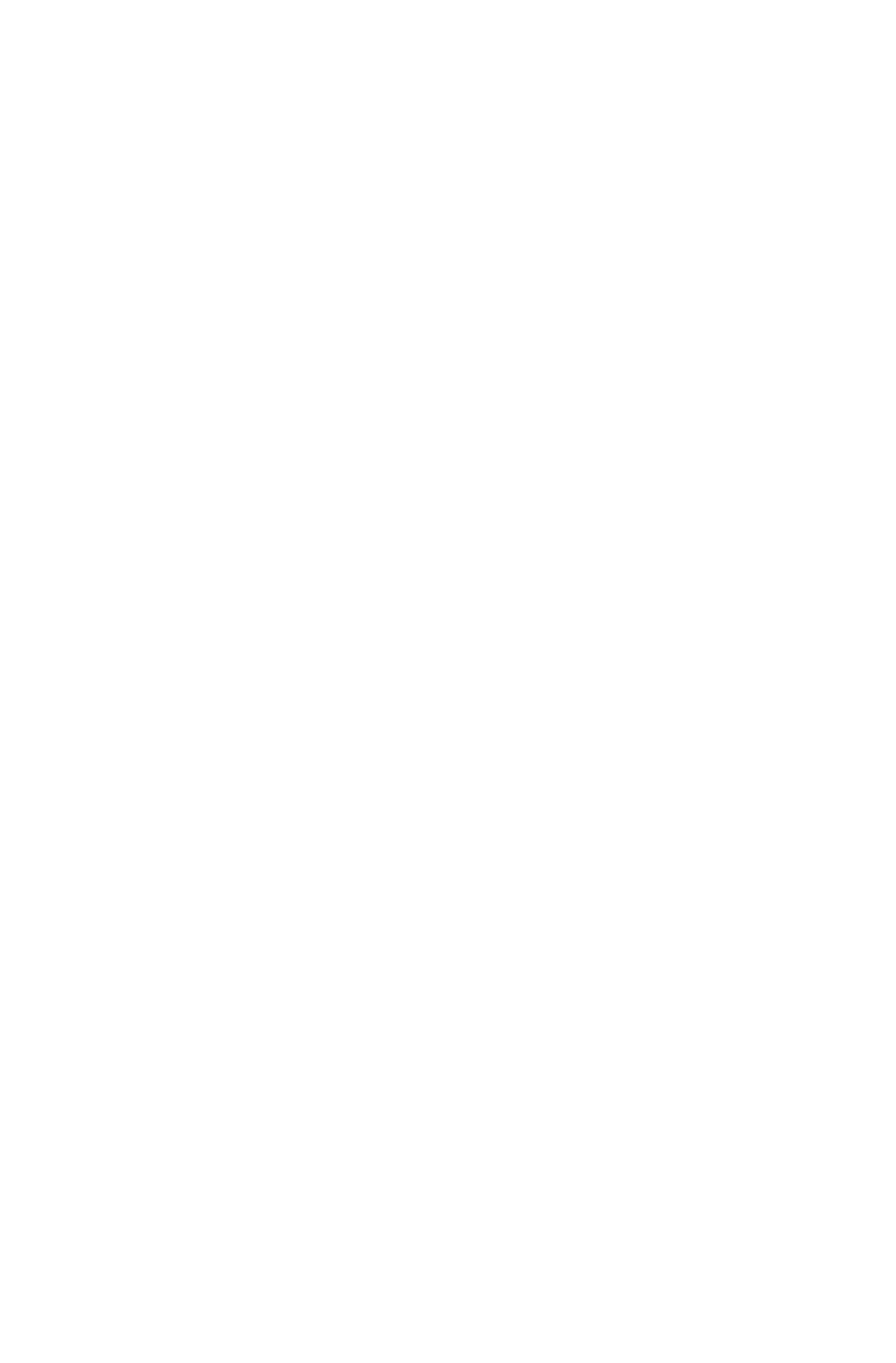
вели эти хроники жизни, как будто заботясь о том, чтобы их прошлое стало известно нам.
Тем не менее, все мы понимаем, что в принципе не можем познавать прошлое таким же
образом, как настоящее. Прошлое — это [действительно] «чужая страна» Л. П. Хартли, где
все по-другому. То, что нам известно как «прошлое», никогда прежде не переживалось кем-
либо как «настоящее».
1
В определенном смысле, мы знаем его лучше чем те, кто
действительно жил в нем. По замечанию Т. С. Элиота, мы ощущаем «прошлое таким образом
и в такой степени, какими прошлое сознание никогда относительно себя не обладало».
2
Мы
понимаем настоящее, одновременно его проживая, тогда как прошлое мы наблюдаем со
стороны в его завершенности, включая сюда и знание о том, что в те времена выступало еще
лишь как будущее. Так, осушение старых топей становится всего лишь фазой в ряду
мелиоративных работ; ретроспективные выставки представляют нам ранние работы
художника как прообраз более поздних его работ; воздействие, которое данное поколение
оказывает на потомков, политических преемников, научных последователей, бросает и новый
свет на те карьеры, которые уже завершились задолго до того. Последствия подобного
ретроспективного знания о прошлом мы обсудим ниже в данной главе.
Однако наша способность понимать прошлое еще во многих случаях оказывается
недостаточной. Сохраняющиеся следы прошлых мыслей и событий представляют собой
крохотную часть той темпоральной ткани, которая выступала для предыдущих поколений как
их настоящее. «Даже тогда, когда мы сознаем, что участвуем в некоем великом историческом
событии... мы ясно чувствуем, что данное событие в том виде, в каком оно попадет на
страницы истории, будет лишь частью тех переживаний, какими для нас было настоящее, —
рассуждает Евгений Минковский (Е. Minkowski). — Мы прекрасно сознаем, что так на-
зываемое „историческое" — это лишь часть, аспект того, что мы делали и чем жили».
3
Память, похоже, ничуть не в большей степени непогрешима, чем история. Какими бы емкими
ни были наши воспоминания, мы понимаем, что это лишь слабый отблеск некогда живого
настоящего. И не важно, насколько ярко и живо мы помним и воспроизводим былое, с
нарастающей скоростью оно погружается в тень, лишенное чувственности и блекнущее в
забвении. «Представление никогда не передаст
1
Piaget and Inhelder. Memory and Intelligence. P. 398, 399.
2
Eliot T. S. Tradition and individual talent. P. 16.
3
Minkowski Eugene. Lived Time. P. 167.
304
тепла прошлого, — пишет Симона де Бовуар, — все, что от него остается — один лишь
остов». События минувшего возвращаются к нам «как бабочки на булавке под стеклом: они
уже никуда не движутся. Их отношения друг с другом полностью замерли, они оцепенели».
Для нее увядающее «прошлое — вовсе не мирно лежащий передо мной ландшафт, страна, в
которой я могу бродить, где вздумается, и которая шаг за шагом покажет мне все свои
скрытые холмы и долины. По мере моего продвижения, оно все рассыпалось под ногами».
Эрозия времени накладывает скорбный отпечаток на все содержимое памяти: «Большинство
сохранившихся обломков лишены цвета, искажены и неподвижны, их значение ускользает от
меня».
1
Уже сама определенность настоящего ослабляет вчерашний день. «Главная причина, по
которой прошлое столь слабо — это исключительная сила настоящего», — высказывает
предположение Карне-Россе (Carne-Rosse).
Пытаться сейчас достичь реального «чувства прошлого» — все равно, что из ярко освещенной комнаты выглядывать в
полумрак. Кажется, что видишь что-то там в саду, в дуновении ветерка виднеются неясные формы деревьев, какой-то
намек на дорожку и, похоже, отблеск воды. Или все это лишь видение, возникшее на оконном стекле, как Фурии в пьесе
Элиота? Или там за стеклом вообще нет ничего настоящего, и единственная реальность — эта освещенная комната?
2
Прошлому также не хватает темпоральной согласованности. В зависимости от содержания и
контекста, оно может войти в настоящее откуда угодно: от ближайшего мгновения — до
прошлой эры. Голоцен, или «ближайшая» эра относит геологическое прошлое на 10 000 лет
назад; эдафическое и флористическое прошлое простирается на несколько столетий назад, а
так называемое «правдоподобное настоящее» позволяет нам относить к «этому» веку все
события, начиная с 1901 г. и по сей день. Человеческое прошлое иногда завершается нашим
рождением, случайно может совпасть с календарным годом, часто вторгается в текущий
момент. Отдельные события прошлого всегда сохраняют некоторую дистанцию, другие

отступают или, наоборот, нагоняют нас. «Старый Запад» живет в народной памяти Америки
как такой период, который всегда лет сорок как закончился. Однако и через пятьдесят лет, как
предсказывает историк, люди будут говорить, что «усопший» Старый Запад процветал еще в
1980-е.
3
Не уверенный в собственном отсутствии, недоступный, но одновременно хорошо известный,
характер прошлого зависит от того, как — и в какой степени — его осознанно постигают.
Каким образом происходит такое постижение, и как оно формирует наше понимание — вот
главный предмет обсуждения в этой главе.
1
Beauvoir Simone de. Old Age. P. 407, 408.
2
Carne-Rosse. Scenario for a new year: 3. The sense of the past. P. 241.
3
Meyer L. B. Music and Arts and Ideas. P. 169; Josephy. Awesome space:... interpretation of the Old West.
305
Память
Прошлое — это то, что ты помнишь, что тебе кажется, что помнишь; то, в чем ты уверен, что помнишь, или утверждаешь, что
помнишь.
Гарольд Пинтер
1
Все, что мы знаем о прошлом, основывается на памяти. Через воспоминания мы сознаем
прошлые события, отличаем вчерашний день от сегодняшнего и убеждаемся, что переживаем
именно прошлое.
Однако тот спектр значений, которые обычно связывают с памятью, далеко выходит за
пределы ее связи с прошлым и зачастую лишь затемняет ее. Мнемонические системы,
которые требуют большого внимания и значительного напряжения памяти, — вспомнить
людей, которых нужно встретить, дела, которые нужно сделать, дороги, которыми нужно
пройти — фокусируются по большей части на будущем.
2
Такие аспекты памяти соотносятся
со знанием прошлого лишь по касательной. Но если повседневное использование памяти
выходит за пределы знания прошлого, большинство психологических исследований подобное
знание вообще отрицает. Внимание психологов привлекали к себе кратковременная память
ближайшего прошлого и припоминание преднамеренно запоминаемого материала, поскольку
именно они лучше всего подходили для лабораторного анализа — поддающегося воспро-
изведению, свободного от ценностных установок и количественно определенного.
«Воспоминания», длящиеся менее минуты, по большей части сфокусированы на текущей
деятельности субъекта. Исследования психологов столь маловразумительны, что один из них,
Ульрих Найссер, отмечает, что «если X— это интересующий нас или социально значимый
аспект памяти, то психологи навряд ли когда занимались этим X». Когда людей спрашивают,
что их интересует в работе памяти, они говорят о том, что не могут вспомнить раннее детство,
о том, что им трудно запоминать имена или назначенные встречи, о тетушке, которая могла
бесконечно читать стихи наизусть, о том, как много или как мало изменился старый дом за
тридцать лет отсутствия, о различиях между собственной памятью и памятью других людей,
об удовольствиях или огорчениях, которые доставляют воспоминания. О большей части
подобных сюжетов психологам практически нечего сказать.
3
Даже если бы научное изучение
естественной и повседневной памяти было куда более интенсивным, чем сейчас, отмечает
один из оппонентов Найссера,
4
его результаты все равно не вышли бы за пределы сугубо
научных журналов. Все наиболее значительные открытия о работе памяти исходят не от
научных психологов, а от писателей, историков и психоаналитиков. Именно на эти источники
делает акцент Найссер в своей работе «Запоминание в естественном контексте».
1
Pinter Harold. Цит. по: Alder. Pinter's Night: a scroll down memory lane. P. 462.
2
Meacher and Leiman. Remembering to perform future actions.
3
Neisser. Memory: what are the important questions? P. 4, 5.
4
Baddeley Alan. Keeping things in the mind // New Scientist. 2 Sept. 1982. P. 636.
306
Ввиду явного недостатка в научных исследованиях, обычная память обросла мифами. Один из
таких давних мифов утверждает, что память представляет собой непрерывное сохранение в
мозгу входящих физических импульсов, которые определенным способом можно восстано-
вить вновь в текущем сознании. Один пожилой мужчина в больнице заявил: «Они могут
оттяпать вам полсотни футов кишок, но им не под силу стереть пятьдесят секунд памяти».
1
То, каким образом эти убеждения используются при гипнотических и иного рода
воспоминаниях, мы рассмотрели в главе 1. Еще один широко распространенный миф

утверждает, что природа и потенциальная сила памяти у всех нас одинаковы и их невозможно
сколько-нибудь существенным образом изменить. Напротив, имеются многочисленные
свидетельства в пользу того, что и врожденные способности, и прижизненный опыт
оказывают воздействие на возможности памяти.
2
Третий миф утверждает, что поскольку люди в «устных» обществах не фиксируют и не
передают мысли письменным образом, они должны обладать более развитой памятью и
большими возможностями детального запоминания, чем люди из цивилизованных сообществ.
Это убеждение опровергается большинством имеющихся данных.
3
Согласно четвертому
распространенному взгляду, чем больше нам удается запомнить, тем лучше. На самом же
деле, для того, чтобы обобщать данные и эффективно действовать нужна не
энциклопедическая, но высоко избирательная память и способность забывать то, что больше
не требуется.
Нашу задачу в настоящей главе составляет в большей степени исследование природы и
ценности запоминаемого материала, чем процесс запоминания сам по себе. Мы начнем с
рассмотрения индивидуальных и коллективных характеристик памяти, затем перейдем к
изучению того, каким образом воспоминание воздействует на чувство идентичности, после
этого обсудим, в какой степени может быть подтверждена «достоверность» воспоминаний.
Различные типы воспоминаний, произвольные и непроизвольные, врожденные и приобретен-
ные, вскрывают разные аспекты событий прошлого и лишь в сочетании дают нам
представление о прошлом в его целостности. Необходимость повторно использовать
содержание памяти, а также забывать в такой же мере, как и запоминать, вынуждает нас
отбирать, очищать, искажать и трансформировать прошлое в соответствии с запоминаемыми
событиями и потребностями настоящего.
1
Simpson Marcus Nathaniel. Цит. по: Cattle and Klineberg. Present of Things Future. P. 49.
2
Neisser. Memorists; Gruneberg. Morris, and Sykes, Practical Aspects of Memory. Individual differences. P. 339—365;
Belmont. Individual differences in memory.
3
Neisser. Literacy and memory; Vansina. Oral Tradition. P. 40. Как показали Милман Пэрри (М. Parry) и Уолтер Б. Лорд
(W.B. Lord), устное повествование редко когда предполагает дословное запоминание (Scholes and Kellog, Nature of
Narrativr. P. 21—23). Только в древнем Израиле традиция требовала ipsissima verba (дословного воспроизведения)
священных текстов (Gerhardsson. Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and
Early Christianity. P. 130—1). См. далее на с. 317.
307
Память пронизывает всю нашу жизнь. Мы посвящаем значительную часть настоящего тому,
чтобы добраться до определенных аспектов прошлого и удержать их. Лишь немногие часы
бодрствования проходят без воспоминаний и лишь значительная концентрация на какой-то
насущной потребности способна заставить прошлое уйти из нашего сознания. Но
переживания памяти, которые допускает настоящее, состоят из иерархии привычек, памяти и
памятных вещей (memento).
Привычки охватывают собой все присутствующие в сознании следы прошлых поступков и
мыслей, сознательно или бессознательно сохраняемые памятью. Воспоминания — это более
ограниченные, чем привычки, но все еще вездесущие переживания, они включают в себя
сознание о прошлых событиях и состояниях бытия. Памятные вещи — это особенно дорогие,
заветные переживания, сознательно сохраняемые из громадного общего массива памяти. Эта
иерархия напоминает реликвии: все сколько-нибудь знакомое имеет некоторое отношение к
прошлому и может вызывать определенные воспоминания. Но среди этого обширного строя
потенциальных мнемонических образов прошлого мы храним лишь несколько сувениров,
напоминающих нам о нашем собственном и прочем прошлом. Как и коллекции антиквариата,
эти наши хранилища драгоценных воспоминаний находятся в постоянном движении: мы
можем добавлять в них новые дары времени, а прежние — удалять, одни — поднимать к
поверхности сознания, а другие — погружать в подсознание.'
Воспоминания во всех их видах с течением времени накапливаются. И хотя некоторые из них
исчезают безвозвратно, а другие подвергаются изменению, общий итог событий,
поддающихся такого рода восстановлению, по мере течения жизни и накопления опыта
растет.
Личное и коллективное
Хранящееся в памяти прошлое — имеет одновременно личный и коллективный характер.
Однако в качестве формы сознания, память целиком и полностью индивидуальна. Она всегда

переживается как «некое определенное событие, происходящее со мной».
2
В первую очередь,
мы запоминаем свой собственный опыт, а воспоминаемое прошлое представляет наше
достояние. «Нет ничего более личного, чем воспоминания человека, — отмечает Б. С.
Бенджамин (Benjamin), — и охраняя их частный характер, мы тем самым охраняем самые
основы собственной личности». Но память по природе своей неприкосновенна, большая часть
наших воспоминаний носит частный характер, и «нас не нужно учить, что делать для того,
чтобы оградить их от посторонних».
1
Fred Davis. Yearning for Yesterday. P. 48; Piaget and Inhelder. Memory and Intelligence. P. 387, 388.
2
Earle. Memory. P. 13.
308
Они остаются таковыми до тех пор, пока мы не решаемся вынести их на публику. Но даже и
тогда они не смогут полностью стать общим достоянием. Ведь если кто-то другой знает о
моих воспоминаниях — это совсем не то, как если бы он обладал ими. «Хотя мы и говорим о
том, чтобы разделить свои воспоминания с другими, в действительности мы можем
поделиться ими не более, чем поделиться болью».
1
Равным образом совершенно уникально и
содержание нашей памяти: она включает в себя мгновенные и интимные детали прошлых
событий, взаимоотношения и чувства. Изобретенный мною тайный язык, страх соседа,
которому не нравилась моя собака, боль от укуса пчелы, перелом руки, — все это мои
воспоминания о тех временах, когда мне было 12 лет, и таких же точно воспоминаний не
может быть ни у кого. Исключительно личные детские пристрастия Остина Райта —
любимый бейсбольный игрок, оперный певец, пароход, сорт мороженого, — вот лейтмотив
его «Мифологии Морли», в которой зловещий гость напоминает Морли о всех тех событиях,
которые мог знать только сам Морли.
2
Память превращает события общественной жизни в исключительно личные переживания. Как
часть воспоминаний о «новом курсе» Рузвельта, я, например, помню, что мои родители были
несправедливы по отношению к президенту, а мои дедушка и бабушка с предубеждением
относились к профсоюзам. Политическая история стала частью истории моей семьи. Часто
вспоминаемые события открывают дорогу к более легкомысленным личным воспоминаниям.
По мнению Фрэнсиса Фитцжеральда, «вид старого учебника, скорее, вызовет в памяти образ
классной комнаты восьмого класса, нежели напомнит нам о сменявших друг друга
президентах, или о важности закона о тарифах Смута-Хау-ли».
3
Частные воспоминания — это как частная собственность. Как отмечает философ, «в памяти
нам непосредственно открывается, что наш собственный опыт прошлого принадлежит
именно нам». «Раз мне доводилось когда-то укладывать дочку в постель, этот опыт навсегда
остается моим опытом».
4
В самом деле, некоторые ценят свой личный опыт так, как ценили
бы старинные вещи. Они рады тому, что приобрели опыт, который можно помнить, и хранят
воспоминания, которые расширяют их уважение к самим себе.
5
Коль скоро многие воспоминания имеют сугубо личный характер, с каждой смертью часть из
них исчезает безвозвратно. «Любовь Елены умерла со смертью одного человека», — пишет
Борхес. В стране Тлен осязаемая непрерывность зависит от памяти: «Вещи... удваиваются, но
у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали когда люди
1
Benjamin. Remembering. P. 171.
2
Однако ностальгически размышления, которым предается Фред Дэвис, показывают, что «сокровенное» прошлое,
скорее, похоже на то, какое было у всех, нежели на нечто действительно уникальное. (См.: Fred Davis. Yearning
for Yesterday. P. 43.)
3
Fitzgerald. America Revised. P. 17.
4
Burton R. G. Human awareness of time. P. 307.
5
Schachtel. Metamorphosis. P. 311.
309
про них забывают. Классический пример — порог, существовавший, пока на него ступал
некий нищий, и исчезнувший из виду, когда тот умер».
1
У народа суахили усопшего, который
остается в памяти своих близких, называют «живым мертвецом». Окончательно он умрет
лишь тогда, когда уйдет из жизни последний из знавших его.
2
Будучи неспособным передать
унаследованный багаж воспоминаний, единственный оставшийся в живых потомок древнего
рода несет на себе тяжкое бремя. Ее называют Последний лист. «Поколения остаются живы
лишь в мерцающей памяти человека, чьи дни также подходят к концу», — так описывает эту
ситуацию геронтолог. «Ее сознание — это последняя общая тропа, последнее прибежище

всего, что прежде обитало в одной из ветвей человеческого существования». Последний лист
— это «все, на что прошлое еще может надеяться — и ей это известно».
3
Однако, по всей
видимости, не все станут горевать о подобной утрате. Анна Фрейд, чья память хранила
столько воспоминаний, даже в старости не могла себе позволить поделиться ими «с читающей
публикой,... а потому я оставляю за собой привилегию унести все это с собой».
4
Уникальная личностная природа памяти не только обрекает ее в конце концов на
окончательное исчезновение, но и препятствует коммуникации с прошлым. Нас постоянно
охватывают сомнения в достоверности тех воспоминаний, которые носят исключительно
личный характер. «Поскольку они принадлежат мне и только мне, и я не могу разделить их с
другими, воспоминания кажутся мне нереальными», — так чувствует себя Уоллес Стегнер
(Stegner), вернувшись в дом своего детства в прерии и обнаружив, что «не осталось никого, с
кем я ходил в школу, ни одного человека, с кем я мог бы разделить свои воспоминания»
детства. «Я лелеял эти воспоминания годами, как будто так все на самом деле и было, я
превратил их в рассказы и романы. А теперь они кажутся недостоверными и обманчивыми...
так мало у меня доказательств того, что я сам пережил то, что помню... Иногда мне кажется,
что я помню не то, что было на самом деле, а то, что сам написал».
5
Как и достоверность воспоминаний, истоки нашего происхождения также покрыты пеленой
сомнений. Нам редко когда удается отличить первичные воспоминания от вторичных,
воспоминаний о событиях, от памяти об этих воспоминаниях. Нелегко отличить «голое
воспоминание» Вордсворта от «после-мышления».
6
Вспоминая детские годы в
1
Борхес Л. Свидетель. Его же: Тлен, Укбар и Orbis Tertius // Борхес. Коллекция. С. 112.
2
Uchendu. Ancestorcide! Are African ancestors dead? P. 287. «Пока усопшего помнят по имени, он еще в
действительности не „умер", он остается живым... в памяти тех, кто его знал при жизни, а также он живет в мире духов»,
и такое может продолжаться на протяжении четырех-пяти поколений (Mbiti. African Religions & Philosophy. P. 25).
3
Kastenbaum. Memories of tomorrow. P. 204.
4
Freud Anna. (1977). Цит. по: Muriel Gardiner. Freud's brave daughter // Observer. 10 Oct. 1982. P. 31.
5
Stegner. Wolf Willow. P. 14—17.
6
Anscombe. Experience and causation. P. 27, 28; Fraisse. Psychology of Time. P. 162; Wordsworth. The Prelude. Bk III. Lines
614—616. P. 107. См. также: Mendilow. Time and the Novel. P. 219.
310
Сент-Ивс, Виржиния Вулф говорила об ощущении, будто «видела все происходившее так, как
если бы была там... Моя память замещала то, что забылось, так что казалось, будто все это
происходило само собой, хотя на самом деле все это делала я сама».' Подобные сомнения
вплетают в эту ткань и других людей. О многих событиях, которые, как кажется, мы знаем из
собственного опыта, на самом деле мы услышали от других людей, но затем они стали
неотъемлемой частью наших собственных воспоминаний. «Очень часто,... когда я вспоминаю
события собственного прошлого, то „вижу самого себя" делающим то, что совершенно
очевидно никак не мог сделать в прошлом», — отмечает Поль Брокельман (Brokelman). Так,
например, я вижу «самого себя», вылезающим из постели» — событие, о котором ему, по всей
видимости, рассказывала мать.
2
Память о событиях прошлого других людей часто таится и
маскируется под наши собственные воспоминания.
Действительно, мы нуждаемся в воспоминаниях других людей для того, чтобы подтвердить
собственную память и придать ей устойчивость. В отличие от сновидений, которые являются
исключительно личным достоянием, наша память постоянно пополняется за счет вос-
поминаний других людей. Делясь воспоминаниями с другими и подтверждая их, мы придаем
им устойчивость и тем самым способствуем их воспроизведению. Те события, о которых
знаем мы и только мы, менее определенны, их сложнее припомнить. Соединяя разрозненные
воспоминания в целостное повествование, мы вносим исправления в личностные компоненты
таким образом, чтобы они соответствовали коллективной памяти об этих событиях. При этом
постепенно утрачивается возможность различения коллективных и личных компонентов.
3
Сравнительно позднее развитие памяти в детстве и сохраняющаяся связь со старшим
поколением и предшествующим миром также делают наличие коллективного слоя памяти
необходимым. «Никто не мог в прошлом и не сможет в будущем узнать, кто он такой». Без
опоры на осколки памяти родителей и дедушек и бабушек нам пришлось бы выдумывать
большую часть собственных воспоминаний.
4
От старших братьев и сестер также нам
достается память, которая отчасти препятствует формированию наших собственных
воспоминаний. По замечанию Анны Тайлер (Tyler), «как и множеству других молодых людей,
