Кент Рокуэлл. Это я, Господи!
Подождите немного. Документ загружается.

и в нем и застрял. Спешу добавить, что дома его никто к этому не
принуждал. Он оставался в банке скорее в силу врожденного тяготе-
ния к такой сфере деятельности, где бы ему не мешала его нелюбовь
к учению и отсутствие определенного призвания. Нередко встречаю-
щееся у братьев различие в характерах становилась все более ощу-
тимым по мере того, как мы росли и шли каждый своей дорогой. Мы
с неодобрением смотрели друг на друга: мне не нравилось, каким
стал он, ему не нравилось, каким стал я. В дальнейшем мы встреча-
лись уже редко. Сестра Дороти, моложе меня на шесть лет, рано
проявила музыкальную одаренность. Одиннадцати или двенадцати
лет она начала учиться игре на скрипке. Когда ее отдали в закрытую
епископальную школу, я счел это ошибкой и как старший брат ре-
шил сказать об этом матушке, чем только вызвал ее гнев. Что ж, дом,
где жили братец — банковский клерк, сестричка-церковница и ма-
тушка, которая полностью одобряла образ жизни своих детей, не мог
не показаться после всех моих странствий чем-то вроде стоячего
пруда.
Читала матушка — как это и должно в ее положении — только для
удовольствия. Она выбирала для чтения хорошую беллетристику, ин-
тересные романы — Де Моргана, Арнольда Беннетта, Уэллса и даже
Драйзера. Жизнь в том виде, как о ней рассказывали честные беллет-
ристы, трогала матушку, ее трогали юмор, трагизм и скорбь, заклю-
ченные в человеческом существовании. Из писателей особенно нра-
вился ей Драйзер. Она была очень искренна в своих либеральных,
демократических взглядах и поддерживала республиканскую партию.
Матушка видела зло, царящее в мире, видела несправедливость и
горе; в известной степени, они ее огорчали. Однако периодически
наступавшие кризисы, безработицу и нищету, следствием которых
так часто бывает зло, она воспринимала как наводнения и эпиде-
мии — как дело рук господа, а господь, несмотря на эти свои деяния,
был, несомненно, хороший республиканец.
Если мне надоедал наш дом, то сколько же забот доставлял родным
такой бродяга, как я. Мое глупое вегетарианство, мое упорное неже-
лание отказаться от него, несмотря на торжественное наставление
нашего домашнего врача, что «человеческий организм не может су-
ществовать на такой диете». Мои социалистические теории, которые,
«сколь бы хороши они ни были с умозрительной точки зрения, как
известно каждому, совершенно неосуществимы на практике». Все это
было никому не нужно, все только причиняло беспокойство. А самое
главное заключалось в моем изначальном прегрешении — в уходе из
колледжа, отказе от диплома, от изучения архитектуры.
Но, как показала жизнь, я вовсе не бросил архитектуру. Для ху-
дожника, чьи картины никто не покупал в ту зиму и много зим и
лет подряд, архитектура служила единственным верным источником
существования. Я снова занял свое место у чертежного стола в
— 141 —
преуспевающей фирме «Юинг и Чэппелл», место, которое за мои преж-
ние заслуги держали свободным на случай моего возвращения. Снова
жизнь пошла по-старому: поездом в восемь десять в Нью-Йорк;
поездом в пять пять домой; почти каждый вечер визиты к Келси или
к Юингам или сердечные беседы с Руфусом Уиксом в квартире Со-
кола над аптекой; по субботам и воскресеньям снова прогулки вер-
хом, а иногда танцы, котильон во главе с Блейном Юингом или —
хотите верьте, хотите нет — со мной.
Встречи за чайным столом у Юингов в воскресенье днем проходили
очень весело и приятно: там собирались иногда веселые, иногда ум-
ные, но всегда дружески настроенные люди. Однажды гостьей на
таком воскресном собрании была поразительно хорошенькая девушка
из Канады. У всех нас взыграла молодая кровь, и мы толпились во-
круг нее, стараясь выглядеть в ее прекрасных глазах остроумными,
умными или по крайней мере увлекательно глупыми. В ходе разго-
воров выяснялось, что в Канаде юноши и девушки очень подробно
изучают биографии канадских «героев», о которых никто и не слыхи-
вал, и вовсе ничего не знают о великих американцах. Да, о Джордже
Вашингтоне она слышала, но Александр Гамильтон, кто это такой?
— Что! — воскликнул я. — Вы не знаете Александра Гамильтона?
Послушайте, что говорит о нем Талейран в своих «Заметках о рес-
публике»: «Я считаю Наполеона, Фокса и Гамильтона тремя вели-
чайшими людьми нашей эпохи. И если бы мне пришлось сделать
между ними выбор, я без колебаний отдал бы первое место Гамиль-
тону. Он разгадал Европу».
О том, какое поистине ошеломляющее действие произвела на впе-
чатлительную девушку эта французская цитата, я предоставляю су-
дить читателю.
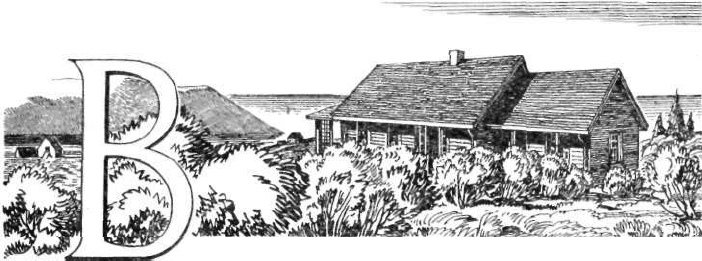
ЕСЬ ЭТОТ КУСОК ЗЕМЛИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
на Хорнсхилле, остров Монхеган в графстве Линкольн, штат Мэн, со
следующими границами и знаками...» (далее шло множество юриди-
ческой тарабарщины по поводу старых оград и столбов в вышеука-
занных старых оградах, когда-то торчавших там и сям пней, меже-
вых камней; затем говорилось — все со словечком «около» — о рас-
стояниях в квадратных футах: 14 400 — но тоже «около») — весь этот
участок переходил ко мне, к моим наследникам и преемникам «в их
пользование и вечную собственность... со всеми вытекающими пра-
вами и со всем находившимся тут имуществом». Коротко гово-
ря, в мои руки переходил кусок планеты Земля, в солнечной си-
стеме, в нашей галактике — я стал законным владельцем этого
куска.
Джордж Эверетт, бывший художник, занявшийся перекупкой зем-
ли, продавая мне участок, начертил очень красивую карту Хорнс-
хилла; там были отмечены все жилые строения, все улочки и места,
по которым можно было ходить, не нарушая чужих прав. Однако,
когда Эверетт стал показывать границы моего участка, от этой карты
было мало толку.
— Ваша граница проходит примерно здесь, — говорил Эверетт,
ткнув пальцем в сторону непроходимой чащи ольшаника. — А тут
она забирает к югу, — продолжал он, захватив рукой на карте чащу
и зеленую лужайку, — а потом где-то рядом. А вот этот участок, вон
там, подальше, принадлежит вдове Олби!
— Значит, если я поставлю дом здесь, — спросил я, указав на са-
мый глухой угол своих предполагаемых владений, — то все будет в
порядке?
Ну, разумеется, — сказал он, — ваша граница проходит где-то
там, подальше.
Именно на этом месте я и выстроил дом.
Но мы забегаем далеко вперед, потому что землю я купил в апреле,
и прошло много месяцев, пока я взялся за постройку дома. Тем вре-
менем Хайрэм снова позвал меня работать — рыть колодцы. И уже
— 143 —
III КУСОК ЗЕМЛИ
через несколько дней я махал молотом так легко и свободно, будто
занимался этим всю жизнь.
Стояла весна, и на Монхегане нашлась для меня и другая работа:
в полном разгаре была ловля омаров, основное занятие жителей; она
продолжалась до июня, когда сезон заканчивался. Нужно сказать,
что у Хайрэма Казалиса был брат Джордж, краснощекий, кругло-
лицый, пышущий здоровьем парень — один из самых добросердечных
и отзывчивых людей на земле и в то же время один из самых неудач-
ливых. Все любили Джорджа, и Джордж любил всех, поэтому не уди-
вительно, что он любил и меня. И, любя меня, он время от времени
давал мне работу.
В те дни на ловлю омаров рыбаки обычно выходили вдвоем в плос-
кодонках. Однако Джордж Казалис составлял здесь исключение. Он
владел довольно большой лодкой с каютой и с одноцилиндровым мо-
тором. «Дженет Би» была старая посудина, плохо поддававшаяся
управлению, но Джордж каким-то образом умел с ней ладить. Ему
вовсе не нужен был помощник, с которым пришлось бы делить и
прибыль, но он любил хорошую компанию, а лучшей компанией он
в ту пору считал меня.
Я научился очень здорово управляться с маленькими лодками. На
плоскодонке и в ялике я чувствовал себя не хуже любого монхеганца,
и, привыкнув к работе на море, я ее полюбил. Привыкнуть к ней
сразу мне помог один случай: в совершенно безветренный солнечный
день, бросая маслянистые отблески, слабая зыбь баюкала и покачи-
вала старушку «Дженет Би», а мы уже выбирали верши для лова
омаров. День стоял не по сезону жаркий, и жара весьма благоприят-
ствовала зарождению, созреванию и появлению на свет божий всех
затаившихся в этом старом корыте больших и малых запахов: за-
паха бензина, который пропитывал рубку моториста, запаха застояв-
шейся трюмной воды и гнилой зловонной селедки, употреблявшейся
в качестве приманки. Какая это была тошнотворная смесь!
— Что с тобой, ты вроде бы позеленел? — весело спросил меня
Джордж, черт бы его побрал.
Есть поговорка, что дела говорят громче... В общем, я ответил ему
делом и весьма быстро. Возможность излиться, дать выход тому, что
наполняло меня, благословенный акт самовыражения оказал оздоров-
ляющее действие, я сразу почувствовал себя лучше и, надо сказать,
пребываю в добром здоровье до сих пор.
Почему-то не было дня, чтобы со старушкой «Дженет Би» что-ни-
будь не приключалось. Если уж мотор заводился — а крутить тяже-
лое маховое колесо было поистине мучительно, — то близ наветрен-
него берега он непременно глохнул. Два или три раза мы едва не раз-
бились о прибрежные скалы. Впрочем, я не волновался — я-то умел
плавать. Джордж плавать не умел и никогда не входил в воду, за
исключением двух или трех раз, когда он в нее сваливался. Люди
— 144 —
предупреждали меня, чтобы я не выходил в море с Джорджем Каза-
лисом. Но, может быть, хорошо, что я их не послушался, во всяком
случае, для Джорджа. Мое везенье превозмогало его неудачливость.
А потом разве есть на свете лучшая школа, чем собственный опыт?
Помню, вышел я в море с Джорджем в конце декабря или в начале
января, когда надо было ставить верши. До того по многу месяцев
рыбаки готовили эти верши к лову: чинили старые, заменяя сломан-
ные деревянные планки и покрытия, делали новые верши, оснащали
их, прикрепляли грузила, мастерили задвижки и красили яркой
краской буйки, каждый рыбак в свой цвет со своими знаками. А по-
том верши для удобства ставились вдоль берега, где причаливали
лодки, выстраивались как готовые взять старт лошади у барьера. По
мере приближения дня, когда верши вывозят в море — этот день зара-
нее точно не определяли, ожидая, когда повысится спрос на ома-
ров, — напряжение возрастало. Кто-нибудь обычно ставил верши пер-
вым, не дожидаясь стартового выстрела, но кто и когда? Одно было
очевидно: нарушитель мог выйти в море на рассвете или чуть раньше,
и поэтому все рыбаки спали в полглаза, прислушиваясь к скрипу
промерзлой земли под каблуками резиновых сапог. И такая минута
наступила. В то утро фонари мелькали вдоль берега и в бухте, словно
гигантские светящиеся мухи. Слышался топот ног и глухой стук от
падающих в лодки вершей, потом скрип весел в уключинах. Все
отплывали, и каждая плоскодонка спешила первой добраться до луч-
шего места.
Когда «Дженет Би», доверху нагруженная вершами, отошла от бе-
рега, начался рассвет. Несколько вершей мы поставили еще до вы-
хода в открытое море, а в устье бухты их начал ставить за нас силь-
ный и порывистый юго-восточный ветер.
— Прыгай же в плоскодонку, парень, — крикнул Джордж, когда
первая верша свалилась за борт «Дженет Би», — вылови вершу и иди
за мной.
Когда я вытащил первую вершу, за борт свалилось еще две; я пой-
мал и эти. Но теперь упали три другие. Затем нужно было догнать
«Дженет Би», но она меня вовсе не дожидалась. Конечно, моторка
останавливалась, когда Джордж ставил верши. Она останавливалась,
и я греб изо всей мочи, догоняя ее, но она тут же снова трогалась
с места. Когда я находился в нескольких метрах от нее, я испытывал
муки Тантала: моторка стояла, будто дожидаясь, заманивала меня
все дальше и дальше, каждый раз лишь для того, чтобы снова усколь-
знуть, и таким образом протащила меня вокруг доброй половины
острова, пока я все-таки не схватил ее за развевающиеся юбки и не
влез на борт. Да, если ты выходишь в море с Джорджем, жаловаться
на отсутствие приключений не приходится.
А как между тем обстояло дело с моим участком, с моей землей
для собственного дома? Что происходило там? Да ровно ничего;
— 145 —
только, когда наступил апрель и май, на Хорнсхилле зазеленела
трава, распустились почки на ольхе, зацвела лесная клубника и за-
хлопали крыльями сотни перелетных птиц. Конечно, я вычертил план
дома, подсчитал, сколько мне нужно леса, заказал его, и лес при-
везли. Хайрэм со своей лошадкой и я втащили этот лес вверх по
склону на мой участок. Там я его сложил. Цемент тоже привезли,
мне пришлось его тщательно укрыть. Доставили кирпичи для печей,
дранку для крыши и гвозди. Но высокая трава и цветущий кустар-
ник разрослись на участке так, что из поселка всех этих запасенных
материалов было уже не видно.
Нашелся и плотник, чтобы построить дом. Он жил не на Хорнс-
хилле, а в поселке Монхеган. Его-то было хорошо видно. Он еже-
дневно выставлял для обозрения свои шесть с чем-то футов росту
либо в своей мастерской, либо работая по найму где-нибудь побли-
зости. Билл оказался вовсе не первоклассным плотником. Куда ему
было до Уилла Стэнли, плотника и строителя, прошедшего обучение
в Портленде. По сравнению с этим искусником, Билл выглядел про-
сто невеждой. Но для постройки моего незатейливого жилища мне
был нужен как раз такой человек. К тому же он быстро работал, но,
как я убедился, не быстро раскачивался. Он был мастер кормить «за-
втраками», причем его «завтра» никогда не наступало. По крайней
мере я этого «завтра» так и не дождался. Сначала промелькнули все
апрельские «завтра», потом — майские. Когда наступил июнь, чаша
моего терпения переполнилась. Я пришел в ярость. К черту Билла,
сказал я. Я выстрою дом сам. Так ярость и нетерпение породили
плотника.
Интересно, бывает ли так, что человек в один прекрасный день от-
крывает у себя знания и умение, о которых он и не подозревал? Как
это должно быть чудесно! Я никогда ничего подобного не ощущал.
Не уверен даже, что когда-нибудь обнаруживал столько знаний,
сколько подозревал у себя. Возможно, что когда-нибудь это и случа-
лось, но я не помню. Зато я хорошо помню, как, изучив архитектуру
в Колумбийском университете и проработав некоторое время в архи-
тектурной фирме в великом городе Нью-Йорке, подготовив не один
проект дома для заказчиков, тщательно вычертив (чтобы перейти
ближе к делу) проект собственного маленького жилища во всех сече-
ниях и размерах, взявшись за наугольник, пилу и молоток, я увидел,
что, по существу, ничего не смыслю в строительном деле. К счастью,
это не остановило меня. Одна операция влекла за собой другую, об-
разуя как бы единый поток, причем я делал так, а не иначе, пови-
нуясь какому-то озаренью, и выяснил при этом, что почти во всем
действовал правильно и что постройка дома, как и всякое другое
дело, требует прежде всего здравого смысла.
Разумеется, я умел обращаться с инструментами, и это мне очень
помогло. В противном случае мне просто пришлось бы этому научить-
— 146 —
ея. Кроме того, я умел ценить хорошую работу и, значит, не мог и
не стал бы работать спустя рукава.
Я поступил бы весьма разумно, если бы поставил дом на солидном
каменном фундаменте; еще лучше было бы поручить фирме «Казалис
и Кент» путем бурения и взрывов высечь подвал. Но, к сожалению,
моим главным советчиком в то время по необходимости был тощий
кошелек. Он потребовал, чтобы я поставил дом на деревянных стол-
бах, и рекомендовал в качестве чернорабочего хорошего и трудо-
любивого монхеганца Ричардса, который по какой-то причине почти
не занимался ловлей омаров. Поэтому, когда я загнал в землю
колья и натянул веревки, мы с Ричардсом взялись за дело: ста-
ли ставить столбы, рыть основание для печи и выкладывать ее; и уже
через несколько дней мы могли укладывать балки полов и потол-
ков.
Дом я спроектировал очень небольшой: маленькая гостиная и кух-
ня, еще меньшая спальня, крошечная прихожая и два просторных
чулана. С одной стороны к дому примыкал открытый навес. Словом,
здание по своему характеру должно было приближаться к архитек-
турному стилю Новой Англии, разумеется, в тех пределах, какие
были мыслимы в то время для молодого архитектора, учившегося в
Нью-Йорке. В действительности оно не очень-то к нему приближалось.
Но если отвлечься от эстетической стороны дела, мое жилище вполне
соответствовало потребностям того неженатого, привыкшего к само-
обслуживанию рабочего человека, для которого предназначалось. От
какого дома можно требовать большего?
Сделав настил пола, мы поставили угловые столбы, потом щиты и
косяки, обшили дом досками, принялись за чердачный этаж, уло-
жили стропила и застелили их тесом. Затем пришла очередь дымо-
хода. Я никогда до того не укладывал кирпичи, но это оказалось
нетрудно. По натянутой веревке я выравнивал ряд, и дело спорилось.
Кладка получалась грязноватая, но хорошая, и при помощи Ричардса
подвигалась вперед быстро.
Сначала, пока я не освоил нужный прием, обшивка крыши дранкой
шла очень медленно. Потом я приноровился: одним легким ударом
закреплял гвоздь и с маху загонял его вглубь. Поэтому и крыша кры-
лась очень быстро. И не успел я опомниться, как уже сидел верхом
на коньке готовой крыши и смотрел вниз в сторону запада на боль-
шое, заросшее клюквой болото у подножья Хорнсхилла, на тонкую
цепочку деревенских домов между болотом и гаванью, на остров Ма-
нана, похожий на спину кита, на видневшийся вправо от него, через
десять миль синего океана, дымчато-голубой берег штата Сосны —
Мэна. Еще более гордый, чем в тот день, когда я впервые гарцевал
верхом на своей кобылке Китти, я оседлал теперь свой дом. Это был
мой дом, на моей родной земле, под моим небосводом, на моем уча-
стке — мой дом, мой очаг! Теперь я мог в нем поселиться, ибо если
— 147 —
он был еще не во всем совершенен, то же самое можно было сказать
и обо мне. Что ж, мы будем расти и мужать вместе.
Я заказал прислать мне по почте кухонную плиту на четыре кон-
форки, кастрюли, сковороды и «столовое серебро». Я купил стол,
простую кровать, несколько стульев. Потом я купил лампу. Матушка
послала мне одеяла, подушки, постельное белье. Пока все это иму-
щество находилось в пути, я вставил дверные и оконные рамы и на-
весил двери. Продукты и масло для лампы я купил в лавке. Когда
все было готово и приведено в порядок, я перетащил свой саквояж от
тетушки Анни, растопил печь и засветил лампу, чтобы свет из моего
домика на Хорнсхилле дошел до людей, чтобы люди увидели мою
хорошую работу и, справедливо рассудив, что этот свет — знак бла-
госостояния и полного довольства ближнего, возблагодарили господа,
отца нашего на небесах.
Помнится, на другой же день, оторвавшись от приготовления ужи-
на, я увидел у своих дверей длинную худую фигуру в черном. Это
была вдова Олби. Я вышел из дому и поздоровался с ней.
М-с Олби владела большей из двух монхеганских гостиниц и нема-
лым количеством акров монхеганской земли. Она прожила на свете
уже долгие годы, но случилось так, что время, обычно столь благо-
творно действующее на вино и человеческую природу, оказало на
нее дурное влияние: м-с Олби стала кислой, как уксус.
— М-р Кент, — сказала вдова, — голос у нее был жесткий, как ко-
рунд. — Я пришла спросить, почему вы построили свой дом на моей
земле?
Слова Эверетта, будто молния, промелькнули в моем мозгу: «при-
мерно здесь и где-то там», где-то, но где именно?
— Что вы, м-с Олби, — начал я. — Джордж Эверетт сказал...
— Джордж Эверетт, Джордж Эверетт! — гаркнула вдова. — Что он
знает, ваш Эверетт? Граница моей земли проходит вон от того дерева.
Видите? И мимо этого пня. Ваш дом на моей земле. Что вы намерены
предпринять?
Действительно, что предпринять? Я стоял около пня и, прищурясь,
поглядывал на свой дом.
— Что же, м-с Олби, — сказал я, — вы правы. Дом заходит на вашу
землю на шесть дюймов, на шесть дюймов стрехи на углу. Я весьма
сожалею. Вот что мы с вами сделаем. Позовем землемера, чтобы он
проверил, где проходит граница, и сделал отметку на крыше — потом
я возьму пилу и отпилю этот лишний кусок стрехи точно по отметке.
Теперь м-с Олби, прищурясь, посмотрела на мой дом, потом вновь
начала ныть и жужжать. Она жужжала, как заводной волчок, и,
как у волчка, у нее в конце концов кончился завод.
— Ладно, — сказала она, — пусть уж остается как есть, — и, не-
сколько умиротворенная, она величественно двинулась прочь со двора.
Так и стоит этот дом «как есть», на том же месте и по сию пору.
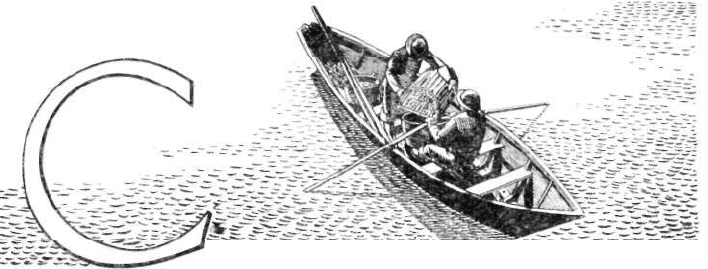
ТОЯЛ ИЮНЬ 1906 ГОДА, И ОБЪЕКТУ НАШЕГО
повествования, человеку, которого мы время от времени называем
«наш герой», только что исполнилось двадцать четыре года. Мы объ-
явили, что наша книга — это автобиография художника и писателя,
но до сих пор сказали о литературе и искусстве так мало, а о разных
других предметах настолько много, что любящий искусство читатель
имеет все права в негодовании воскликнуть: «Сапожник, суди о баш-
маках!» Поверь мне, любезный читатель, любитель искусства, что я
стараюсь придерживаться этого принципа. Или, может быть, вернее
будет сказать, что к тому и клонится речь.
Хотя в классической истории, рассказанной Плинием, последнее
слово остается за Апеллесом, сапожник мог бы легко возразить ему:
«Ты упрекнул меня в том, что я говорил об ошибках в изображении
ноги, но ведь судить о ногах — это как раз и есть мое дело, ибо разве
существовала бы ступня и башмак, если бы не было всей ноги? А мо-
жет ли существовать нога без тела? И тело без сердца и разума?
Может ли существовать человек, без того, чтобы существовало
общество? И разве судьбы всего человечества — не мое прямое и глав-
ное дело?» Но художник Апеллес, наверно, не стал бы все это слу-
шать.
Там, на острове Монхеган, вечерами после работы, когда я откла-
дывал в сторону тиски и сверла, молоток и гвозди, в дни, когда вол-
нение на море было слишком сильным, чтобы выходить на лов, и по
воскресеньям я писал — писал с жаром, который, как я уже говорил,
рождало во мне тесное общение с природой — с морем и землей, со
всем пылом души, который становился еще сильнее от преклонения
перед величием вселенной. Да, я писал, хотя это вызывало искреннее
беспокойство моих друзей-художников, ибо они считали мою работу
пустой тратой времени. Дайте человеку стать взрослым, и его искус-
ство созреет вместе с ним. Ведь искусство — это лишь производное от
жизни, и, значит, тот, кто предпочитает искусство жизни, очень мало
любит жизнь. Как мало любят бога те, кто поклоняется его изобра-
жению!
— 149 —
IV ИСКУССТВО
Так или иначе, жизнь, на которую я глядел не со стороны, а кото-
рой жил сам изо дня в день, становилась для меня такой волнующей,
такой несравненно прекрасной, что я хотел только одного: черпать
из нее как можно больше. Мне казалось, что я должен хоть в какой-
то степени воссоздать мир таким, каким я его видел, ощущал и по-
нимал, а будут ли мои работы творениями искусства или не будут —
это уже другой вопрос.
Искусство — не искусство, если оно хвастливо лезет на первый
план. Когда голубая краска, изображающая небо, перестает быть
краской и становится глубиной пространства, только тогда эта голу-
бизна совершенна и по-настоящему прекрасна. Когда зеленая краска
становится сочной травой, а коричневая — землей и скалами, когда
индиго превращается в океанскую воду, а изображение человеческого
тела — в плоть и кровь, когда слова становятся идеями, а звуки —
музыкальными образами, когда все виды искусства входят как неотъ-
емлемая часть в живую действительность, только тогда искусство бу-
дет отвечать достоинству Человека.
Я искренне полюбил маленький мирок Монхегана. Это был крохот-
ный островок, плавучий комочек земли, затерянный в безграничности
воды и неба; человек, казалось, обретал здесь прибежище от навис-
шей громады космоса лишь в тесном общении с людьми и природой.
Я близко узнал здесь каждый цветок, каждый мухомор, каждую по-
ганку у лесной тропинки. На моих глазах набухали почки и распус-
кались цветы; я с грустью смотрел, как облетали лепестки, и в ярости
проклинал тех вандалов, которые осмеливались топтать цветы. Не
скажу, что я любил скалы, скорее, я их уважал, и когда я находил
на них следы палитры кого-нибудь из моих собратьев-художников,
для меня это было лишь свидетельством их духовного убожества.
И в своих писаниях и в своих речах я часто поминаю имя господа.
Я не поминаю его всуе и не твержу, как верующий. Бог для меня —
символ жизненной силы мира и Вселенной; его именем я называю то
огромное неизвестное, непознаваемое, что присуще человеку, зверям,
птицам и жукам, деревьям, цветам и грибам, земле, солнцу, луне и
звездам. Божество — я нарочно употребляю здесь безличный средний
род, ибо лишь он в состоянии выразить мое мироощущение, — было
для меня силой, столь же неодушевленной, как бури и землетрясения,
в которых оно себя проявляло, и по этой причине оно внушало мне
страх.
Для меня оно было силой безликой, не имеющей души, прекрасной,
как отсвет лучей заходящего солнца на море и на земле, и именно
потому внушающей глубокий трепет. Я боялся бога и трепетал перед
ним. В страхе и трепете я творил. При таком отношении к искусству
нельзя считать его средством самовыражения.
Верно, что в каждом своем действии человек до некоторой степени
раскрывает себя, даже — или, вернее, в особенности — тогда, когда он
— 150 —
