Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

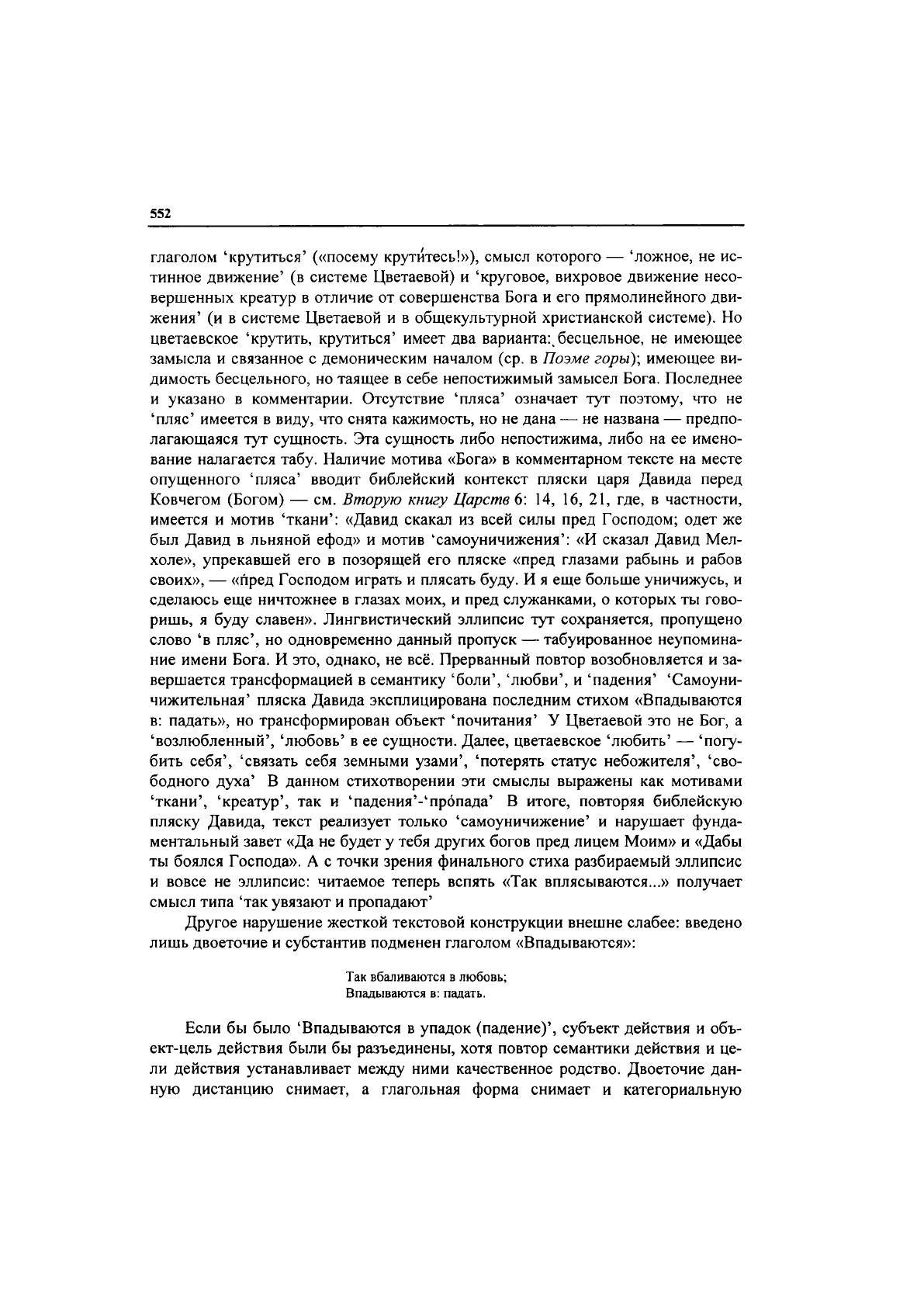
552
глаголом 'крутиться' («посему крутитесь!»), смысл которого — 'ложное, не ис-
тинное движение' (в системе Цветаевой) и 'круговое, вихровое движение несо-
вершенных креатур в отличие от совершенства Бога и его прямолинейного дви-
жения' (и в системе Цветаевой и в общекультурной христианской системе). Но
цветаевское 'крутить, крутиться' имеет два варианта^ бесцельное, не имеющее
замысла и связанное с демоническим началом (ср. в Поэме горы); имеющее ви-
димость бесцельного, но таящее в себе непостижимый замысел Бога. Последнее
и указано в комментарии. Отсутствие 'пляса' означает тут поэтому, что не
'пляс' имеется в виду, что снята кажимость, но не дана — не названа — предпо-
лагающаяся тут сущность. Эта сущность либо непостижима, либо на ее имено-
вание налагается табу. Наличие мотива «Бога» в комментарном тексте на месте
опущенного 'пляса' вводит библейский контекст пляски царя Давида перед
Ковчегом (Богом) — см. Вторую книгу Царств 6: 14, 16, 21, где, в частности,
имеется и мотив 'ткани': «Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же
был Давид в льняной ефод» и мотив 'самоуничижения': «И сказал Давид Мел-
холе», упрекавшей его в позорящей его пляске «пред глазами рабынь и рабов
своих», — «пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь, и
сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты гово-
ришь, я буду славен». Лингвистический эллипсис тут сохраняется, пропущено
слово 'в пляс', но одновременно данный пропуск — табуированное неупомина-
ние имени Бога. И это, однако, не всё. Прерванный повтор возобновляется и за-
вершается трансформацией в семантику 'боли', 'любви', и 'падения' 'Самоуни-
чижительная' пляска Давида эксплицирована последним стихом «Впадываются
в: падать», но трансформирован объект 'почитания' У Цветаевой это не Бог, а
'возлюбленный', 'любовь' в ее сущности. Далее, цветаевское 'любить' — 'погу-
бить себя', 'связать себя земными узами', 'потерять статус небожителя', 'сво-
бодного духа' В данном стихотворении эти смыслы выражены как мотивами
'ткани', 'креатур', так и 'падения'-'пропада' В итоге, повторяя библейскую
пляску Давида, текст реализует только 'самоуничижение' и нарушает фунда-
ментальный завет «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» и «Дабы
ты боялся Господа». А с точки зрения финального стиха разбираемый эллипсис
и вовсе не эллипсис: читаемое теперь вспять «Так вплясываются...» получает
смысл типа 'так увязают и пропадают'
Другое нарушение жесткой текстовой конструкции внешне слабее: введено
лишь двоеточие и субстантив подменен глаголом «Впадываются»:
Так вбаливаются в любовь;
Впадываются в: падать.
Если бы было 'Впадываются в упадок (падение)', субъект действия и объ-
ект-цель действия были бы разъединены, хотя повтор семантики действия и це-
ли действия устанавливает между ними качественное родство. Двоеточие дан-
ную дистанцию снимает, а глагольная форма снимает и категориальную
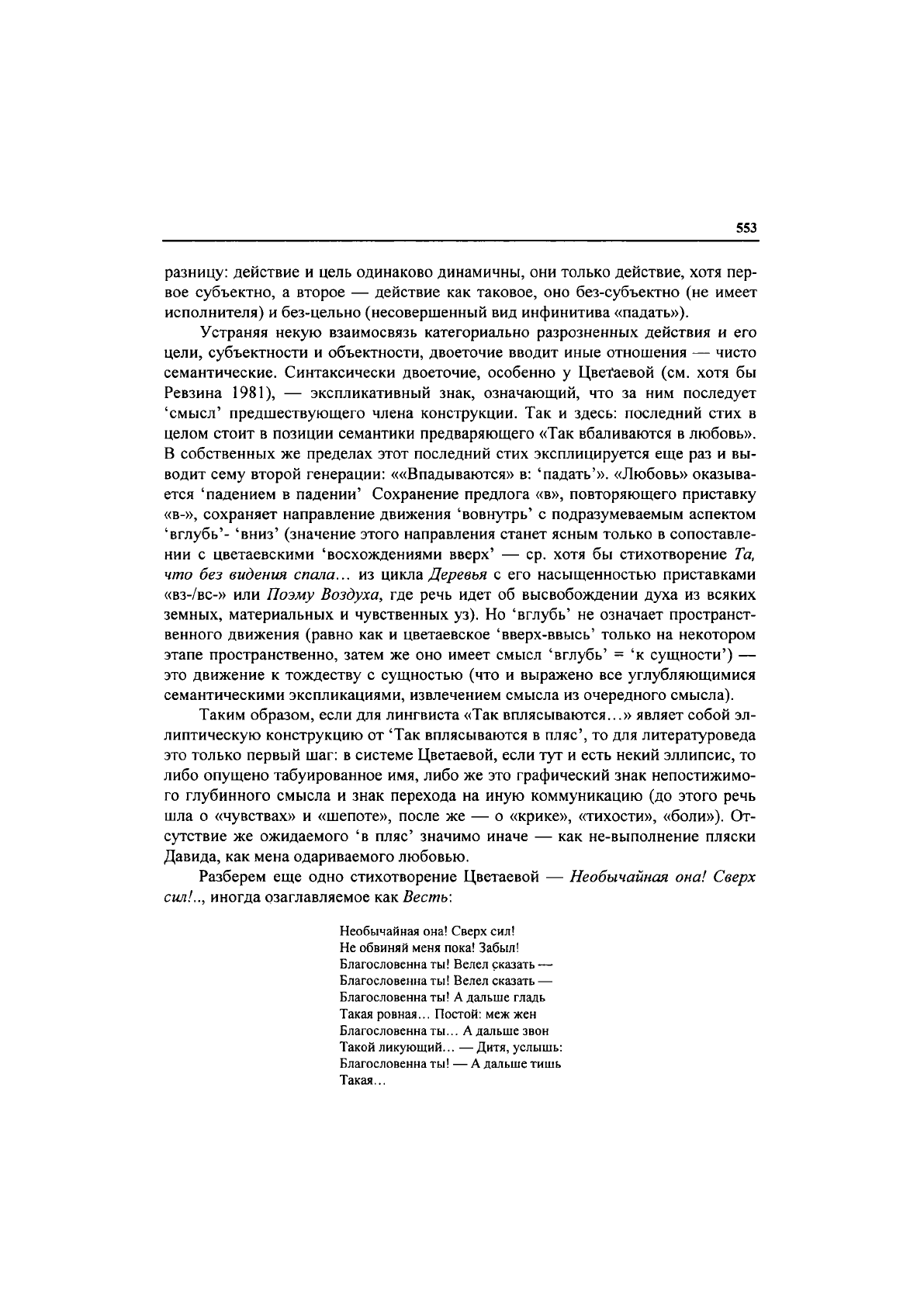
553
разницу: действие и цель одинаково динамичны, они только действие, хотя пер-
вое субъектно, а второе — действие как таковое, оно без-субъектно (не имеет
исполнителя) и без-цельно (несовершенный вид инфинитива «падать»).
Устраняя некую взаимосвязь категориально разрозненных действия и его
цели, субъектности и объектности, двоеточие вводит иные отношения — чисто
семантические. Синтаксически двоеточие, особенно у Цветаевой (см. хотя бы
Ревзина 1981), — экспликативный знак, означающий, что за ним последует
'смысл' предшествующего члена конструкции. Так и здесь: последний стих в
целом стоит в позиции семантики предваряющего «Так вбаливаются в любовь».
В собственных же пределах этот последний стих эксплицируется еще раз и вы-
водит сему второй генерации: ««Впадываются» в: 'падать'». «Любовь» оказыва-
ется 'падением в падении' Сохранение предлога «в», повторяющего приставку
«в-», сохраняет направление движения 'вовнутрь' с подразумеваемым аспектом
'вглубь'- 'вниз' (значение этого направления станет ясным только в сопоставле-
нии с цветаевскими 'восхождениями вверх' — ср. хотя бы стихотворение Та,
что без видения спала... из цикла Деревья с его насыщенностью приставками
«ВЗ-/ВС-» или Поэму Воздуха, где речь идет об высвобождении духа из всяких
земных, материальных и чувственных уз). Но 'вглубь' не означает пространст-
венного движения (равно как и цветаевское 'вверх-ввысь' только на некотором
этапе пространственно, затем же оно имеет смысл 'вглубь' = 'к сущности') —
это движение к тождеству с сущностью (что и выражено все углубляющимися
семантическими экспликациями, извлечением смысла из очередного смысла).
Таким образом, если для лингвиста «Так вплясываются...» являет собой эл-
липтическую конструкцию от 'Так вплясываются в пляс', то для литературоведа
это только первый шаг: в системе Цветаевой, если тут и есть некий эллипсис, то
либо опущено табуированное имя, либо же это графический знак непостижимо-
го глубинного смысла и знак перехода на иную коммуникацию (до этого речь
шла о «чувствах» и «шепоте», после же — о «крике», «тихости», «боли»). От-
сутствие же ожидаемого 'в пляс' значимо иначе — как не-выполнение пляски
Давида, как мена одариваемого любовью.
Разберем еще одно стихотворение Цветаевой — Необычайная она! Сверх
сил!.., иногда озаглавляемое как Весть:
Необычайная она! Сверх сил!
Не обвиняй меня пока! Забыл!
Благословенна ты! Велел сказать —
Благословенна ты! Велел сказать —
Благословенна ты! А дальше гладь
Такая ровная... Постой: меж жен
Благословенна ты... А дальше звон
Такой ликующий... — Дитя, услышь:
Благословенна ты! — А дальше тишь
Такая...
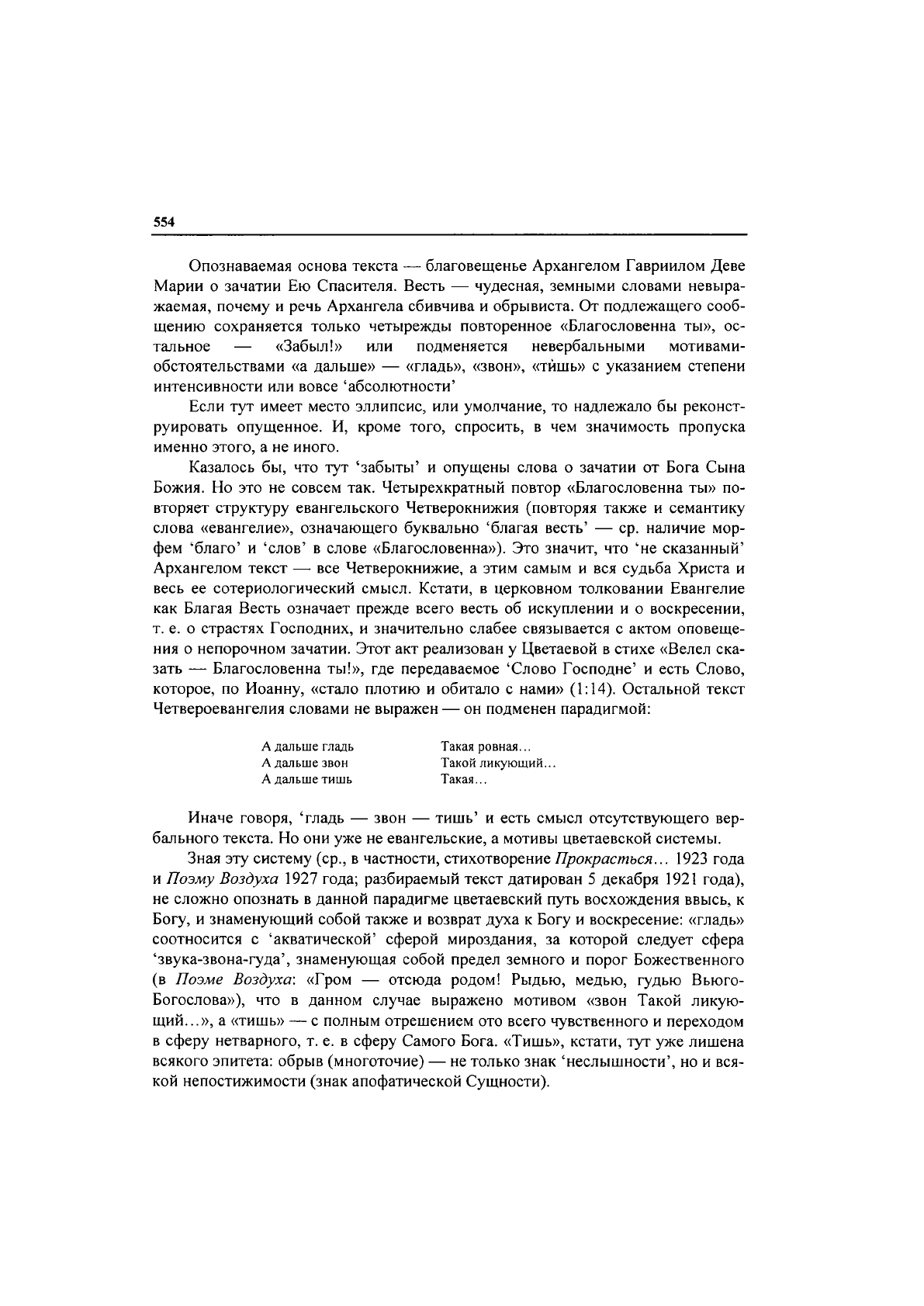
554
Опознаваемая основа текста — благовещенье Архангелом Гавриилом Деве
Марии о зачатии Ею Спасителя. Весть — чудесная, земными словами невыра-
жаемая, почему и речь Архангела сбивчива и обрывиста. От подлежащего сооб-
щению сохраняется только четырежды повторенное «Благословенна ты», ос-
тальное — «Забыл!» или подменяется невербальными мотивами-
обстоятельствами «а дальше» — «гладь», «звон», «тишь» с указанием степени
интенсивности или вовсе 'абсолютности'
Если тут имеет место эллипсис, или умолчание, то надлежало бы реконст-
руировать опущенное. И, кроме того, спросить, в чем значимость пропуска
именно этого, а не иного.
Казалось бы, что тут 'забыты' и опущены слова о зачатии от Бога Сына
Божия. Но это не совсем так. Четырехкратный повтор «Благословенна ты» по-
вторяет структуру евангельского Четверокнижия (повторяя также и семантику
слова «евангелие», означающего буквально 'благая весть' — ср. наличие мор-
фем 'благо' и 'слов' в слове «Благословенна»). Это значит, что 'не сказанный'
Архангелом текст — все Четверокнижие, а этим самым и вся судьба Христа и
весь ее сотериологический смысл. Кстати, в церковном толковании Евангелие
как Благая Весть означает прежде всего весть об искуплении и о воскресении,
т. е. о страстях Господних, и значительно слабее связывается с актом оповеще-
ния о непорочном зачатии. Этот акт реализован у Цветаевой в стихе «Велел ска-
зать — Благословенна ты!», где передаваемое 'Слово Господне' и есть Слово,
которое, по Иоанну, «стало плотию и обитало с нами» (1:14). Остальной текст
Четвероевангелия словами не выражен — он подменен парадигмой:
Иначе говоря, 'гладь — звон — тишь' и есть смысл отсутствующего вер-
бального текста. Но они уже не евангельские, а мотивы цветаевской системы.
Зная эту систему (ср., в частности, стихотворение Прокрасться... 1923 года
и Поэму Воздуха 1927 года; разбираемый текст датирован 5 декабря 1921 года),
не сложно опознать в данной парадигме цветаевский путь восхождения ввысь, к
Богу, и знаменующий собой также и возврат духа к Богу и воскресение: «гладь»
соотносится с 'акватической' сферой мироздания, за которой следует сфера
'звука-звона-гуда', знаменующая собой предел земного и порог Божественного
(в Поэме Воздуха: «Гром — отсюда родом! Рыдью, медью, гудью Вьюго-
Богослова»), что в данном случае выражено мотивом «звон Такой ликую-
щий...», а «тишь» — с полным отрешением ото всего чувственного и переходом
в сферу нетварного, т. е. в сферу Самого Бога. «Тишь», кстати, тут уже лишена
всякого эпитета: обрыв (многоточие) — не только знак 'неслышности', но и вся-
кой непостижимости (знак апофатической Сущности).
А дальше гладь
А дальше звон
А дальше тишь
Такая ровная...
Такой ликующий...
Такая...
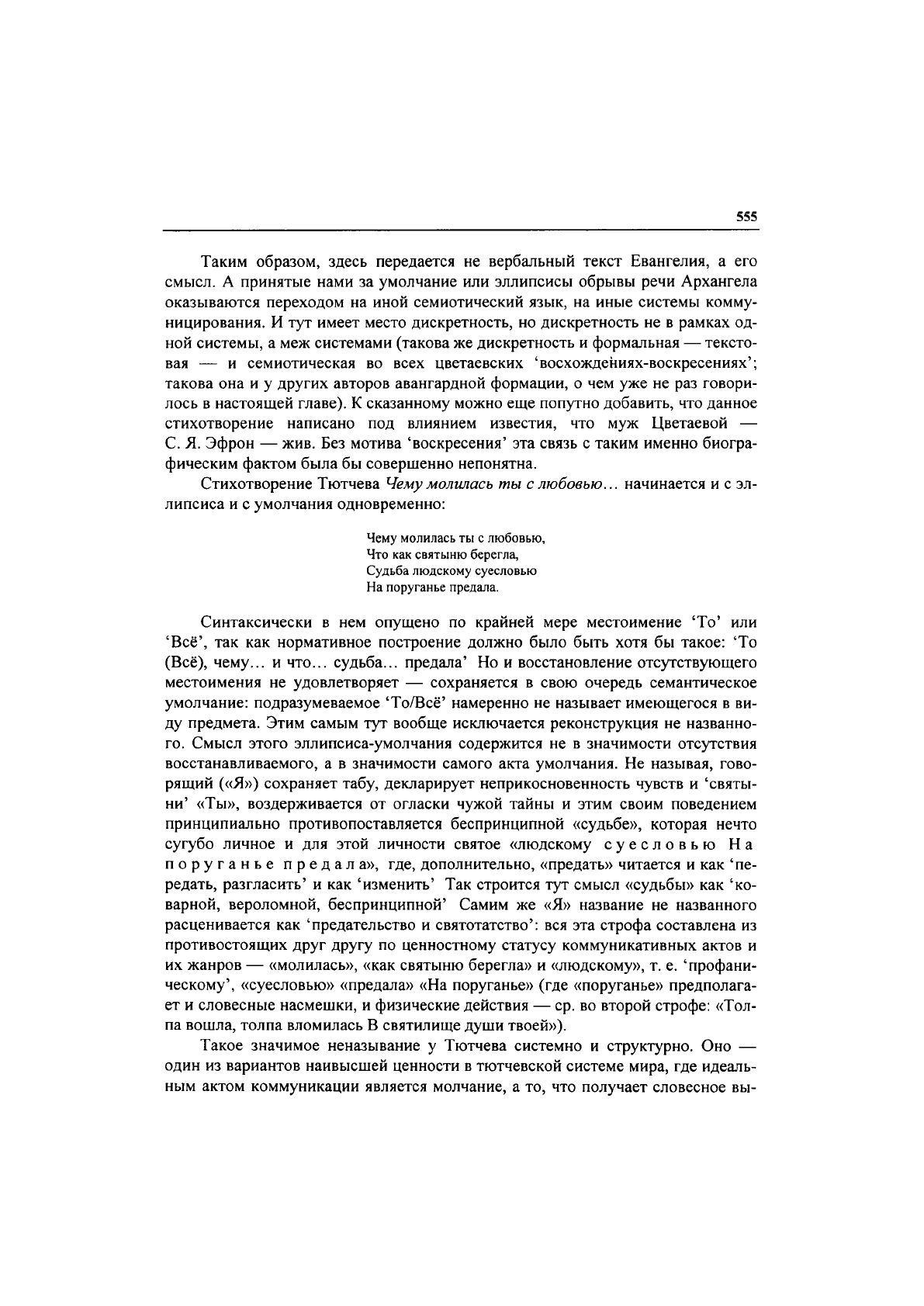
555
Таким образом, здесь передается не вербальный текст Евангелия, а его
смысл. А принятые нами за умолчание или эллипсисы обрывы речи Архангела
оказываются переходом на иной семиотический язык, на иные системы комму-
ницирования. И тут имеет место дискретность, но дискретность не в рамках од-
ной системы, а меж системами (такова же дискретность и формальная — тексто-
вая — и семиотическая во всех цветаевских 'восхождениях-воскресениях';
такова она и у других авторов авангардной формации, о чем уже не раз говори-
лось в настоящей главе). К сказанному можно еще попутно добавить, что данное
стихотворение написано под влиянием известия, что муж Цветаевой —
С. Я. Эфрон — жив. Без мотива 'воскресения' эта связь с таким именно биогра-
фическим фактом была бы совершенно непонятна.
Стихотворение Тютчева Чему молилась ты с любовью... начинается и с эл-
липсиса и с умолчания одновременно:
Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Синтаксически в нем опущено по крайней мере местоимение 'То' или
'Всё', так как нормативное построение должно было быть хотя бы такое: 'То
(Всё), чему... и что... судьба... предала' Но и восстановление отсутствующего
местоимения не удовлетворяет — сохраняется в свою очередь семантическое
умолчание: подразумеваемое 'То/Всё' намеренно не называет имеющегося в ви-
ду предмета. Этим самым тут вообще исключается реконструкция не названно-
го. Смысл этого эллипсиса-умолчания содержится не в значимости отсутствия
восстанавливаемого, а в значимости самого акта умолчания. Не называя, гово-
рящий («Я») сохраняет табу, декларирует неприкосновенность чувств и 'святы-
ни' «Ты», воздерживается от огласки чужой тайны и этим своим поведением
принципиально противопоставляется беспринципной «судьбе», которая нечто
сугубо личное и для этой личности святое «людскому суесловью На
поруганье предал а», где, дополнительно, «предать» читается и как 'пе-
редать, разгласить' и как 'изменить' Так строится тут смысл «судьбы» как 'ко-
варной, вероломной, беспринципной' Самим же «Я» название не названного
расценивается как 'предательство и святотатство': вся эта строфа составлена из
противостоящих друг другу по ценностному статусу коммуникативных актов и
их жанров — «молилась», «как святыню берегла» и «людскому», т. е. 'профани-
ческому', «суесловью» «предала» «На поруганье» (где «поруганье» предполага-
ет и словесные насмешки, и физические действия — ср. во второй строфе: «Тол-
па вошла, толпа вломилась В святилище души твоей»).
Такое значимое неназывание у Тютчева системно и структурно. Оно —
один из вариантов наивысшей ценности в тютчевской системе мира, где идеаль-
ным актом коммуникации является молчание, а то, что получает словесное вы-
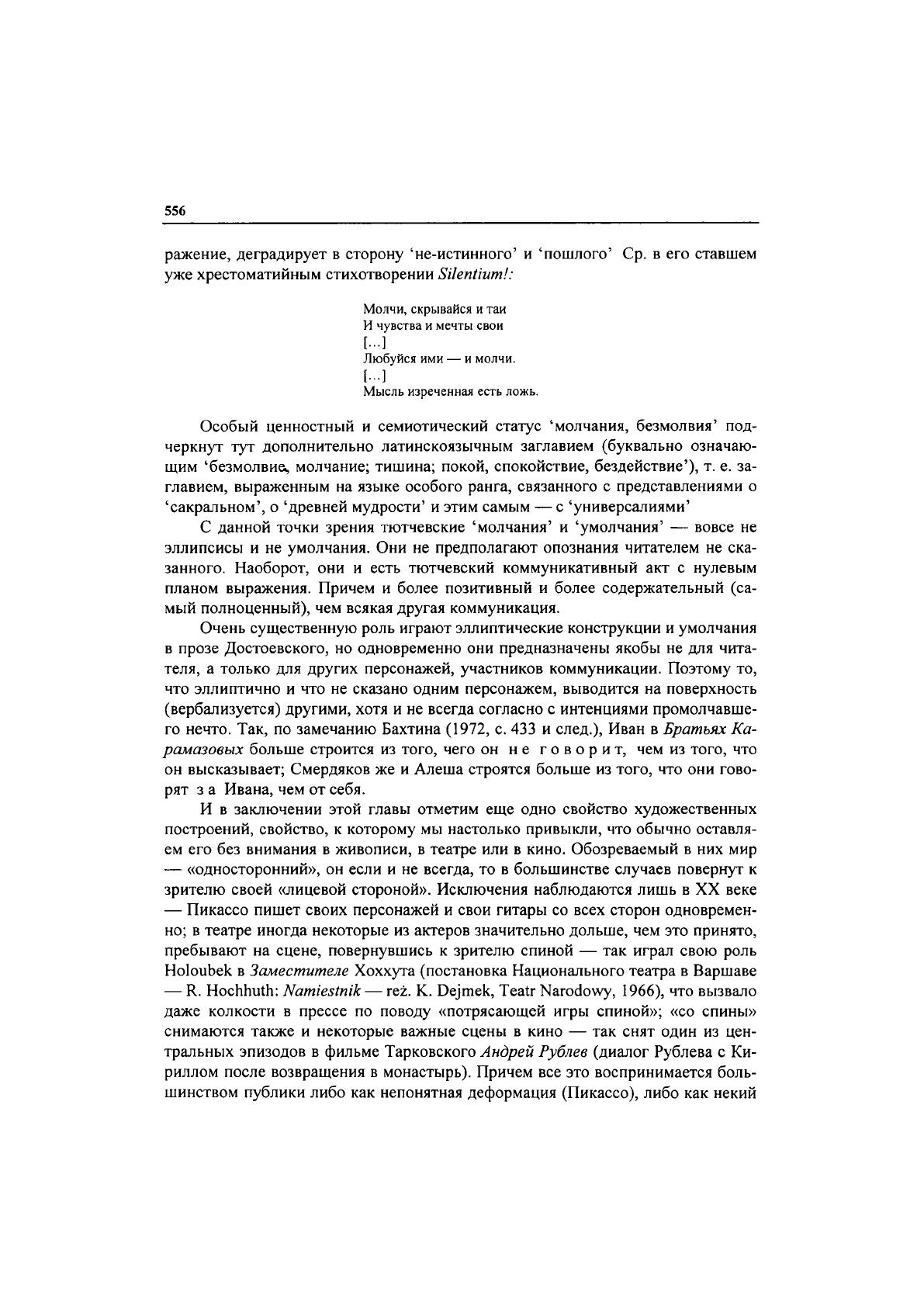
556
ражение, деградирует в сторону 'не-истинного' и 'пошлого' Ср. в его ставшем
уже хрестоматийным стихотворении Silentium!:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои
[...]
Любуйся ими — и молчи.
[...]
Мысль изреченная есть ложь.
Особый ценностный и семиотический статус 'молчания, безмолвия' под-
черкнут тут дополнительно латинскоязычным заглавием (буквально означаю-
щим 'безмолвие^ молчание; тишина; покой, спокойствие, бездействие'), т. е. за-
главием, выраженным на языке особого ранга, связанного с представлениями о
'сакральном', о 'древней мудрости' и этим самым — с 'универсалиями'
С данной точки зрения тютчевские 'молчания' и 'умолчания' — вовсе не
эллипсисы и не умолчания. Они не предполагают опознания читателем не ска-
занного. Наоборот, они и есть тютчевский коммуникативный акт с нулевым
планом выражения. Причем и более позитивный и более содержательный (са-
мый полноценный), чем всякая другая коммуникация.
Очень существенную роль играют эллиптические конструкции и умолчания
в прозе Достоевского, но одновременно они предназначены якобы не для чита-
теля, а только для других персонажей, участников коммуникации. Поэтому то,
что эллиптично и что не сказано одним персонажем, выводится на поверхность
(вербализуется) другими, хотя и не всегда согласно с интенциями промолчавше-
го нечто. Так, по замечанию Бахтина (1972, с. 433 и след.), Иван в Братьях Ка-
рамазовых больше строится из того, чего он не говорит, чем из того, что
он высказывает; Смердяков же и Алеша строятся больше из того, что они гово-
рят з а Ивана, чем от себя.
И в заключении этой главы отметим еще одно свойство художественных
построений, свойство, к которому мы настолько привыкли, что обычно оставля-
ем его без внимания в живописи, в театре или в кино. Обозреваемый в них мир
— «односторонний», он если и не всегда, то в большинстве случаев повернут к
зрителю своей «лицевой стороной». Исключения наблюдаются лишь в XX веке
— Пикассо пишет своих персонажей и свои гитары со всех сторон одновремен-
но; в театре иногда некоторые из актеров значительно дольше, чем это принято,
пребывают на сцене, повернувшись к зрителю спиной — так играл свою роль
Holoubek в Заместителе Хоххута (постановка Национального театра в Варшаве
— R. Hochhuth: Namiestnik — reż. К. Dejmek, Teatr Narodowy, 1966), что вызвало
даже колкости в прессе по поводу «потрясающей игры спиной»; «со спины»
снимаются также и некоторые важные сцены в кино — так снят один из цен-
тральных эпизодов в фильме Тарковского Андрей Рублев (диалог Рублева с Ки-
риллом после возвращения в монастырь). Причем все это воспринимается боль-
шинством публики либо как непонятная деформация (Пикассо), либо как некий
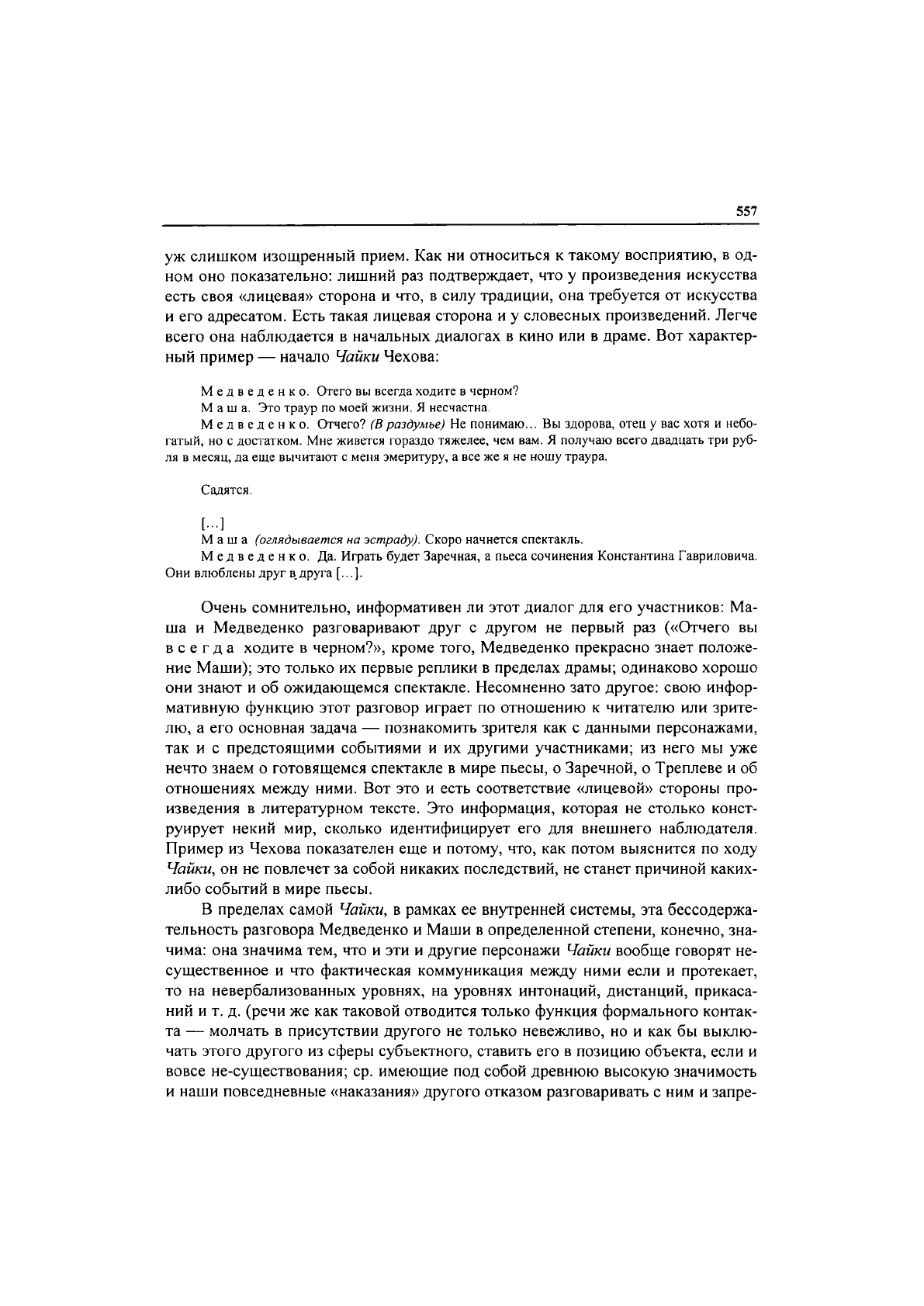
557
уж слишком изощренный прием. Как ни относиться к такому восприятию, в од-
ном оно показательно: лишний раз подтверждает, что у произведения искусства
есть своя «лицевая» сторона и что, в силу традиции, она требуется от искусства
и его адресатом. Есть такая лицевая сторона и у словесных произведений. Легче
всего она наблюдается в начальных диалогах в кино или в драме. Вот характер-
ный пример — начало Чайки Чехова:
Медведенко. Отего вы всегда ходите в черном?
Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.
Медведенко. Отчего? (В раздумье) Не понимаю... Вы здорова, отец у вас хотя и небо-
гатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три руб-
ля в месяц, да еще вычитают с меня эмеритуру, а все же я не ношу траура.
Садятся.
[...]
Маша (оглядывается на эстраду). Скоро начнется спектакль.
Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича.
Они влюблены друг в друга [...].
Очень сомнительно, информативен ли этот диалог для его участников: Ма-
ша и Медведенко разговаривают друг с другом не первый раз («Отчего вы
всегда ходите в черном?», кроме того, Медведенко прекрасно знает положе-
ние Маши); это только их первые реплики в пределах драмы; одинаково хорошо
они знают и об ожидающемся спектакле. Несомненно зато другое: свою инфор-
мативную функцию этот разговор играет по отношению к читателю или зрите-
лю, а его основная задача — познакомить зрителя как с данными персонажами,
так и с предстоящими событиями и их другими участниками; из него мы уже
нечто знаем о готовящемся спектакле в мире пьесы, о Заречной, о Треплеве и об
отношениях между ними. Вот это и есть соответствие «лицевой» стороны про-
изведения в литературном тексте. Это информация, которая не столько конст-
руирует некий мир, сколько идентифицирует его для внешнего наблюдателя.
Пример из Чехова показателен еще и потому, что, как потом выяснится по ходу
Чайки, он не повлечет за собой никаких последствий, не станет причиной каких-
либо событий в мире пьесы.
В пределах самой Чайки, в рамках ее внутренней системы, эта бессодержа-
тельность разговора Медведенко и Маши в определенной степени, конечно, зна-
чима: она значима тем, что и эти и другие персонажи Чайки вообще говорят не-
существенное и что фактическая коммуникация между ними если и протекает,
то на невербализованных уровнях, на уровнях интонаций, дистанций, прикаса-
ний и т. д. (речи же как таковой отводится только функция формального контак-
та — молчать в присутствии другого не только невежливо, но и как бы выклю-
чать этого другого из сферы субъектного, ставить его в позицию объекта, если и
вовсе не-существования; ср. имеющие под собой древнюю высокую значимость
и наши повседневные «наказания» другого отказом разговаривать с ним и запре-
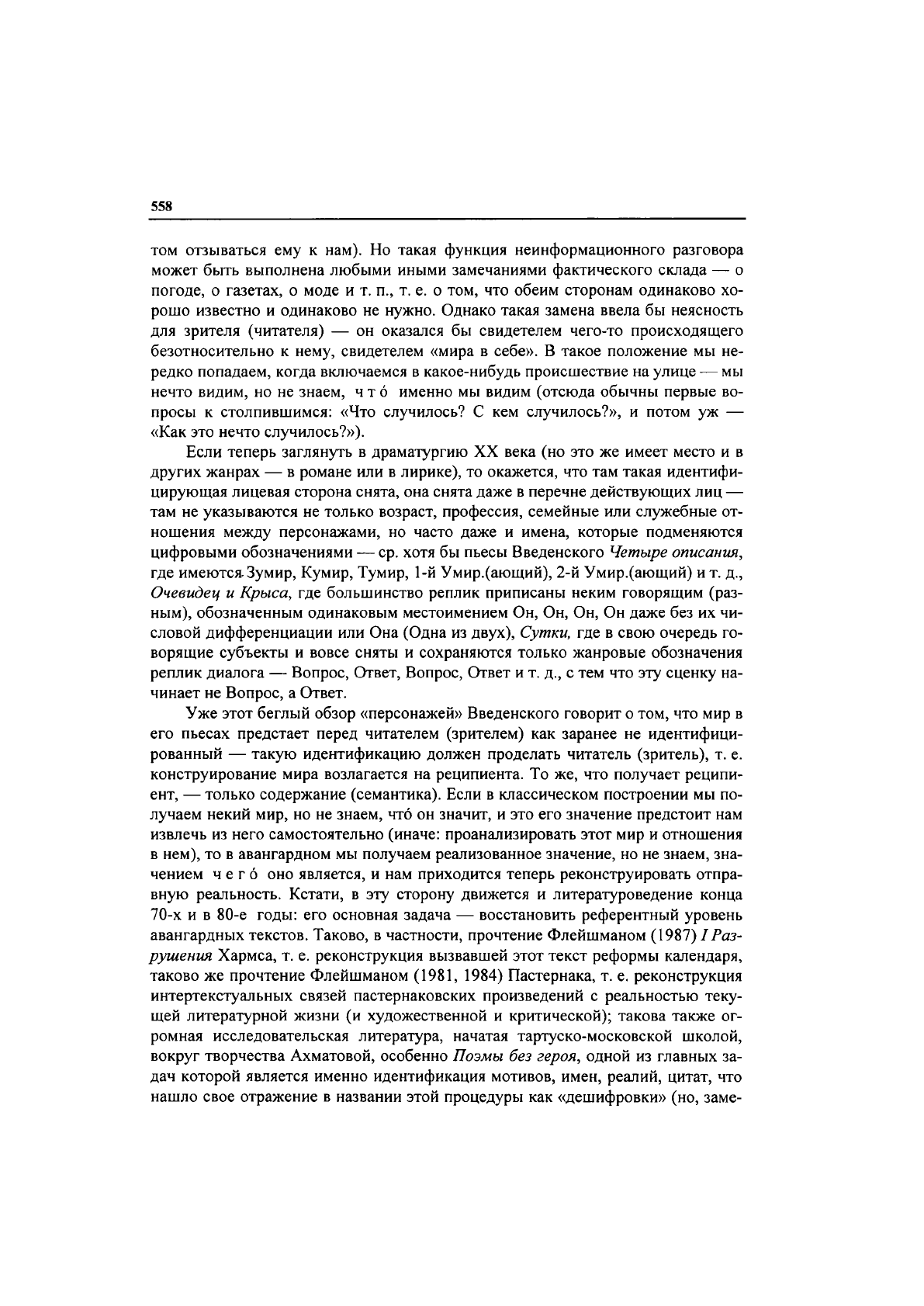
558
том отзываться ему к нам). Но такая функция неинформационного разговора
может быть выполнена любыми иными замечаниями фактического склада — о
погоде, о газетах, о моде и т. п., т. е. о том, что обеим сторонам одинаково хо-
рошо известно и одинаково не нужно. Однако такая замена ввела бы неясность
для зрителя (читателя) — он оказался бы свидетелем чего-то происходящего
безотносительно к нему, свидетелем «мира в себе». В такое положение мы не-
редко попадаем, когда включаемся в какое-нибудь происшествие на улице — мы
нечто видим, но не знаем, что именно мы видим (отсюда обычны первые во-
просы к столпившимся: «Что случилось? С кем случилось?», и потом уж —
«Как это нечто случилось?»).
Если теперь заглянуть в драматургию XX века (но это же имеет место и в
других жанрах — в романе или в лирике), то окажется, что там такая идентифи-
цирующая лицевая сторона снята, она снята даже в перечне действующих лиц —
там не указываются не только возраст, профессия, семейные или служебные от-
ношения между персонажами, но часто даже и имена, которые подменяются
цифровыми обозначениями — ср. хотя бы пьесы Введенского Четыре описания,
где имеются Зумир, Кумир, Тумир, 1-й Умир.(ающий), 2-й Умир.(ающий) и т. д.,
Очевидец и Крыса, где большинство реплик приписаны неким говорящим (раз-
ным), обозначенным одинаковым местоимением Он, Он, Он, Он даже без их чи-
словой дифференциации или Она (Одна из двух), Сутки, где в свою очередь го-
ворящие субъекты и вовсе сняты и сохраняются только жанровые обозначения
реплик диалога — Вопрос, Ответ, Вопрос, Ответ и т. д., с тем что эту сценку на-
чинает не Вопрос, а Ответ.
Уже этот беглый обзор «персонажей» Введенского говорит о том, что мир в
его пьесах предстает перед читателем (зрителем) как заранее не идентифици-
рованный — такую идентификацию должен проделать читатель (зритель), т. е.
конструирование мира возлагается на реципиента. То же, что получает реципи-
ент, — только содержание (семантика). Если в классическом построении мы по-
лучаем некий мир, но не знаем, что он значит, и это его значение предстоит нам
извлечь из него самостоятельно (иначе: проанализировать этот мир и отношения
в нем), то в авангардном мы получаем реализованное значение, но не знаем, зна-
чением чего оно является, и нам приходится теперь реконструировать отпра-
вную реальность. Кстати, в эту сторону движется и литературоведение конца
70-х и в 80-е годы: его основная задача — восстановить референтный уровень
авангардных текстов. Таково, в частности, прочтение Флейшманом (1987) Раз-
рушения Хармса, т. е. реконструкция вызвавшей этот текст реформы календаря,
таково же прочтение Флейшманом (1981, 1984) Пастернака, т. е. реконструкция
интертекстуальных связей пастернаковских произведений с реальностью теку-
щей литературной жизни (и художественной и критической); такова также ог-
ромная исследовательская литература, начатая тартуско-московской школой,
вокруг творчества Ахматовой, особенно Поэмы без героя, одной из главных за-
дач которой является именно идентификация мотивов, имен, реалий, цитат, что
нашло свое отражение в названии этой процедуры как «дешифровки» (но, заме-
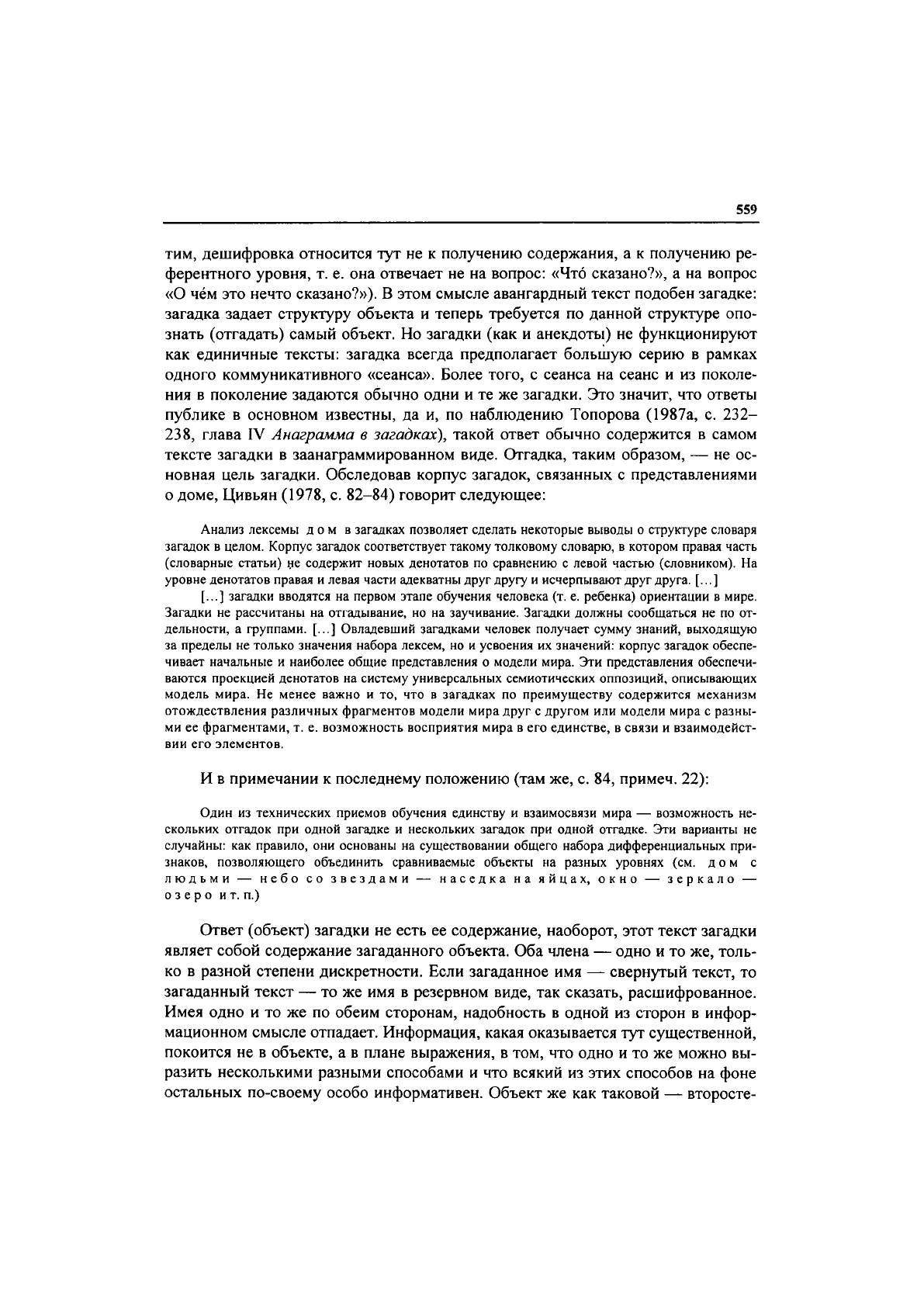
559
тим, дешифровка относится тут не к получению содержания, а к получению ре-
ферентного уровня, т. е. она отвечает не на вопрос: «Что сказано?», а на вопрос
«О чём это нечто сказано?»). В этом смысле авангардный текст подобен загадке:
загадка задает структуру объекта и теперь требуется по данной структуре опо-
знать (отгадать) самый объект. Но загадки (как и анекдоты) не функционируют
как единичные тексты: загадка всегда предполагает большую серию в рамках
одного коммуникативного «сеанса». Более того, с сеанса на сеанс и из поколе-
ния в поколение задаются обычно одни и те же загадки. Это значит, что ответы
публике в основном известны, да и, по наблюдению Топорова (1987а, с. 232-
238, глава IV Анаграмма в загадках), такой ответ обычно содержится в самом
тексте загадки в заанаграммированном виде. Отгадка, таким образом, — не ос-
новная цель загадки. Обследовав корпус загадок, связанных с представлениями
о доме, Цивьян (1978, с. 82-84) говорит следующее:
Анализ лексемы д о м в загадках позволяет сделать некоторые выводы о структуре словаря
загадок в целом. Корпус загадок соответствует такому толковому словарю, в котором правая часть
(словарные статьи) уе содержит новых денотатов по сравнению с левой частью (словником). На
уровне денотатов правая и левая части адекватны друг другу и исчерпывают друг друга. [... ]
[...] загадки вводятся на первом этапе обучения человека (т. е. ребенка) ориентации в мире.
Загадки не рассчитаны на отгадывание, но на заучивание. Загадки должны сообщаться не по от-
дельности, а группами. [...] Овладевший загадками человек получает сумму знаний, выходящую
за пределы не только значения набора лексем, но и усвоения их значений: корпус загадок обеспе-
чивает начальные и наиболее общие представления о модели мира. Эти представления обеспечи-
ваются проекцией денотатов на систему универсальных семиотических оппозиций, описывающих
модель мира. Не менее важно и то, что в загадках по преимуществу содержится механизм
отождествления различных фрагментов модели мира друг с другом или модели мира с разны-
ми ее фрагментами, т. е. возможность восприятия мира в его единстве, в связи и взаимодейст-
вии его элементов.
И в примечании к последнему положению (там же, с. 84, примеч. 22):
Один из технических приемов обучения единству и взаимосвязи мира — возможность не-
скольких отгадок при одной загадке и нескольких загадок при одной отгадке. Эти варианты не
случайны: как правило, они основаны на существовании общего набора дифференциальных при-
знаков, позволяющего объединить сравниваемые объекты на разных уровнях (см. дом с
людьми — небо со звездами — наседка на яйцах, окно — зеркало —
озеро и т. п.)
Ответ (объект) загадки не есть ее содержание, наоборот, этот текст загадки
являет собой содержание загаданного объекта. Оба члена — одно и то же, толь-
ко в разной степени дискретности. Если загаданное имя — свернутый текст, то
загаданный текст — то же имя в резервном виде, так сказать, расшифрованное.
Имея одно и то же по обеим сторонам, надобность в одной из сторон в инфор-
мационном смысле отпадает. Информация, какая оказывается тут существенной,
покоится не в объекте, а в плане выражения, в том, что одно и то же можно вы-
разить несколькими разными способами и что всякий из этих способов на фоне
остальных по-своему особо информативен. Объект же как таковой — второсте-
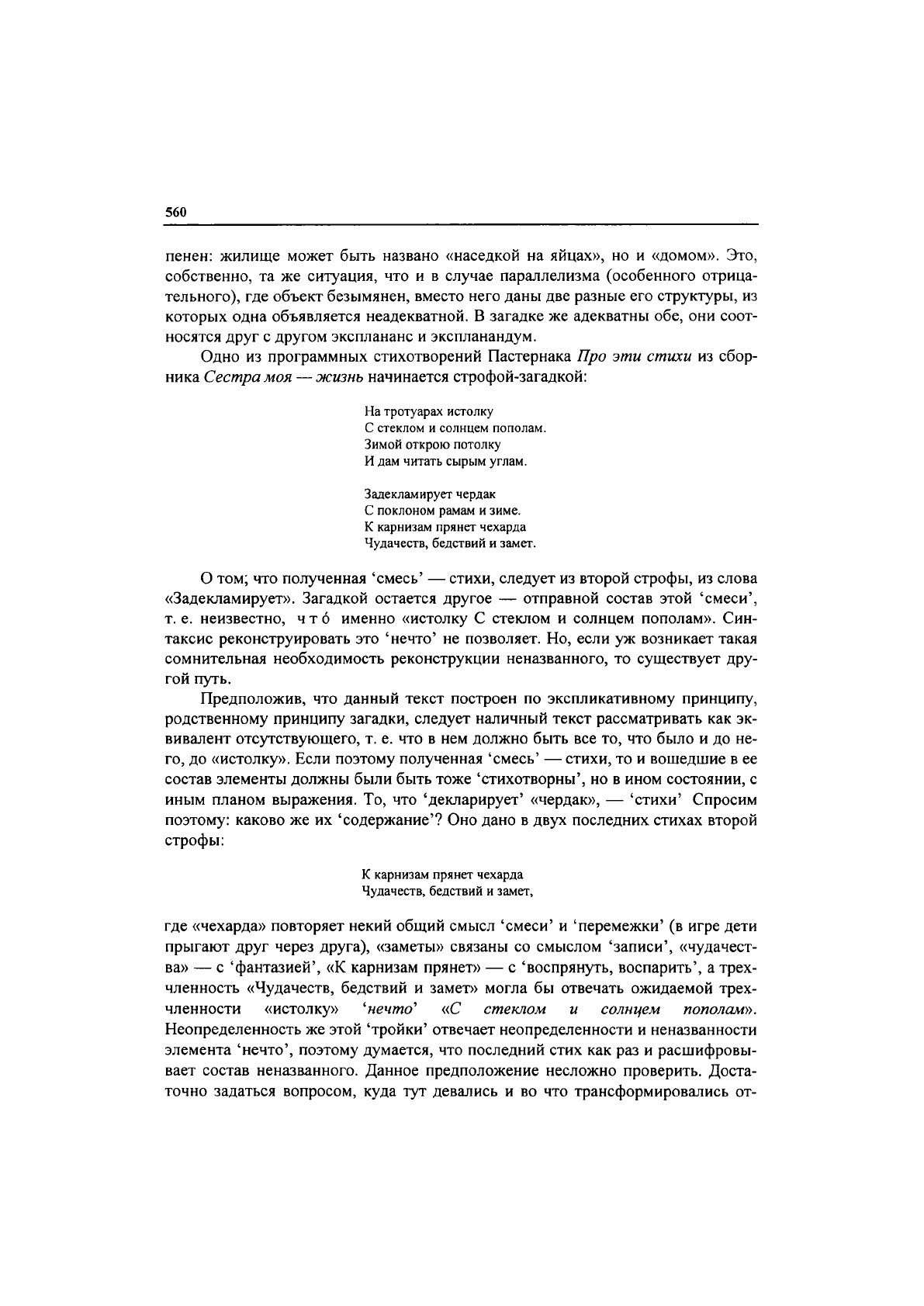
560
пенен: жилище может быть названо «наседкой на яйцах», но и «домом». Это,
собственно, та же ситуация, что и в случае параллелизма (особенного отрица-
тельного), где объект безымянен, вместо него даны две разные его структуры, из
которых одна объявляется неадекватной. В загадке же адекватны обе, они соот-
носятся друг с другом эксплананс и экспланандум.
Одно из программных стихотворений Пастернака Про эти стихи из сбор-
ника Сестра моя — жизнь начинается строфой-загадкой:
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
О том; что полученная 'смесь' — стихи, следует из второй строфы, из слова
«Задекламирует». Загадкой остается другое — отправной состав этой 'смеси',
т. е. неизвестно, что именно «истолку С стеклом и солнцем пополам». Син-
таксис реконструировать это 'нечто' не позволяет. Но, если уж возникает такая
сомнительная необходимость реконструкции неназванного, то существует дру-
гой путь.
Предположив, что данный текст построен по экспликативному принципу,
родственному принципу загадки, следует наличный текст рассматривать как эк-
вивалент отсутствующего, т. е. что в нем должно быть все то, что было и до не-
го, до «истолку». Если поэтому полученная 'смесь' — стихи, то и вошедшие в ее
состав элементы должны были быть тоже 'стихотворны', но в ином состоянии, с
иным планом выражения. То, что 'декларирует' «чердак», — 'стихи' Спросим
поэтому: каково же их 'содержание'? Оно дано в двух последних стихах второй
строфы:
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет,
где «чехарда» повторяет некий общий смысл 'смеси' и 'перемежки' (в игре дети
прыгают друг через друга), «заметы» связаны со смыслом 'записи', «чудачест-
ва» — с 'фантазией', «К карнизам прянет» — с 'воспрянуть, воспарить', а трех-
членность «Чудачеств, бедствий и замет» могла бы отвечать ожидаемой трех-
членности «истолку» 'нечто' «С стеклом и солнцем пополам».
Неопределенность же этой 'тройки' отвечает неопределенности и неназванности
элемента 'нечто', поэтому думается, что последний стих как раз и расшифровы-
вает состав неназванного. Данное предположение несложно проверить. Доста-
точно задаться вопросом, куда тут девались и во что трансформировались от-
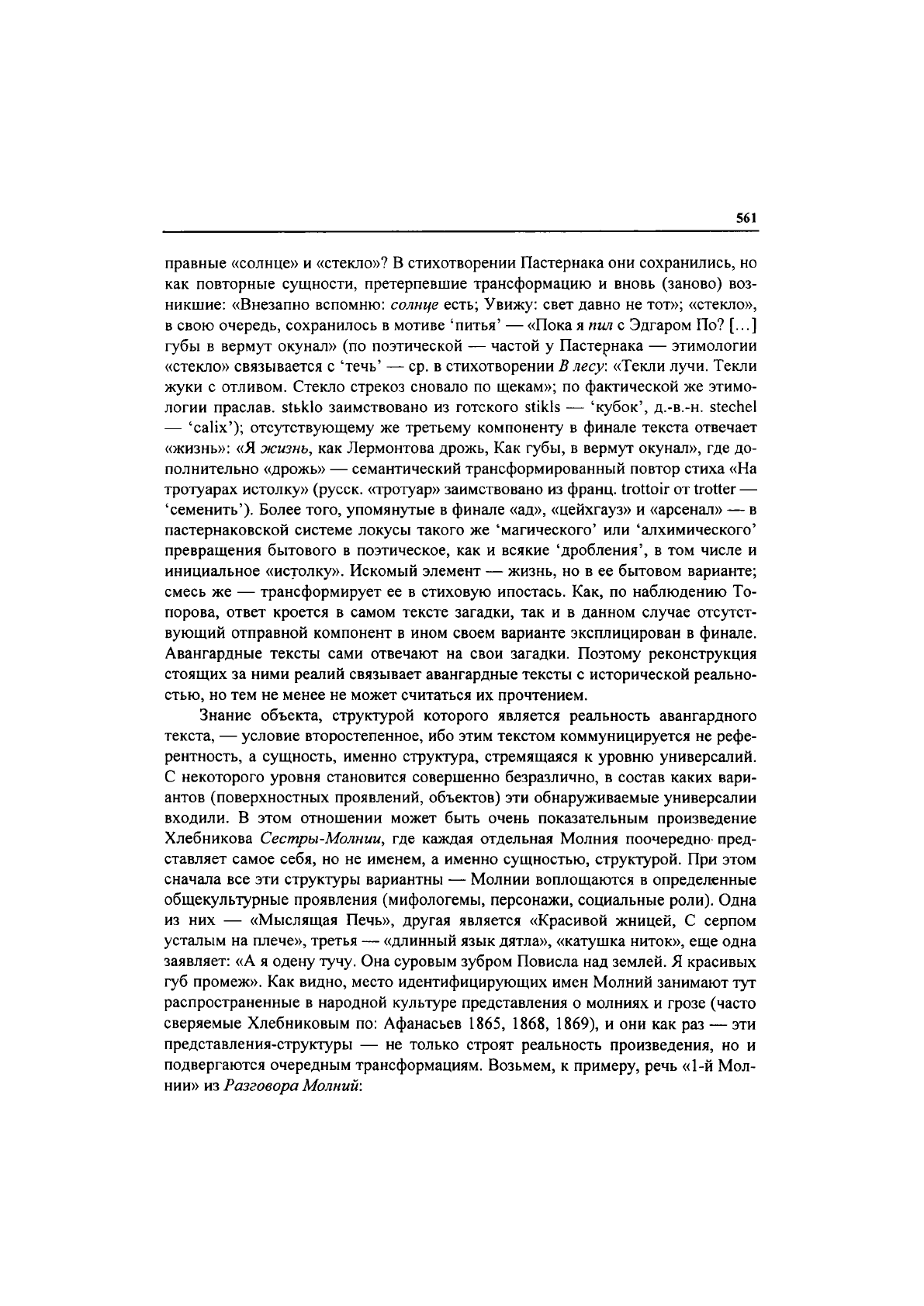
561
правные «солнце» и «стекло»? В стихотворении Пастернака они сохранились, но
как повторные сущности, претерпевшие трансформацию и вновь (заново) воз-
никшие: «Внезапно вспомню: солнце есть; Увижу: свет давно не тот»; «стекло»,
в свою очередь, сохранилось в мотиве 'питья' — «Пока я пил с Эдгаром По? [...]
губы в вермут окунал» (по поэтической — частой у Пастернака — этимологии
«стекло» связывается с 'течь' — ср. в стихотворении В лесу: «Текли лучи. Текли
жуки с отливом. Стекло стрекоз сновало по щекам»; по фактической же этимо-
логии праслав. stbklo заимствовано из готского stikls — 'кубок', д.-в.-н. stechel
— 'calix'); отсутствующему же третьему компоненту в финале текста отвечает
«жизнь»: «Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы, в вермут окунал», где до-
полнительно «дрожь» — семантический трансформированный повтор стиха «На
тротуарах истолку» (русск. «тротуар» заимствовано из франц. trottoir от trotter —
'семенить'). Более того, упомянутые в финале «ад», «цейхгауз» и «арсенал» — в
пастернаковской системе локусы такого же 'магического' или 'алхимического'
превращения бытового в поэтическое, как и всякие 'дробления', в том числе и
инициальное «истолку». Искомый элемент — жизнь, но в ее бытовом варианте;
смесь же — трансформирует ее в стиховую ипостась. Как, по наблюдению То-
порова, ответ кроется в самом тексте загадки, так и в данном случае отсутст-
вующий отправной компонент в ином своем варианте эксплицирован в финале.
Авангардные тексты сами отвечают на свои загадки. Поэтому реконструкция
стоящих за ними реалий связывает авангардные тексты с исторической реально-
стью, но тем не менее не может считаться их прочтением.
Знание объекта, структурой которого является реальность авангардного
текста, — условие второстепенное, ибо этим текстом коммуницируется не рефе-
рентность, а сущность, именно структура, стремящаяся к уровню универсалий.
С некоторого уровня становится совершенно безразлично, в состав каких вари-
антов (поверхностных проявлений, объектов) эти обнаруживаемые универсалии
входили. В этом отношении может быть очень показательным произведение
Хлебникова Сестры-Молнии, где каждая отдельная Молния поочередно пред-
ставляет самое себя, но не именем, а именно сущностью, структурой. При этом
сначала все эти структуры вариантны — Молнии воплощаются в определенные
общекультурные проявления (мифологемы, персонажи, социальные роли). Одна
из них — «Мыслящая Печь», другая является «Красивой жницей, С серпом
усталым на плече», третья — «длинный язык дятла», «катушка ниток», еще одна
заявляет: «А я одену тучу. Она суровым зубром Повисла над землей. Я красивых
губ промеж». Как видно, место идентифицирующих имен Молний занимают тут
распространенные в народной культуре представления о молниях и грозе (часто
сверяемые Хлебниковым по: Афанасьев 1865, 1868, 1869), и они как раз — эти
представления-структуры — не только строят реальность произведения, но и
подвергаются очередным трансформациям. Возьмем, к примеру, речь «1-й Мол-
нии» из Разговора Молний:
