Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

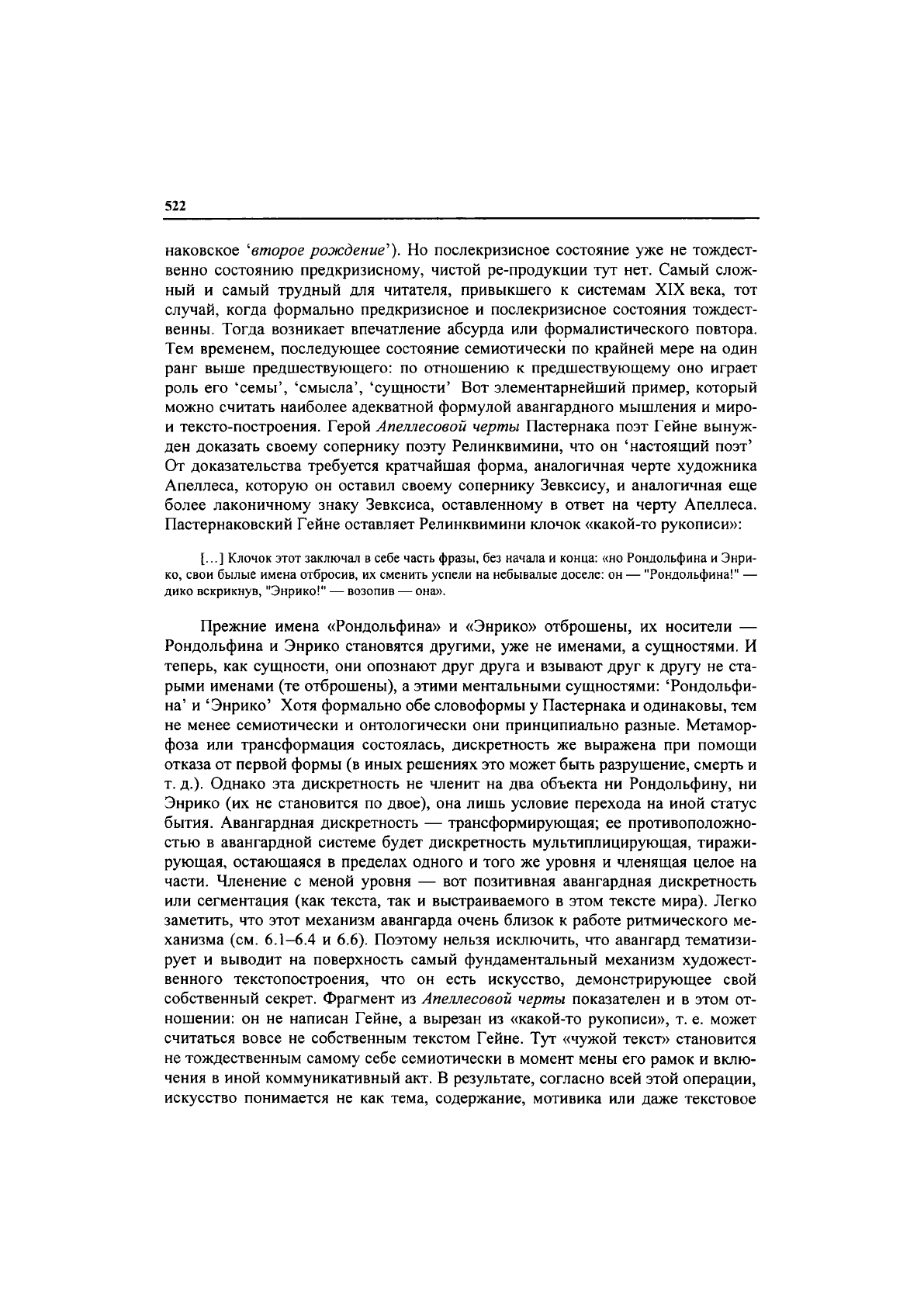
522
наковское 'второе рождение'). Но послекризисное состояние уже не тождест-
венно состоянию предкризисному, чистой ре-продукции тут нет. Самый слож-
ный и самый трудный для читателя, привыкшего к системам XIX века, тот
случай, когда формально предкризисное и послекризисное состояния тождест-
венны. Тогда возникает впечатление абсурда или формалистического повтора.
Тем временем, последующее состояние семиотически по крайней мере на один
ранг выше предшествующего: по отношению к предшествующему оно играет
роль его 'семы', 'смысла', 'сущности' Вот элементарнейший пример, который
можно считать наиболее адекватной формулой авангардного мышления и миро-
и тексто-построения. Герой Апеллесовой черты Пастернака поэт Гейне вынуж-
ден доказать своему сопернику поэту Релинквимини, что он 'настоящий поэт'
От доказательства требуется кратчайшая форма, аналогичная черте художника
Апеллеса, которую он оставил своему сопернику Зевксису, и аналогичная еще
более лаконичному знаку Зевксиса, оставленному в ответ на черту Апеллеса.
Пастернаковский Гейне оставляет Релинквимини клочок «какой-то рукописи»:
[...] Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энри-
ко, свои былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — "Рондольфина!" —
дико вскрикнув, "Энрико!" — возопив — она».
Прежние имена «Рондольфина» и «Энрико» отброшены, их носители —
Рондольфина и Энрико становятся другими, уже не именами, а сущностями. И
теперь, как сущности, они опознают друг друга и взывают друг к другу не ста-
рыми именами (те отброшены), а этими ментальными сущностями: 'Рондольфи-
на' и 'Энрико' Хотя формально обе словоформы у Пастернака и одинаковы, тем
не менее семиотически и онтологически они принципиально разные. Метамор-
фоза или трансформация состоялась, дискретность же выражена при помощи
отказа от первой формы (в иных решениях это может быть разрушение, смерть и
т. д.). Однако эта дискретность не членит на два объекта ни Рондольфину, ни
Энрико (их не становится по двое), она лишь условие перехода на иной статус
бытия. Авангардная дискретность — трансформирующая; ее противоположно-
стью в авангардной системе будет дискретность мультиплицирующая, тиражи-
рующая, остающаяся в пределах одного и того же уровня и членящая целое на
части. Членение с меной уровня — вот позитивная авангардная дискретность
или сегментация (как текста, так и выстраиваемого в этом тексте мира). Легко
заметить, что этот механизм авангарда очень близок к работе ритмического ме-
ханизма (см. 6.1-6.4 и 6.6). Поэтому нельзя исключить, что авангард тематизи-
рует и выводит на поверхность самый фундаментальный механизм художест-
венного текстопостроения, что он есть искусство, демонстрирующее свой
собственный секрет. Фрагмент из Апеллесовой черты показателен и в этом от-
ношении: он не написан Гейне, а вырезан из «какой-то рукописи», т. е. может
считаться вовсе не собственным текстом Гейне. Тут «чужой текст» становится
не тождественным самому себе семиотически в момент мены его рамок и вклю-
чения в иной коммуникативный акт. В результате, согласно всей этой операции,
искусство понимается не как тема, содержание, мотивика или даже текстовое
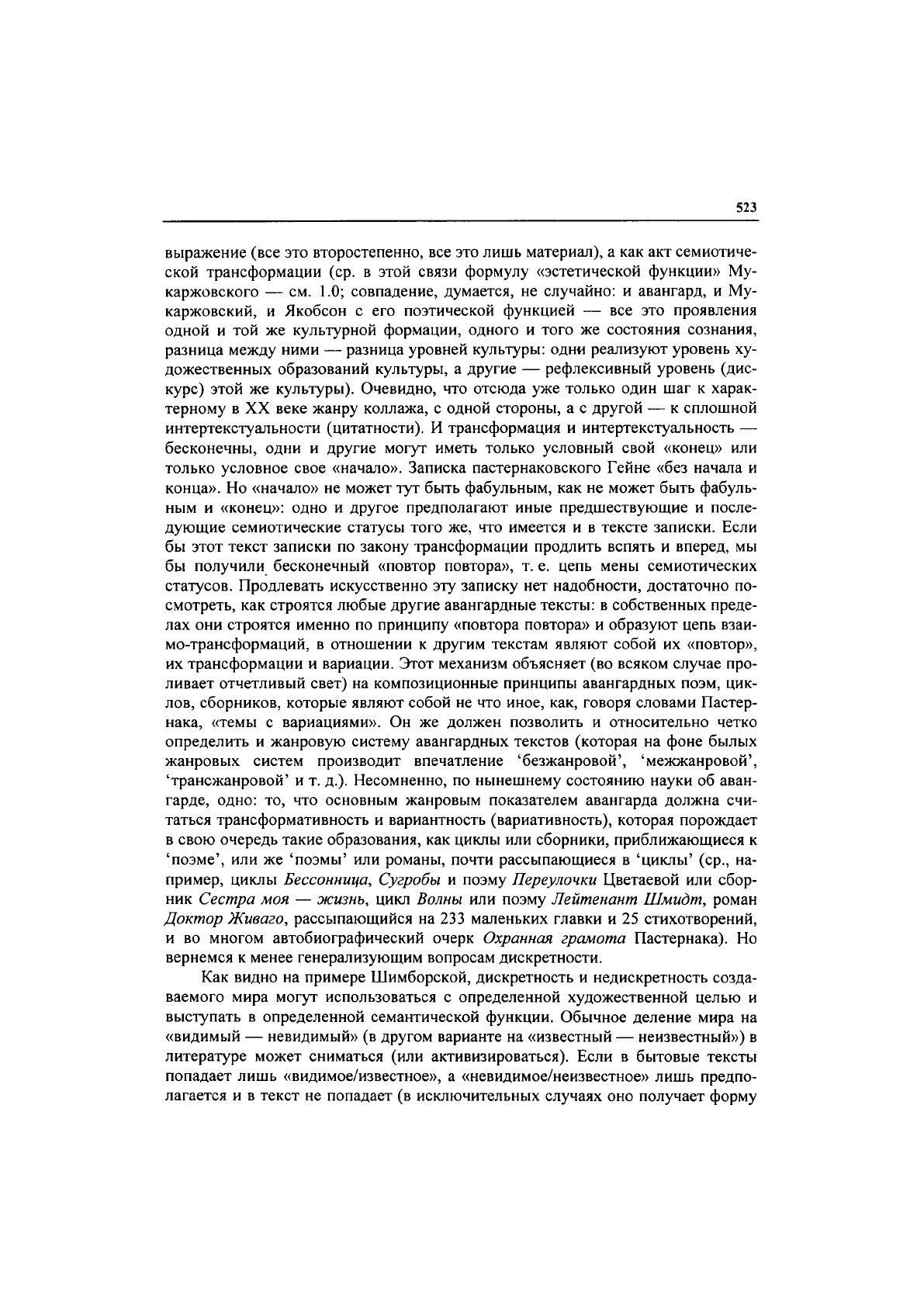
523
выражение (все это второстепенно, все это лишь материал), а как акт семиотиче-
ской трансформации (ср. в этой связи формулу «эстетической функции» Му-
каржовского — см. 1.0; совпадение, думается, не случайно: и авангард, и Му-
каржовский, и Якобсон с его поэтической функцией — все это проявления
одной и той же культурной формации, одного и того же состояния сознания,
разница между ними — разница уровней культуры: одни реализуют уровень ху-
дожественных образований культуры, а другие — рефлексивный уровень (дис-
курс) этой же культуры). Очевидно, что отсюда уже только один шаг к харак-
терному в XX веке жанру коллажа, с одной стороны, а с другой — к сплошной
интертекстуальности (цитатности). И трансформация и интертекстуальность —
бесконечны, одни и другие могут иметь только условный свой «конец» или
только условное свое «начало». Записка пастернаковского Гейне «без начала и
конца». Но «начало» не может тут быть фабульным, как не может быть фабуль-
ным и «конец»: одно и другое предполагают иные предшествующие и после-
дующие семиотические статусы того же, что имеется и в тексте записки. Если
бы этот текст записки по закону трансформации продлить вспять и вперед, мы
бы получили бесконечный «повтор повтора», т. е. цепь мены семиотических
статусов. Продлевать искусственно эту записку нет надобности, достаточно по-
смотреть, как строятся любые другие авангардные тексты: в собственных преде-
лах они строятся именно по принципу «повтора повтора» и образуют цепь взаи-
мо-трансформаций, в отношении к другим текстам являют собой их «повтор»,
их трансформации и вариации. Этот механизм объясняет (во всяком случае про-
ливает отчетливый свет) на композиционные принципы авангардных поэм, цик-
лов, сборников, которые являют собой не что иное, как, говоря словами Пастер-
нака, «темы с вариациями». Он же должен позволить и относительно четко
определить и жанровую систему авангардных текстов (которая на фоне былых
жанровых систем производит впечатление 'безжанровой', 'межжанровой',
'трансжанровой' и т. д.). Несомненно, по нынешнему состоянию науки об аван-
гарде, одно: то, что основным жанровым показателем авангарда должна счи-
таться трансформативность и вариантность (вариативность), которая порождает
в свою очередь такие образования, как циклы или сборники, приближающиеся к
'поэме', или же 'поэмы' или романы, почти рассыпающиеся в 'циклы' (ср., на-
пример, циклы Бессонница, Сугробы и поэму Переулочки Цветаевой или сбор-
ник Сестра моя — жизнь, цикл Волны или поэму Лейтенант Шмидт, роман
Доктор Живаго, рассыпающийся на 233 маленьких главки и 25 стихотворений,
и во многом автобиографический очерк Охранная грамота Пастернака). Но
вернемся к менее генерализующим вопросам дискретности.
Как видно на примере Шимборской, дискретность и недискретность созда-
ваемого мира могут использоваться с определенной художественной целью и
выступать в определенной семантической функции. Обычное деление мира на
«видимый — невидимый» (в другом варианте на «известный — неизвестный») в
литературе может сниматься (или активизироваться). Если в бытовые тексты
попадает лишь «видимое/известное», а «невидимое/неизвестное» лишь предпо-
лагается и в текст не попадает (в исключительных случаях оно получает форму
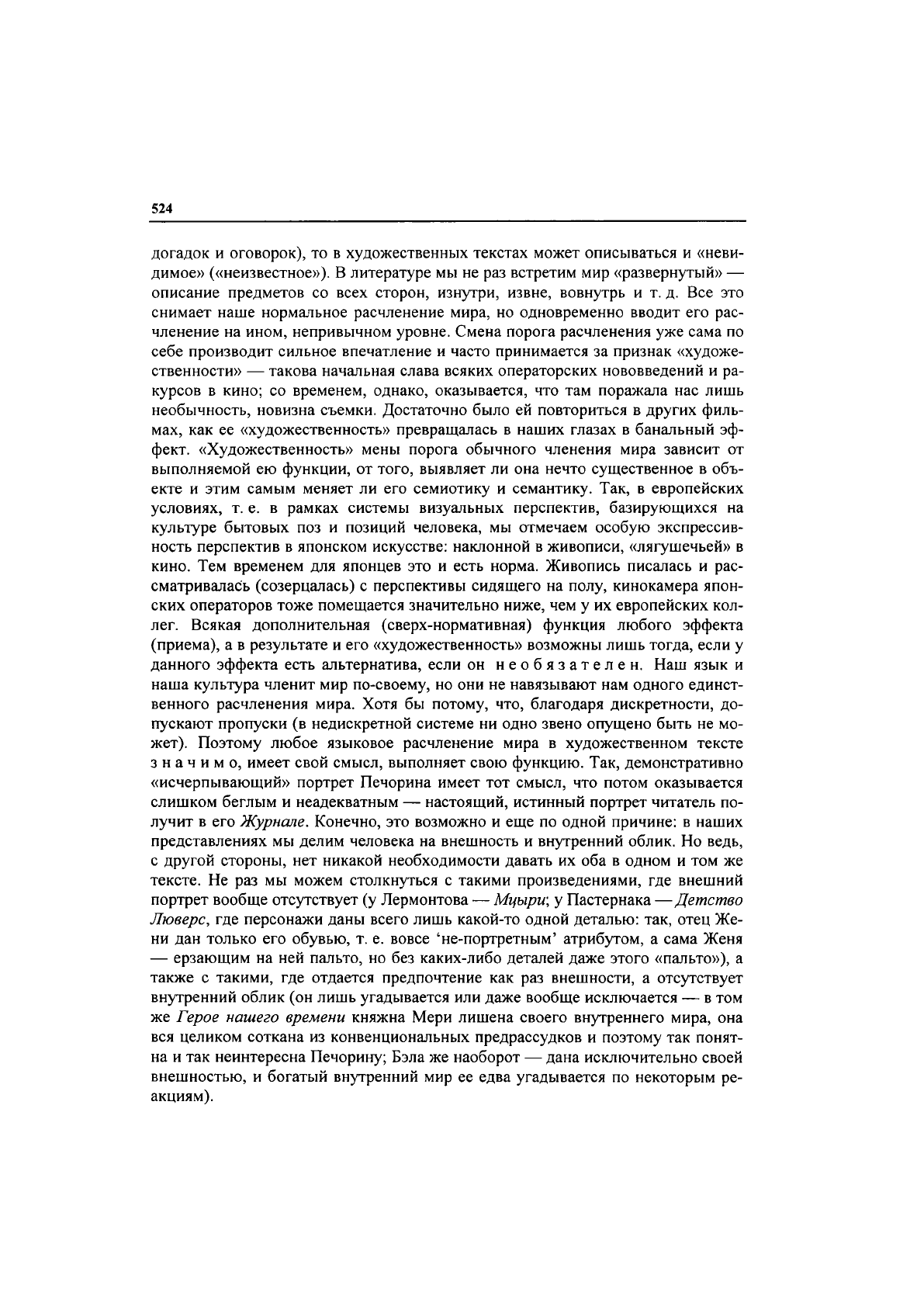
524
догадок и оговорок), то в художественных текстах может описываться и «неви-
димое» («неизвестное»). В литературе мы не раз встретим мир «развернутый» —
описание предметов со всех сторон, изнутри, извне, вовнутрь и т. д. Все это
снимает наше нормальное расчленение мира, но одновременно вводит его рас-
членение на ином, непривычном уровне. Смена порога расчленения уже сама по
себе производит сильное впечатление и часто принимается за признак «художе-
ственности» — такова начальная слава всяких операторских нововведений и ра-
курсов в кино; со временем, однако, оказывается, что там поражала нас лишь
необычность, новизна съемки. Достаточно было ей повториться в других филь-
мах, как ее «художественность» превращалась в наших глазах в банальный эф-
фект. «Художественность» мены порога обычного членения мира зависит от
выполняемой ею функции, от того, выявляет ли она нечто существенное в объ-
екте и этим самым меняет ли его семиотику и семантику. Так, в европейских
условиях, т. е. в рамках системы визуальных перспектив, базирующихся на
культуре бытовых поз и позиций человека, мы отмечаем особую экспрессив-
ность перспектив в японском искусстве: наклонной в живописи, «лягушечьей» в
кино. Тем временем для японцев это и есть норма. Живопись писалась и рас-
сматривалась (созерцалась) с перспективы сидящего на полу, кинокамера япон-
ских операторов тоже помещается значительно ниже, чем у их европейских кол-
лег. Всякая дополнительная (сверх-нормативная) функция любого эффекта
(приема), а в результате и его «художественность» возможны лишь тогда, если у
данного эффекта есть альтернатива, если он необязателен. Наш язык и
наша культура членит мир по-своему, но они не навязывают нам одного единст-
венного расчленения мира. Хотя бы потому, что, благодаря дискретности, до-
пускают пропуски (в недискретной системе ни одно звено опущено быть не мо-
жет). Поэтому любое языковое расчленение мира в художественном тексте
значимо, имеет свой смысл, выполняет свою функцию. Так, демонстративно
«исчерпывающий» портрет Печорина имеет тот смысл, что потом оказывается
слишком беглым и неадекватным — настоящий, истинный портрет читатель по-
лучит в его Журнале. Конечно, это возможно и еще по одной причине: в наших
представлениях мы делим человека на внешность и внутренний облик. Но ведь,
с другой стороны, нет никакой необходимости давать их оба в одном и том же
тексте. Не раз мы можем столкнуться с такими произведениями, где внешний
портрет вообще отсутствует (у Лермонтова — Мцыри; у Пастернака —Детство
Люверс, где персонажи даны всего лишь какой-то одной деталью: так, отец Же-
ни дан только его обувью, т. е. вовсе 'не-портретным' атрибутом, а сама Женя
— ерзающим на ней пальто, но без каких-либо деталей даже этого «пальто»), а
также с такими, где отдается предпочтение как раз внешности, а отсутствует
внутренний облик (он лишь угадывается или даже вообще исключается — в том
же Герое нашего времени княжна Мери лишена своего внутреннего мира, она
вся целиком соткана из конвенциональных предрассудков и поэтому так понят-
на и так неинтересна Печорину; Бэла же наоборот — дана исключительно своей
внешностью, и богатый внутренний мир ее едва угадывается по некоторым ре-
акциям).

525
Напомним еще стихотворение Винокурова Не спешу (другие его аспекты
рассматривались в 5.7 и 6.4). Оно интересно тем, что производимое в нем члене-
ние мира — одной кинемы 'прикуривание сигареты' — значительно ниже при-
вычного стандартного порога. Такая замедленность жеста вполне естественной
была бы, скажем, в пантомиме или в некоторых жанрах восточных народов. Се-
мантическая функция такого сверхдробного и сверхмедленного членения указа-
на в самом стихотворении; оно противостоит большим скоростям. Но, заметим,
не обычному уровню нынешних скоростей, а именно «сверхскоростям», от ко-
торых рвется и изгибается даже само пространство («пространство рвет!»;
«Подобно виражу, авто заносит [...] над пропасть ю»). Не указанная, но
очевидная, вторая функция заключается в другом: замедленность движений на
уровне мира и подробность языкового описания на уровне текста ведет к более
глубокому познанию (изучению) предмета (мира или себя). В Не спешу и вооб-
ще в поэтической системе Винокурова это познание состоит в самосозерцании, в
углублении в себя, в авторефлексивности и в идентификации со своим психофи-
зическим бытием и с бытием окружающего физического, вещественного мира.
Скорости и крупные или хотя бы стандартные членения этому не способствуют.
Вино можно выпить одним залпом, вовсе не ощущая, что это было вино, — оно
почувствуется лишь по результату. Но можно и так, как его пьет лирический
герой Винокурова:
Я ощущаю нёбом кислый вкус
Молдавского вина. Воспринимаю
Покалыванья. Тонкие оттенки
Смакую тщательно,
Я туго прижимаю
Язык к зубам, отдергиваю быстро,
Чтоб тут же быстро
Прикоснуться вновь.
Мои глаза вверх закатились,
Словно
В молебствии, в одну уставясь точку.
Губы
Как будто шепчут что-то...
«Нет! Довольно
Пить литры, залпом,
По-солдатски, кружкой.
Небрежно подбородок утирая
Ладони тыльной стороной!
Настала
Пора спокойствия, размеренности, нормы.
Мир хаоса приобретает стройность.
У языкового и культурного членения действительности есть и свой предел:
оно оправдывает себя до тех пор, пока внешний мир делится согласно с его (ми-
ра) собственными структурными отношениями и с нашим знанием о них (полу-
чаемым на других уровнях культуры — в области точных наук). В таких случаях
языковое членение является одновременно актом познания действительности и

526
актом вербализации этого познания. В художественной литературе языковое
членение мира функционирует иначе. Оно не только определенным образом мо-
делирует конструируемый мир, но и коммуницирует этот свой моделирующий
смысл, свою собственную идеологичность (шире — семиотику). Это особенно
четко выявляется тогда, когда в рамках одного произведения наличествуют по
крайней мере две разные системы дискретности, как, например, у Шимборской.
Есть они и у Винокурова: одна, постулируемая лирическим «Я», и другая — оп-
ровергаемая. Но эта другая не сочинена Винокуровым. Она легко опознается, с
одной стороны, как бытовая, характерная для определенного типа поведения, а с
другой стороны, как пропагандируемая современным Винокурову массовым ис-
кусством, где постоянен некий стереотип 'питья' и 'поведения', долженствую-
щий (по системе этого искусства) свидетельствовать о 'культурной неизвращен-
ности' героя, о его принадлежности к 'народу' и т. д. Так, как у Винокурова
вино, в массовых фильмах жадно, без отрыва, утирая рот «Ладони тыльной сто-
роной», пьют усталые после труда (или боя) их положительные герои (без тако-
го эпизода даже трудно подыскать фильм 50-х и начала 60-х годов: он стал сво-
его рода обязательной мифологемой).
Если язык вообще познает и классифицирует (интерпретирует) мир, то язык
в литературе, членя некий мир таким, а не иным образом, предлагает не только
новый образ мира, но и превращает его в явление, аналогичное языку: сообщает
не только некий мир, но и при помощи значимостей этого мира, в том числе и
при помощи значимостей его дискретности. Поэтому сегментация мира в лите-
ратуре и искусстве вообще никогда не становится целью самой в себе, наоборот,
она лишь средство, способ выявления некой инцюрмации. Поэтому одно и то же
членение может нагружаться даже прямо противоположными смыслами. Доста-
точно сравнить хотя бы рассматриваемые здесь тексты Шимборской и Виноку-
рова, чтобы убедиться, что подробность членения в одном случае расценивается
как явление отрицательное ('омертвляющее'), в другом же — как положитель-
ное ('идентификация с самим собой', 'полный контакт с внешним миром' — тут
с 'вином', в других стихах — с 'песком', 'мхом' и т. д., причем эта 'контакт-
ность' на уровне чувственных ощущений знаменует в поэтике Винокурова 'пол-
ноту человека' в отличие от официальной односторонности, т. е. только 'идей-
ности', и в итоге — конституирует полноценную 'субъектность'). И если у
Шимборской подробность истолковывается как противоестественная, непра-
вильная, противоречащая сущности объекта, то у Винокурова — как раз как
правильное, приобщающее к живой жизни, и противопоставляется пренебрежи-
тельному отношению к «мелочам жизни». И действительно, в наших повседнев-
ных представлениях жизнь наша и наше окружение достаточно выразительно
делится на достойное внимания «необычное» и на не стоящее особого внимания,
«быт». Текст Винокурова вводит другую ценностную шкалу.
Дискретность и недискретность, детальность и беглость по своим формаль-
ным признакам не абсолютны. Они всякий раз конституируются в пределах
произведения и только в этих пределах некие описания воспринимаются как
'более детальные', а некие как 'менее детальные'. Эта внутритекстовая шкала
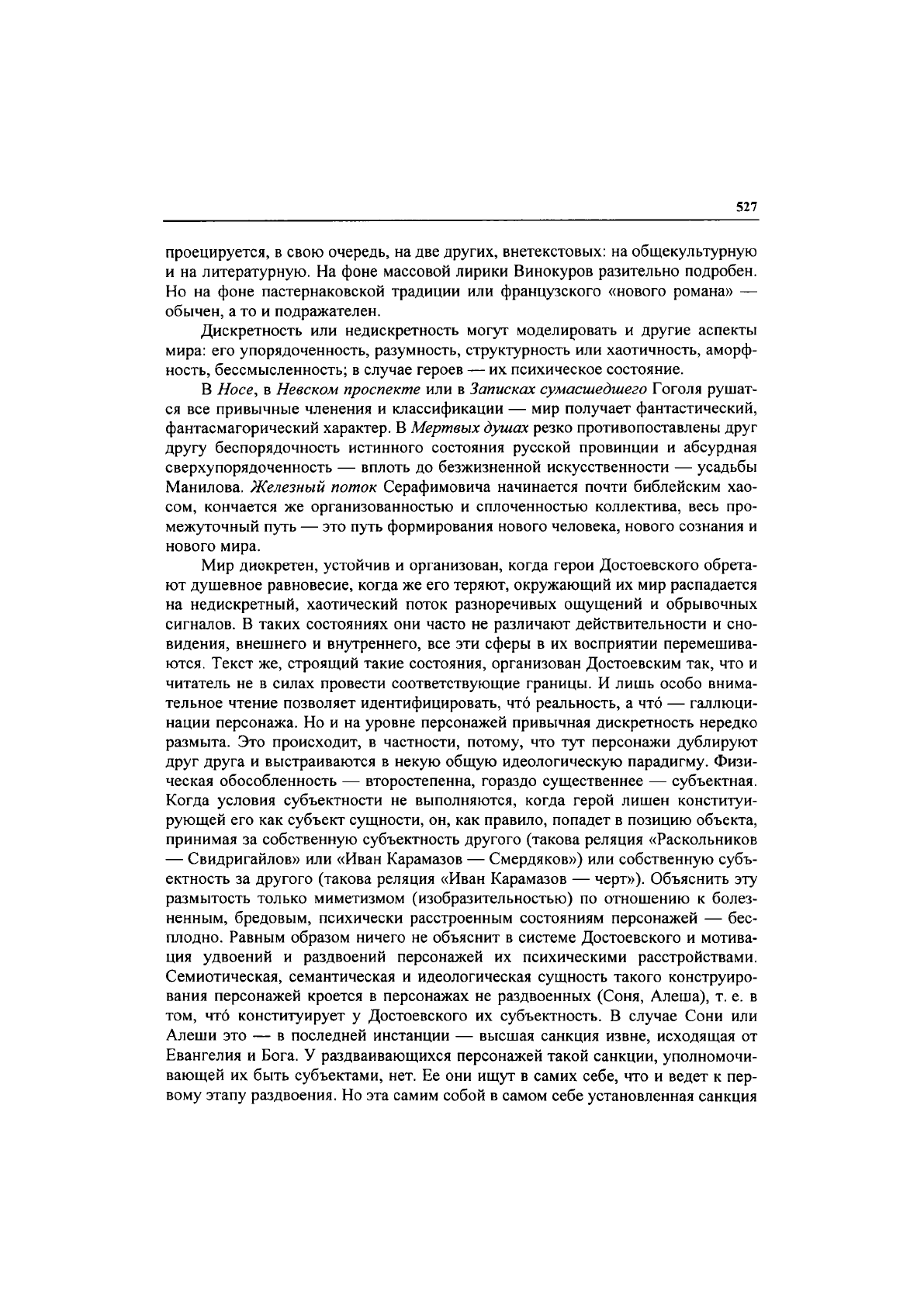
527
проецируется, в свою очередь, на две других, внетекстовых: на общекультурную
и на литературную. На фоне массовой лирики Винокуров разительно подробен.
Но на фоне пастернаковской традиции или французского «нового романа» —
обычен, а то и подражателен.
Дискретность или недискретность могут моделировать и другие аспекты
мира: его упорядоченность, разумность, структурность или хаотичность, аморф-
ность, бессмысленность; в случае героев — их психическое состояние.
В Носе, в Невском проспекте или в Записках сумасшедшего Гоголя рушат-
ся все привычные членения и классификации — мир получает фантастический,
фантасмагорический характер. В Мертвых душах резко противопоставлены друг
другу беспорядочность истинного состояния русской провинции и абсурдная
сверхупорядоченность — вплоть до безжизненной искусственности — усадьбы
Манилова. Железный поток Серафимовича начинается почти библейским хао-
сом, кончается же организованностью и сплоченностью коллектива, весь про-
межуточный путь — это путь формирования нового человека, нового сознания и
нового мира.
Мир дискретен, устойчив и организован, когда герои Достоевского обрета-
ют душевное равновесие, когда же его теряют, окружающий их мир распадается
на недискретный, хаотический поток разноречивых ощущений и обрывочных
сигналов. В таких состояниях они часто не различают действительности и сно-
видения, внешнего и внутреннего, все эти сферы в их восприятии перемешива-
ются. Текст же, строящий такие состояния, организован Достоевским так, что и
читатель не в силах провести соответствующие границы. И лишь особо внима-
тельное чтение позволяет идентифицировать, что реальность, а что — галлюци-
нации персонажа. Но и на уровне персонажей привычная дискретность нередко
размыта. Это происходит, в частности, потому, что тут персонажи дублируют
друг друга и выстраиваются в некую общую идеологическую парадигму. Физи-
ческая обособленность — второстепенна, гораздо существеннее — субъектная.
Когда условия субъектности не выполняются, когда герой лишен конституи-
рующей его как субъект сущности, он, как правило, попадет в позицию объекта,
принимая за собственную субъектность другого (такова реляция «Раскольников
— Свидригайлов» или «Иван Карамазов — Смердяков») или собственную субъ-
ектность за другого (такова реляция «Иван Карамазов — черт»). Объяснить эту
размытость только миметизмом (изобразительностью) по отношению к болез-
ненным, бредовым, психически расстроенным состояниям персонажей — бес-
плодно. Равным образом ничего не объяснит в системе Достоевского и мотива-
ция удвоений и раздвоений персонажей их психическими расстройствами.
Семиотическая, семантическая и идеологическая сущность такого конструиро-
вания персонажей кроется в персонажах не раздвоенных (Соня, Алеша), т. е. в
том, что конституирует у Достоевского их субъектность. В случае Сони или
Алеши это — в последней инстанции — высшая санкция извне, исходящая от
Евангелия и Бога. У раздваивающихся персонажей такой санкции, уполномочи-
вающей их быть субъектами, нет. Ее они ищут в самих себе, что и ведет к пер-
вому этапу раздвоения. Но эта самим собой в самом себе установленная санкция
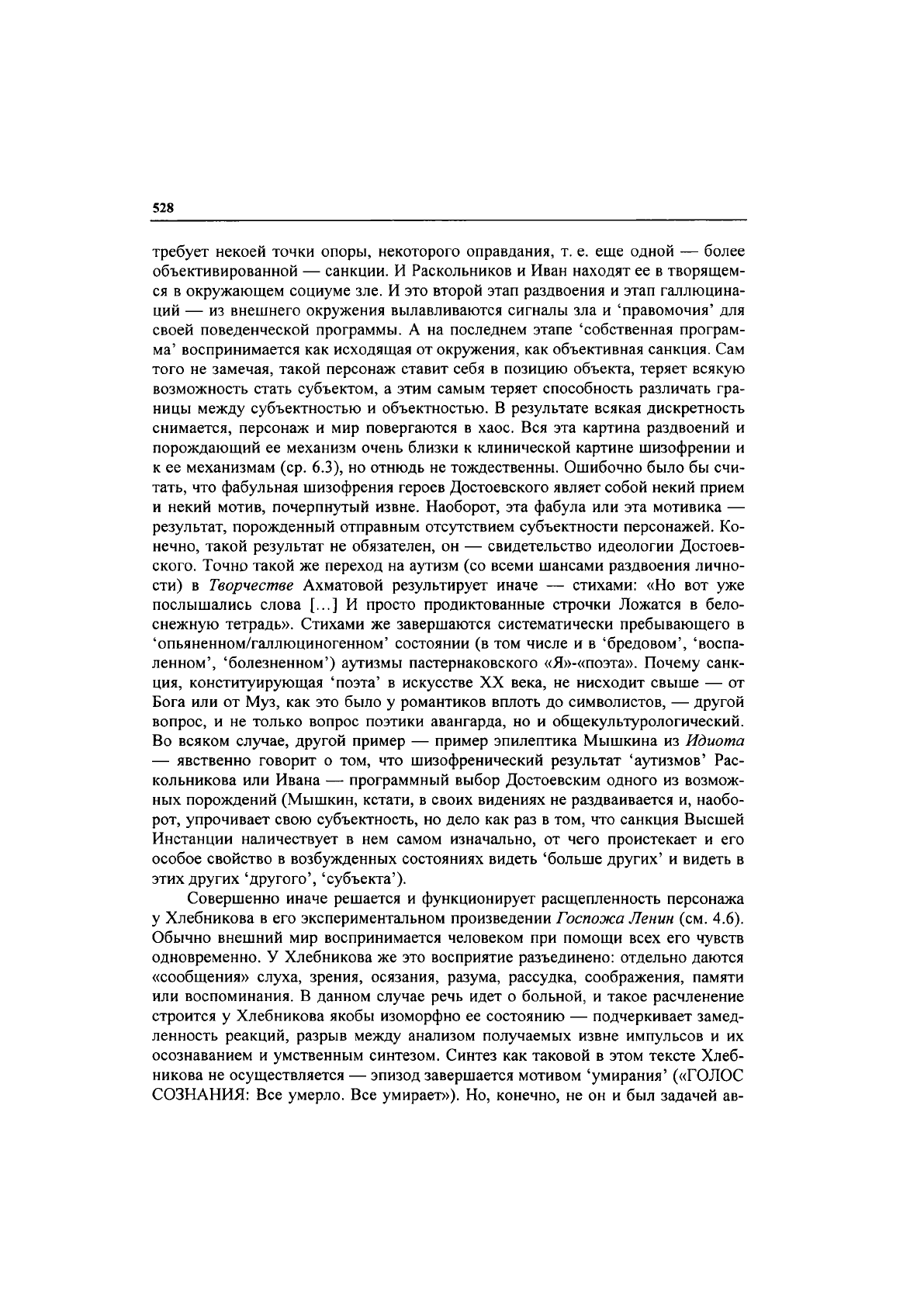
528
требует некоей точки опоры, некоторого оправдания, т. е. еще одной — более
объективированной — санкции. И Раскольников и Иван находят ее в творящем-
ся в окружающем социуме зле. И это второй этап раздвоения и этап галлюцина-
ций — из внешнего окружения вылавливаются сигналы зла и 'правомочия' для
своей поведенческой программы. А на последнем этапе 'собственная програм-
ма' воспринимается как исходящая от окружения, как объективная санкция. Сам
того не замечая, такой персонаж ставит себя в позицию объекта, теряет всякую
возможность стать субъектом, а этим самым теряет способность различать гра-
ницы между субъектностью и объектностью. В результате всякая дискретность
снимается, персонаж и мир повергаются в хаос. Вся эта картина раздвоений и
порождающий ее механизм очень близки к клинической картине шизофрении и
к ее механизмам (ср. 6.3), но отнюдь не тождественны. Ошибочно было бы счи-
тать, что фабульная шизофрения героев Достоевского являет собой некий прием
и некий мотив, почерпнутый извне. Наоборот, эта фабула или эта мотивика —
результат, порожденный отправным отсутствием субъектности персонажей. Ко-
нечно, такой результат не обязателен, он — свидетельство идеологии Достоев-
ского. Точно такой же переход на аутизм (со всеми шансами раздвоения лично-
сти) в Творчестве Ахматовой результирует иначе — стихами: «Но вот уже
послышались слова [...] И просто продиктованные строчки Ложатся в бело-
снежную тетрадь». Стихами же завершаются систематически пребывающего в
'опьяненном/галлюциногенном' состоянии (в том числе и в 'бредовом', 'воспа-
ленном', 'болезненном') аутизмы пастернаковского «Я»-«поэта». Почему санк-
ция, конституирующая 'поэта' в искусстве XX века, не нисходит свыше — от
Бога или от Муз, как это было у романтиков вплоть до символистов, — другой
вопрос, и не только вопрос поэтики авангарда, но и общекультурологический.
Во всяком случае, другой пример — пример эпилептика Мышкина из Идиота
— явственно говорит о том, что шизофренический результат 'аутизмов' Рас-
кольникова или Ивана — программный выбор Достоевским одного из возмож-
ных порождений (Мышкин, кстати, в своих видениях не раздваивается и, наобо-
рот, упрочивает свою субъектность, но дело как раз в том, что санкция Высшей
Инстанции наличествует в нем самом изначально, от чего проистекает и его
особое свойство в возбужденных состояниях видеть 'больше других' и видеть в
этих других 'другого', 'субъекта').
Совершенно иначе решается и функционирует расщепленность персонажа
у Хлебникова в его экспериментальном произведении Госпожа Ленин (см. 4.6).
Обычно внешний мир воспринимается человеком при помощи всех его чувств
одновременно. У Хлебникова же это восприятие разъединено: отдельно даются
«сообщения» слуха, зрения, осязания, разума, рассудка, соображения, памяти
или воспоминания. В данном случае речь идет о больной, и такое расчленение
строится у Хлебникова якобы изоморфно ее состоянию — подчеркивает замед-
ленность реакций, разрыв между анализом получаемых извне импульсов и их
осознаванием и умственным синтезом. Синтез как таковой в этом тексте Хлеб-
никова не осуществляется — эпизод завершается мотивом 'умирания' («ГОЛОС
СОЗНАНИЯ: Все умерло. Все умирает»). Но, конечно, не он и был задачей ав-

529
тора и произведения. Основная задача та же, что и всей практики авангарда
(особенно раннего) — разложение-анализ унаследованного языка, культуры,
концептов (культурем) с любыми коммуникативными актами включительно и
поиск инвариантов, универсалий. Разрозненное восприятие мира Госпожой Ле-
нин ведет, в частности, к вычленению составных элементов как нашей речи, так
и якобы нечленимой картины мира. Позже, в науке, подобный анализ и подоб-
ное разложение окажется необходимым в лингвистике, с одной стороны, и в ки-
бернетике с ее задачами построить искусственный интеллект — с другой.
Пример из Хлебникова позволяет осознать очень существенную «очевид-
ность» нашей культуры и обратить внимание на ее значимость. Вычленяемые в
Госпоже Ленин восприятия и операции (во всяком случае, большинство из них)
действительно поддаются обособлению. С таким явлением мы сталкиваемся по-
вседневно и вовсе не в болезненном состоянии, но не привыкли обращать на не-
го внимание. Опознавая кого-нибудь, мы иногда никак не можем вспомнить, кто
это и где мы его уже встречали, хотя точно знаем, что видим его не впервые. В
таких случаях нами овладевают лишь «память» — все усилия направлены на то,
чтобы вспомнить, а остальные типы восприятия если и вовсе не устраняются, то
по крайней мере отодвигаются на второй план. Кстати, это последнее явление
играет существенную роль в произведениях Гофмана — его герои наблюдают
внешний мир с большого расстояния и видят по сути дела «немые» сцены, но
начинают их интерпретировать: участникам наблюдаемой и неслышимой сцены
приписывают предполагаемые фразы; звуковой аспект «немых» картин стано-
вится их своеобразной интерпретацией (с семиотической точки зрения это явле-
ние обсуждается в: Степанов 1971, с. 136). Наша научная литература — не что
иное, как обособленный «голос соображения», а энциклопедические справочни-
ки — объективированный «голос памяти».
Такая же разрозненность разных восприятий и их неравномерность свойст-
венны и искусству в целом (живопись рассчитана на зрительное восприятие, му-
зыка — на слуховое, литература — прежде всего на семантическое) и отдельным
произведениям. Так, одни партии литературного текста строят лишь визуальный
аспект мира, другие — его соносферу, а иные являют собой диалоги или рассу-
ждения. В кино такая разрозненность — сильнейшее моделирующее средство.
Это особенно хорошо видно в случае разъятия изображения и звука. В свое вре-
мя Эйзенштейн даже говорил, что настоящее художественное звуковое кино
появится лишь тогда, когда скрип сапога будет оторван от самого поскрипы-
вающего сапога (в науке о кино это получило название контрапункта; см.: Ива-
нов 1976, с. 229 и след.; Helman 1970, s. 86-87). Но и не прибегающее к таким
приемам звуковое кино относительно скоро научилось владеть звуком по своему
усмотрению. На первых порах с экрана звучали все звуки снимаемого мира (что
диктовалось тогдашней техникой звукозаписи при съемках), потом же кино —
будучи звуковым — стало «неметь» или «заикаться»: с экрана стало звучать
только то, что было необходимо по художественным соображениям, остальные
кадры стали сопровождаться внешней по отношению к миру фильма музыкой
(тишина стала и противопоказанной, и получила иное символическое значение).

530
Так, к примеру, в фильме Szpital Przemienienia (реж. Żebrowski), кроме звяка
ключей, других внутрикадровых звуков нет, если не считать диалогов персона-
жей. Одновременно кино научилось не только снимать естественные звуки ми-
ра, но и имитировать их и создавать свои.
В отличие от кино, литература находится в ином положении: ей не прихо-
дится расщеплять и изобретать разрозненность; дискретность лежит в основе
литературного материала — в языке и речи. Наоборот, литературе приходится
изобретать другое — техники симультанного целостного показа мира. Однако
как ни дискретен язык, кинематографический эффект контрапункта в литературе
достигается с трудом, хотя вполне свободно литература в состоянии «озвучить»
свой мир, т. е. дать объект и звук одновременно. Но прежде чем перейти к этому
вопросу, остановимся еще на нескольких аспектах дискретности.
Детальное распространенное описание подразумевает обычно сложность и
важность описуемого и такого восприятия (с повышенным вниманием) ожидает
и от читателя; беглое же, редуцированное изложение являет собой признак
меньшей сложности, меньшего разнообразия и меньшей важности излагаемого
(этими аспектами умело пользуется также и кино; в частности, замедляя нарра-
цию детальным обозрением локуса, оно повышает напряжение и вводит элемент
драматизма, убыстренность же наррации свойственна комедийным жанрам).
Так, например, в стихотворении Фета Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-
ли... явно нарушены временные пропорции: один момент и по сути дела одна
неизменная (или: две почти дословно одинаковых) ситуация выражена в 15 сти-
хах текста, тогда как множество лет дано только одним стихом («И много лет
прошло, томительных и скучных»), после которого следует повтор отправной
ситуации, с той только разницей, что в иной временной момент:
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.
Легко заметить, что беглость связана тут с преходящим, суетным, тогда как
детальность и повтор — с 'непреходящим', возводимым в ранг 'вечного' Более
того, и 'детальность' тут особая: она не вводит разнообразия семантем, а варьи-
рует едва ли не одну и ту же, т. е. нюансирует ее и этим самым максимально
расширяет ее значимость (ср. хотя бы и дифференциацию и повтор в «веет [...]
во вздохах» и на уровне звуковой организации «ВноВь — Веет — Во ВЗдохах
— ЗВучных — ВСя жиЗнь — любоВЬ»; детальный разбор этого текста см. в:
Faryno 1975b; об особой анаграмматичности поэзии Фета и о связи насыщенно-
сти его текстов звуком «з», видимо несознательно восходящем к имени возлюб-
ленной поэта Марии Лазич, см. в: Топоров 1987а, с. 216-221).
А вот другой пример — из рассказа Тургенева Мой сосед Радилов. Встреча
с Радиловым произошла случайно: повествователь забрел в чужой сад и там
охотился за вальдшнепами; подстрелив одного, он вдруг столкнулся с владель-
цем сада:
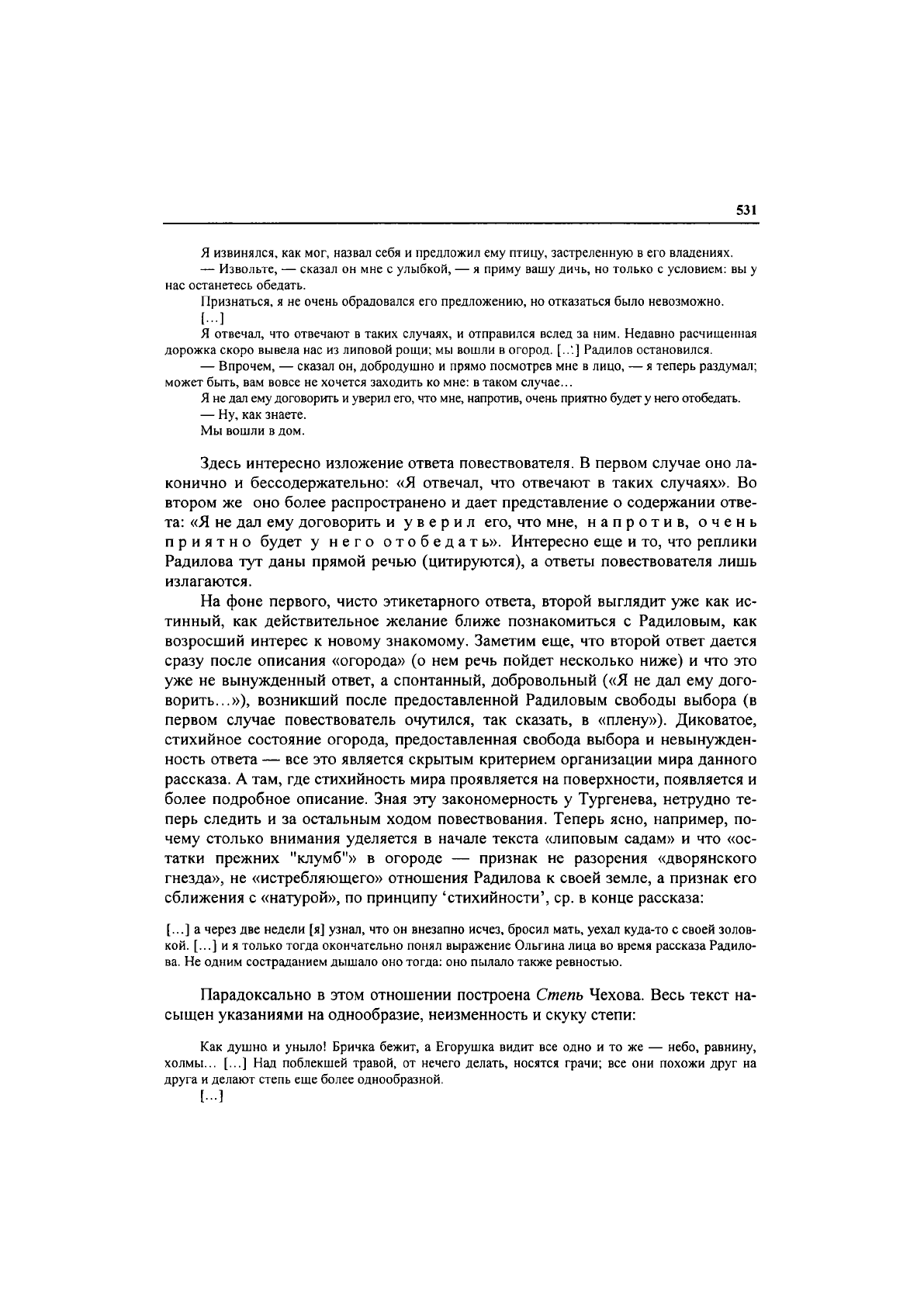
531
Я извинялся, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.
— Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием: вы у
нас останетесь обедать.
Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.
[...]
Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная
дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. [..'.] Радилов остановился.
— Впрочем, — сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал;
может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае...
Я не дал ему договорить
и
уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.
— Ну, как знаете.
Мы вошли в дом.
Здесь интересно изложение ответа повествователя. В первом случае оно ла-
конично и бессодержательно: «Я отвечал, что отвечают в таких случаях». Во
втором же оно более распространено и дает представление о содержании отве-
та: «Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень
приятно будет у него отобедат ь». Интересно еще и то, что реплики
Радилова тут даны прямой речью (цитируются), а ответы повествователя лишь
излагаются.
На фоне первого, чисто этикетарного ответа, второй выглядит уже как ис-
тинный, как действительное желание ближе познакомиться с Радиловым, как
возросший интерес к новому знакомому. Заметим еще, что второй ответ дается
сразу после описания «огорода» (о нем речь пойдет несколько ниже) и что это
уже не вынужденный ответ, а спонтанный, добровольный («Я не дал ему дого-
ворить...»), возникший после предоставленной Радиловым свободы выбора (в
первом случае повествователь очутился, так сказать, в «плену»). Диковатое,
стихийное состояние огорода, предоставленная свобода выбора и невынужден-
ность ответа — все это является скрытым критерием организации мира данного
рассказа. А там, где стихийность мира проявляется на поверхности, появляется и
более подробное описание. Зная эту закономерность у Тургенева, нетрудно те-
перь следить и за остальным ходом повествования. Теперь ясно, например, по-
чему столько внимания уделяется в начале текста «липовым садам» и что «ос-
татки прежних "клумб"» в огороде — признак не разорения «дворянского
гнезда», не «истребляющего» отношения Радилова к своей земле, а признак его
сближения с «натурой», по принципу 'стихийности', ср. в конце рассказа:
[...] а через две недели [я] узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золов-
кой. [...] и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радило-
ва. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.
Парадоксально в этом отношении построена Степь Чехова. Весь текст на-
сыщен указаниями на однообразие, неизменность и скуку степи:
Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину,
холмы... [...] Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на
друга и делают степь еще более однообразной.
[-]
