Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

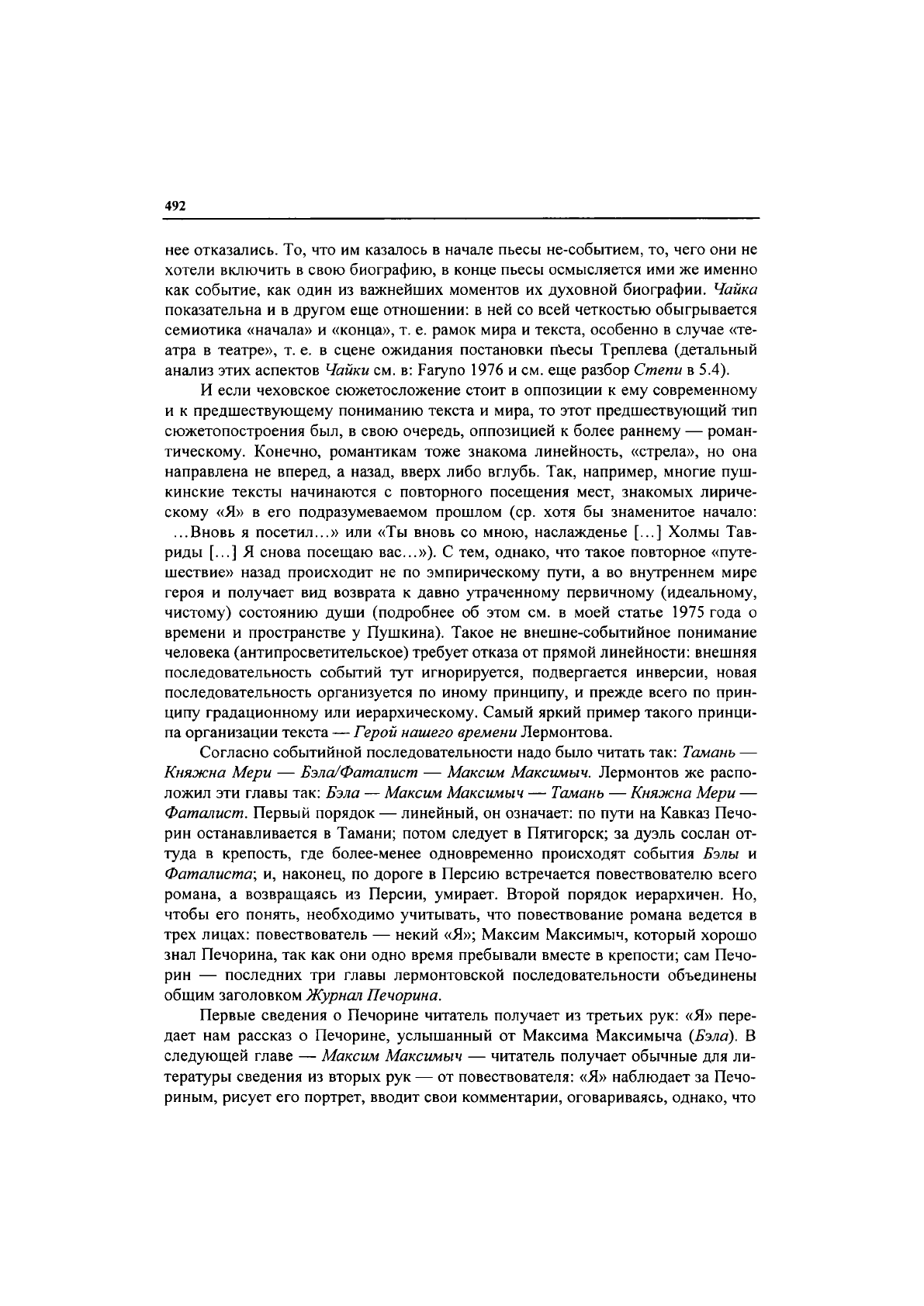
492
нее отказались. То, что им казалось в начале пьесы не-событием, то, чего они не
хотели включить в свою биографию, в конце пьесы осмысляется ими же именно
как событие, как один из важнейших моментов их духовной биографии. Чайка
показательна и в другом еще отношении: в ней со всей четкостью обыгрывается
семиотика «начала» и «конца», т. е. рамок мира и текста, особенно в случае «те-
атра в театре», т. е. в сцене ожидания постановки гіьесы Треплева (детальный
анализ этих аспектов Чайки см. в: Faryno 1976 и см. еще разбор Степи в 5.4).
И если чеховское сюжетосложение стоит в оппозиции к ему современному
и к предшествующему пониманию текста и мира, то этот предшествующий тип
сюжетопостроения был, в свою очередь, оппозицией к более раннему — роман-
тическому. Конечно, романтикам тоже знакома линейность, «стрела», но она
направлена не вперед, а назад, вверх либо вглубь. Так, например, многие пуш-
кинские тексты начинаются с повторного посещения мест, знакомых лириче-
скому «Я» в его подразумеваемом прошлом (ср. хотя бы знаменитое начало:
...Вновь я посетил...» или «Ты вновь со мною, наслажденье [...] Холмы Тав-
риды [...] Я снова посещаю вас...»). С тем, однако, что такое повторное «путе-
шествие» назад происходит не по эмпирическому пути, а во внутреннем мире
героя и получает вид возврата к давно утраченному первичному (идеальному,
чистому) состоянию души (подробнее об этом см. в моей статье 1975 года о
времени и пространстве у Пушкина). Такое не внешне-событийное понимание
человека (антипросветительское) требует отказа от прямой линейности: внешняя
последовательность событий тут игнорируется, подвергается инверсии, новая
последовательность организуется по иному принципу, и прежде всего по прин-
ципу градационному или иерархическому. Самый яркий пример такого принци-
па организации текста — Герой нашего времени Лермонтова.
Согласно событийной последовательности надо было читать так: Тамань —
Княжна Мери — Бэла/Фаталист — Максим Максимыч. Лермонтов же распо-
ложил эти главы так: Бэла — Максим Максимыч — Тамань — Княжна Мери —
Фаталист. Первый порядок — линейный, он означает: по пути на Кавказ Печо-
рин останавливается в Тамани; потом следует в Пятигорск; за дуэль сослан от-
туда в крепость, где более-менее одновременно происходят события Бэлы и
Фаталиста; и, наконец, по дороге в Персию встречается повествователю всего
романа, а возвращаясь из Персии, умирает. Второй порядок иерархичен. Но,
чтобы его понять, необходимо учитывать, что повествование романа ведется в
трех лицах: повествователь — некий «Я»; Максим Максимыч, который хорошо
знал Печорина, так как они одно время пребывали вместе в крепости; сам Печо-
рин — последних три главы лермонтовской последовательности объединены
общим заголовком Журнал Печорина.
Первые сведения о Печорине читатель получает из третьих рук: «Я» пере-
дает нам рассказ о Печорине, услышанный от Максима Максимыча (Бэла). В
следующей главе — Максим Максимыч — читатель получает обычные для ли-
тературы сведения из вторых рук — от повествователя: «Я» наблюдает за Печо-
риным, рисует его портрет, вводит свои комментарии, оговариваясь, однако, что
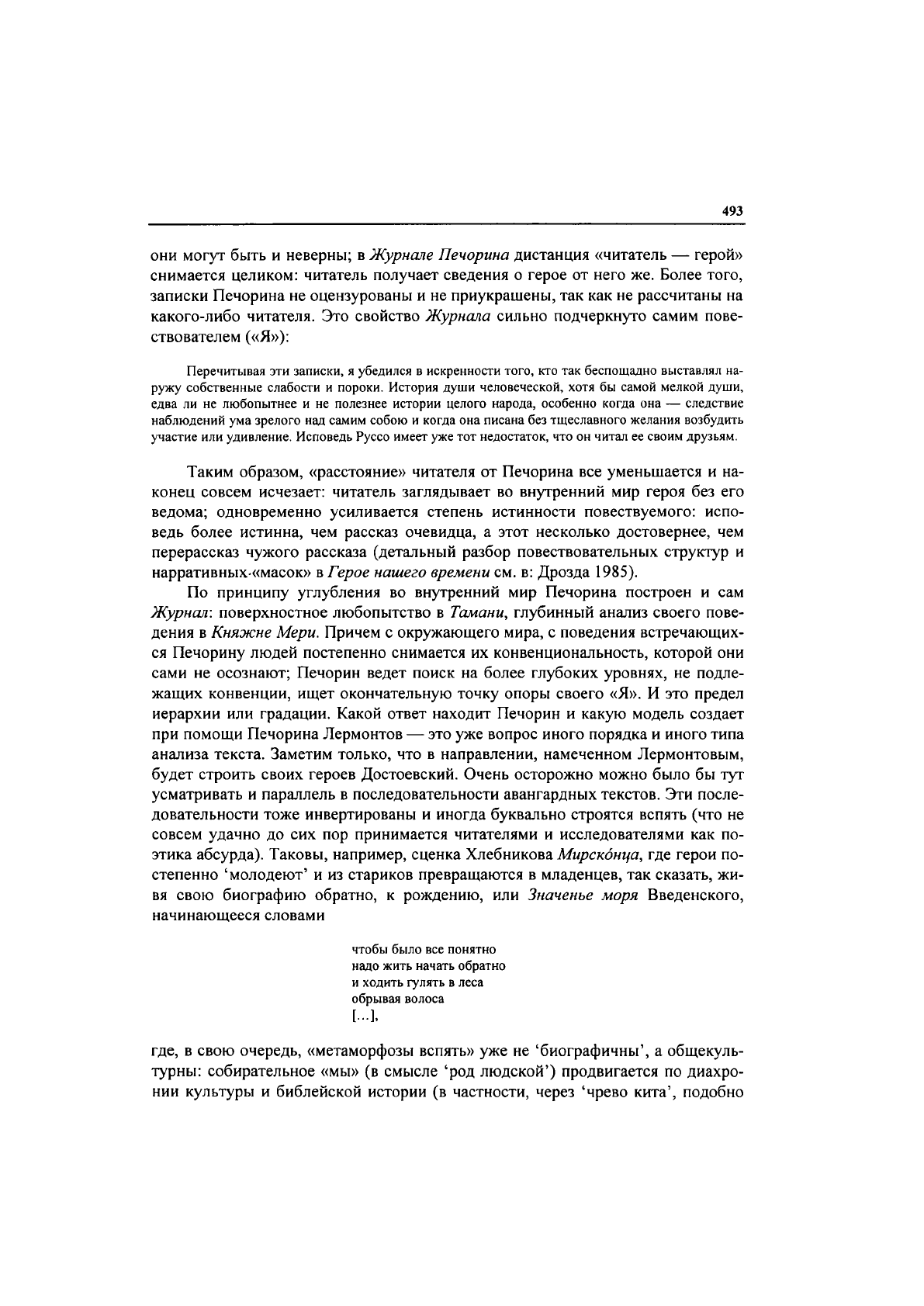
493
они могут быть и неверны; в Журнале Печорина дистанция «читатель — герой»
снимается целиком: читатель получает сведения о герое от него же. Более того,
записки Печорина не оцензурованы и не приукрашены, так как не рассчитаны на
какого-либо читателя. Это свойство Журнала сильно подчеркнуто самим пове-
ствователем («Я»):
Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял на-
ружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души,
едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие
наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить
участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.
Таким образом, «расстояние» читателя от Печорина все уменьшается и на-
конец совсем исчезает: читатель заглядывает во внутренний мир героя без его
ведома; одновременно усиливается степень истинности повествуемого: испо-
ведь более истинна, чем рассказ очевидца, а этот несколько достовернее, чем
перерассказ чужого рассказа (детальный разбор повествовательных структур и
нарративных-«масок» в Герое нашего времени см. в: Дрозда 1985).
По принципу углубления во внутренний мир Печорина построен и сам
Журнал', поверхностное любопытство в Тамани, глубинный анализ своего пове-
дения в Княжне Мери. Причем с окружающего мира, с поведения встречающих-
ся Печорину людей постепенно снимается их конвенциональность, которой они
сами не осознают; Печорин ведет поиск на более глубоких уровнях, не подле-
жащих конвенции, ищет окончательную точку опоры своего «Я». И это предел
иерархии или градации. Какой ответ находит Печорин и какую модель создает
при помощи Печорина Лермонтов — это уже вопрос иного порядка и иного типа
анализа текста. Заметим только, что в направлении, намеченном Лермонтовым,
будет строить своих героев Достоевский. Очень осторожно можно было бы тут
усматривать и параллель в последовательности авангардных текстов. Эти после-
довательности тоже инвертированы и иногда буквально строятся вспять (что не
совсем удачно до сих пор принимается читателями и исследователями как по-
этика абсурда). Таковы, например, сценка Хлебникова Мирсконца, где герои по-
степенно 'молодеют' и из стариков превращаются в младенцев, так сказать, жи-
вя свою биографию обратно, к рождению, или Значенье моря Введенского,
начинающееся словами
чтобы было все понятно
надо жить начать обратно
и ходить гулять в леса
обрывая волоса
[•••],
где, в свою очередь, «метаморфозы вспять» уже не 'биографичны', а общекуль-
турны: собирательное «мы» (в смысле 'род людской') продвигается по диахро-
нии культуры и библейской истории (в частности, через 'чрево кита', подобно
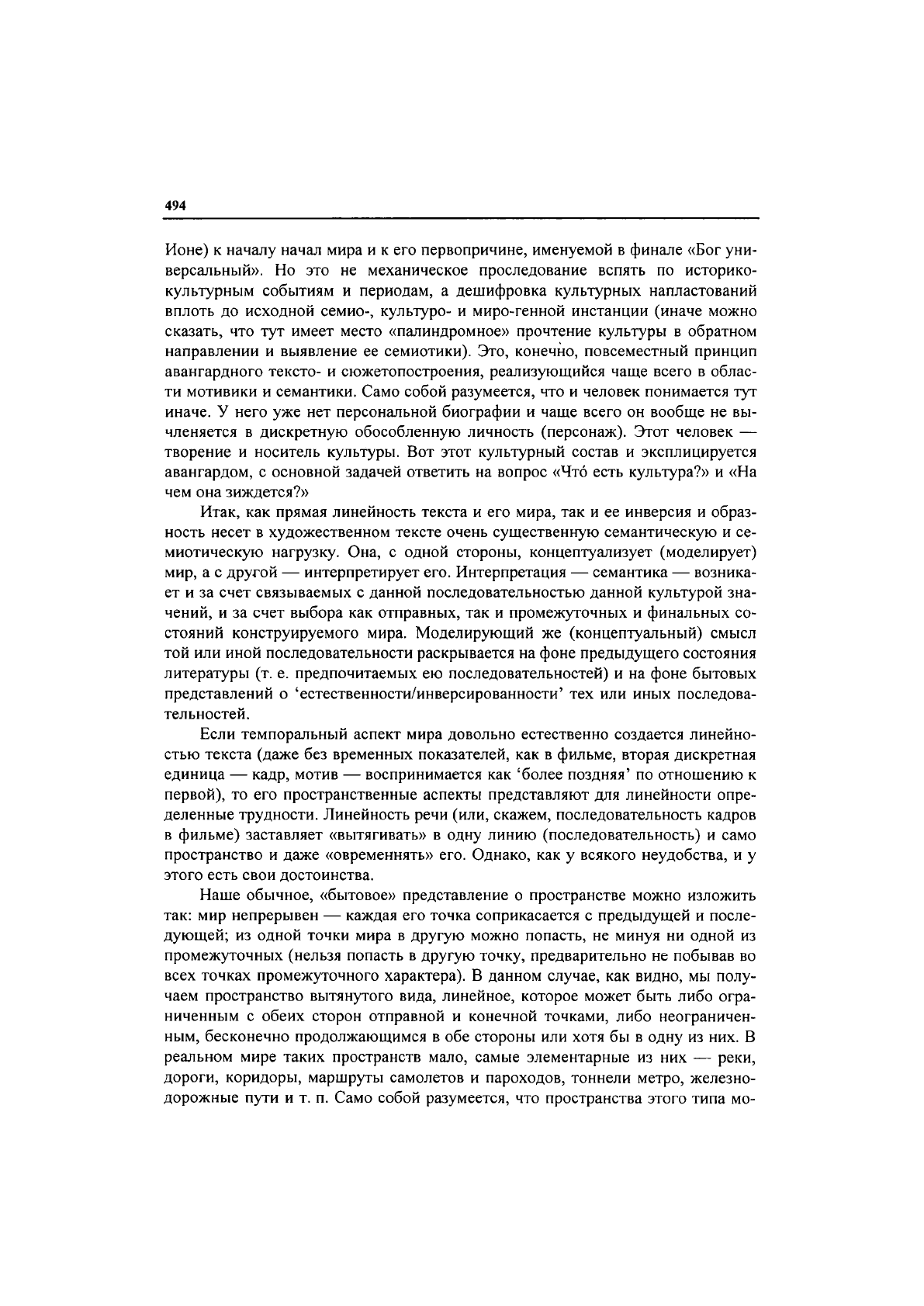
494
Ионе) к началу начал мира и к его первопричине, именуемой в финале «Бог уни-
версальный». Но это не механическое проследование вспять по историко-
культурным событиям и периодам, а дешифровка культурных напластований
вплоть до исходной семио-, культуро- и миро-генной инстанции (иначе можно
сказать, что тут имеет место «палиндромное» прочтение культуры в обратном
направлении и выявление ее семиотики). Это, конечно, повсеместный принцип
авангардного тексто- и сюжетопостроения, реализующийся чаще всего в облас-
ти мотивики и семантики. Само собой разумеется, что и человек понимается тут
иначе. У него уже нет персональной биографии и чаще всего он вообще не вы-
членяется в дискретную обособленную личность (персонаж). Этот человек —
творение и носитель культуры. Вот этот культурный состав и эксплицируется
авангардом, с основной задачей ответить на вопрос «Что есть культура?» и «На
чем она зиждется?»
Итак, как прямая линейность текста и его мира, так и ее инверсия и образ-
ность несет в художественном тексте очень существенную семантическую и се-
миотическую нагрузку. Она, с одной стороны, концептуализует (моделирует)
мир, а с другой — интерпретирует его. Интерпретация — семантика — возника-
ет и за счет связываемых с данной последовательностью данной культурой зна-
чений, и за счет выбора как отправных, так и промежуточных и финальных со-
стояний конструируемого мира. Моделирующий же (концептуальный) смысл
той или иной последовательности раскрывается на фоне предыдущего состояния
литературы (т. е. предпочитаемых ею последовательностей) и на фоне бытовых
представлений о 'естественности/инверсированности' тех или иных последова-
тельностей.
Если темпоральный аспект мира довольно естественно создается линейно-
стью текста (даже без временных показателей, как в фильме, вторая дискретная
единица — кадр, мотив — воспринимается как 'более поздняя' по отношению к
первой), то его пространственные аспекты представляют для линейности опре-
деленные трудности. Линейность речи (или, скажем, последовательность кадров
в фильме) заставляет «вытягивать» в одну линию (последовательность) и само
пространство и даже «овременнять» его. Однако, как у всякого неудобства, и у
этого есть свои достоинства.
Наше обычное, «бытовое» представление о пространстве можно изложить
так: мир непрерывен — каждая его точка соприкасается с предыдущей и после-
дующей; из одной точки мира в другую можно попасть, не минуя ни одной из
промежуточных (нельзя попасть в другую точку, предварительно не побывав во
всех точках промежуточного характера). В данном случае, как видно, мы полу-
чаем пространство вытянутого вида, линейное, которое может быть либо огра-
ниченным с обеих сторон отправной и конечной точками, либо неограничен-
ным, бесконечно продолжающимся в обе стороны или хотя бы в одну из них. В
реальном мире таких пространств мало, самые элементарные из них — реки,
дороги, коридоры, маршруты самолетов и пароходов, тоннели метро, железно-
дорожные пути и т. п. Само собой разумеется, что пространства этого типа мо-
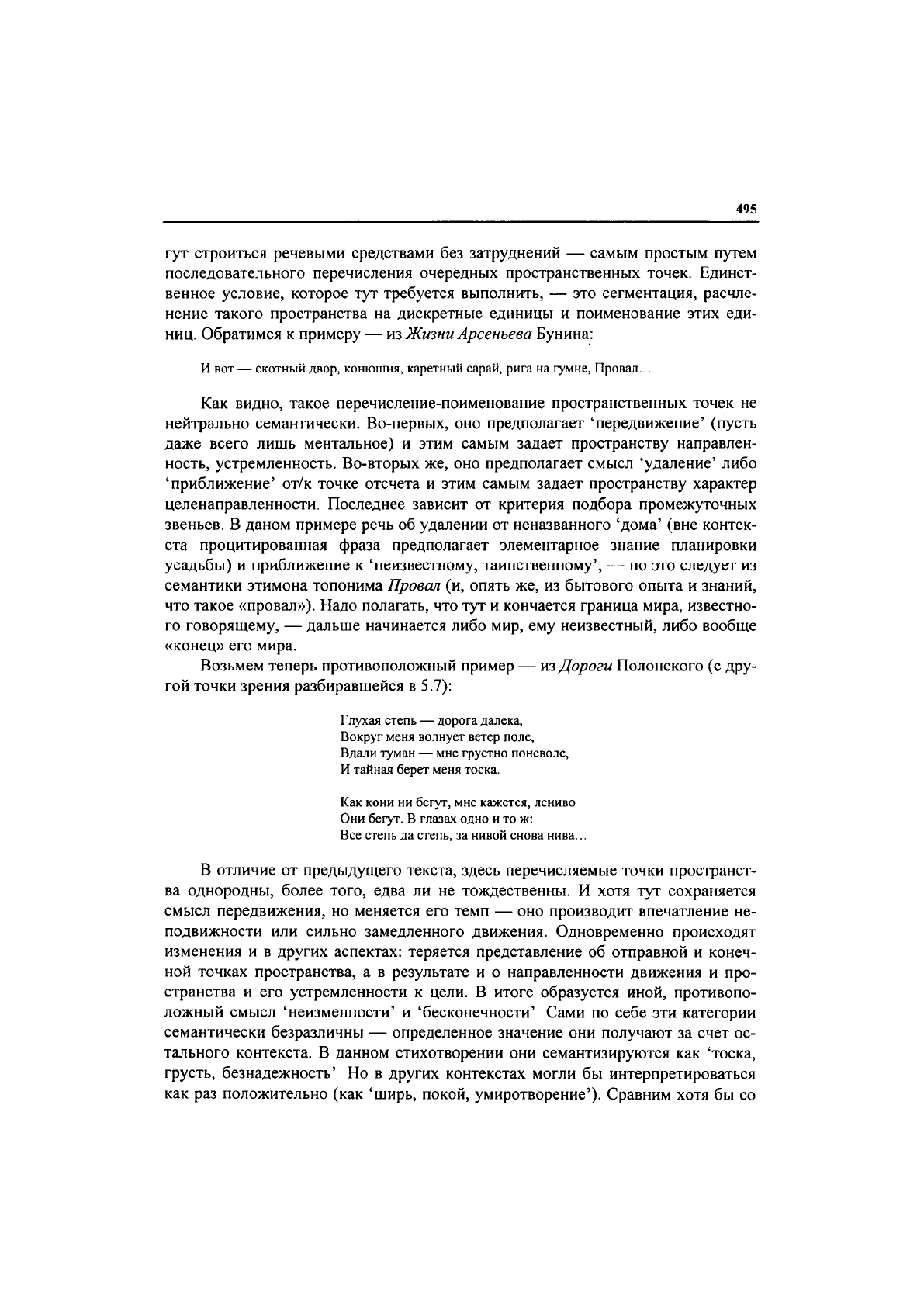
495
гут строиться речевыми средствами без затруднений — самым простым путем
последовательного перечисления очередных пространственных точек. Единст-
венное условие, которое тут требуется выполнить, — это сегментация, расчле-
нение такого пространства на дискретные единицы и поименование этих еди-
ниц. Обратимся к примеру — из Жизни Арсеньева Бунина:
И вот — скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне, Провал...
Как видно, такое перечисление-поименование пространственных точек не
нейтрально семантически. Во-первых, оно предполагает 'передвижение' (пусть
даже всего лишь ментальное) и этим самым задает пространству направлен-
ность, устремленность. Во-вторых же, оно предполагает смысл 'удаление' либо
'приближение' от/к точке отсчета и этим самым задает пространству характер
целенаправленности. Последнее зависит от критерия подбора промежуточных
звеньев. В даном примере речь об удалении от неназванного 'дома' (вне контек-
ста процитированная фраза предполагает элементарное знание планировки
усадьбы) и приближение к 'неизвестному, таинственному', — но это следует из
семантики этимона топонима Провал (и, опять же, из бытового опыта и знаний,
что такое «провал»). Надо полагать, что тут и кончается граница мира, известно-
го говорящему, — дальше начинается либо мир, ему неизвестный, либо вообще
«конец» его мира.
Возьмем теперь противоположный пример —
из
Дороги Полонского (с дру-
гой точки зрения разбиравшейся в 5.7):
Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.
Как кони ни бегут, мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж:
Все степь да степь, за нивой снова нива...
В отличие от предыдущего текста, здесь перечисляемые точки пространст-
ва однородны, более того, едва ли не тождественны. И хотя тут сохраняется
смысл передвижения, но меняется его темп — оно производит впечатление не-
подвижности или сильно замедленного движения. Одновременно происходят
изменения и в других аспектах: теряется представление об отправной и конеч-
ной точках пространства, а в результате и о направленности движения и про-
странства и его устремленности к цели. В итоге образуется иной, противопо-
ложный смысл 'неизменности' и 'бесконечности' Сами по себе эти категории
семантически безразличны — определенное значение они получают за счет ос-
тального контекста. В данном стихотворении они семантизируются как 'тоска,
грусть, безнадежность' Но в других контекстах могли бы интерпретироваться
как раз положительно (как 'ширь, покой, умиротворение'). Сравним хотя бы со
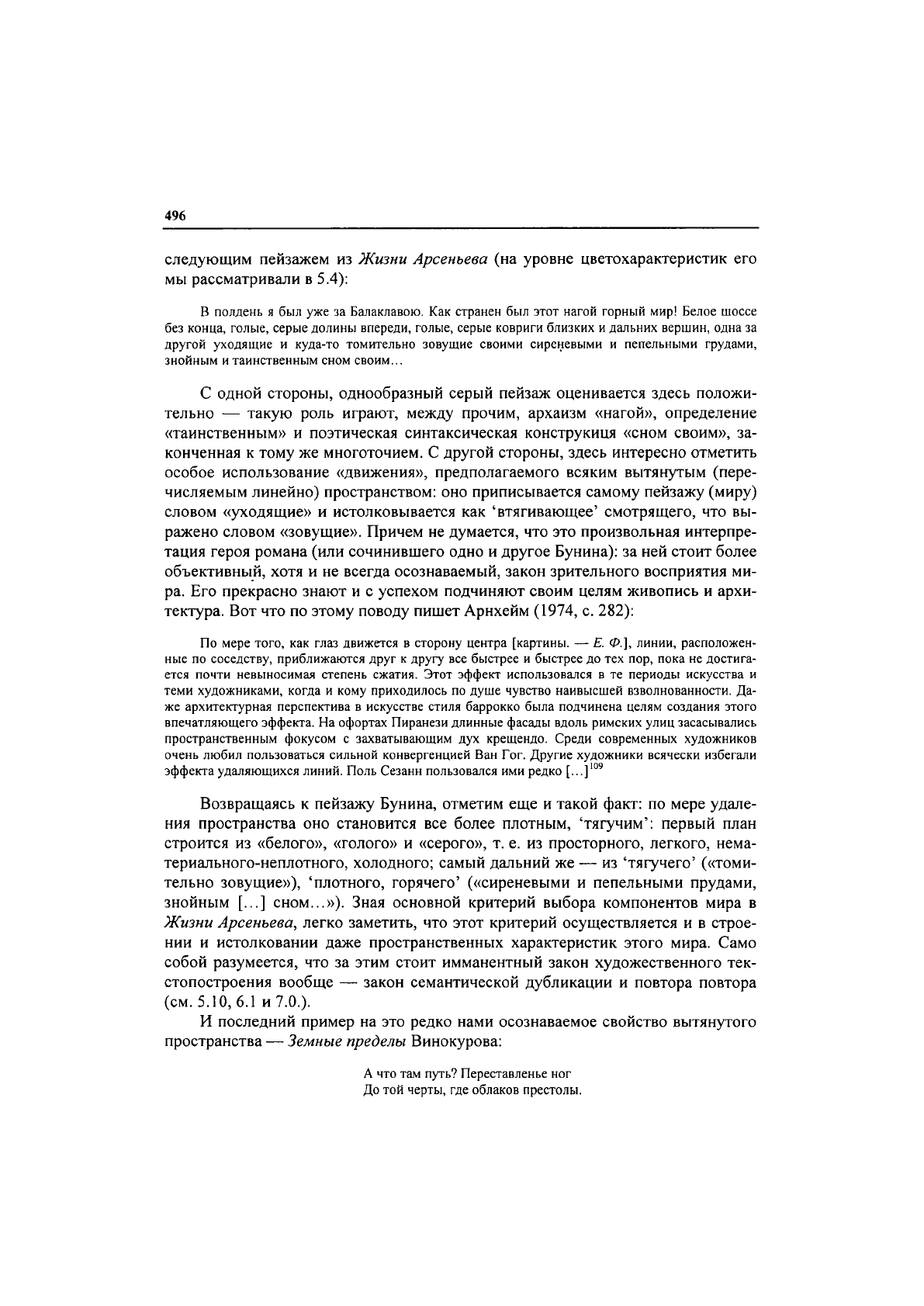
496
следующим пейзажем из Жизни Арсенъева (на уровне цветохарактеристик его
мы рассматривали в 5.4):
В полдень я был уже за Балаклавою. Как странен был этот нагой горный мир! Белое шоссе
без конца, голые, серые долины впереди, голые, серые ковриги близких и дальних вершин, одна за
другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами,
знойным и таинственным сном своим...
С одной стороны, однообразный серый пейзаж оценивается здесь положи-
тельно — такую роль играют, между прочим, архаизм «нагой», определение
«таинственным» и поэтическая синтаксическая конструкиця «сном своим», за-
конченная к тому же многоточием. С другой стороны, здесь интересно отметить
особое использование «движения», предполагаемого всяким вытянутым (пере-
числяемым линейно) пространством: оно приписывается самому пейзажу (миру)
словом «уходящие» и истолковывается как 'втягивающее' смотрящего, что вы-
ражено словом «зовущие». Причем не думается, что это произвольная интерпре-
тация героя романа (или сочинившего одно и другое Бунина): за ней стоит более
объективный, хотя и не всегда осознаваемый, закон зрительного восприятия ми-
ра. Его прекрасно знают и с успехом подчиняют своим целям живопись и архи-
тектура. Вот что по этому поводу пишет Арнхейм (1974, с. 282):
По мере того, как глаз движется в сторону центра [картины. — Е. Ф.], линии, расположен-
ные по соседству, приближаются друг к другу все быстрее и быстрее до тех пор, пока не достига-
ется почти невыносимая степень сжатия. Этот эффект использовался в те периоды искусства и
теми художниками, когда и кому приходилось по душе чувство наивысшей взволнованности. Да-
же архитектурная перспектива в искусстве стиля баррокко была подчинена целям создания этого
впечатляющего эффекта. На офортах Пиранези длинные фасады вдоль римских улиц засасывались
пространственным фокусом с захватывающим дух крещендо. Среди современных художников
очень любил пользоваться сильной конвергенцией Ван Гог. Другие художники всячески избегали
эффекта удаляющихся линий. Поль Сезанн пользовался ими редко [...]
109
Возвращаясь к пейзажу Бунина, отметим еще и такой факт: по мере удале-
ния пространства оно становится все более плотным, 'тягучим': первый план
строится из «белого», «голого» и «серого», т. е. из просторного, легкого, нема-
териального-неплотного, холодного; самый дальний же — из 'тягучего' («томи-
тельно зовущие»), 'плотного, горячего' («сиреневыми и пепельными прудами,
знойным [...] сном...»). Зная основной критерий выбора компонентов мира в
Жизни Арсенъева, легко заметить, что этот критерий осуществляется и в строе-
нии и истолковании даже пространственных характеристик этого мира. Само
собой разумеется, что за этим стоит имманентный закон художественного тек-
стопостроения вообще — закон семантической дубликации и повтора повтора
(см. 5.10, 6.1 и 7.О.).
И последний пример на это редко нами осознаваемое свойство вытянутого
пространства — Земные пределы Винокурова:
А что там путь? Переставленье ног
До той черты, где облаков престолы.
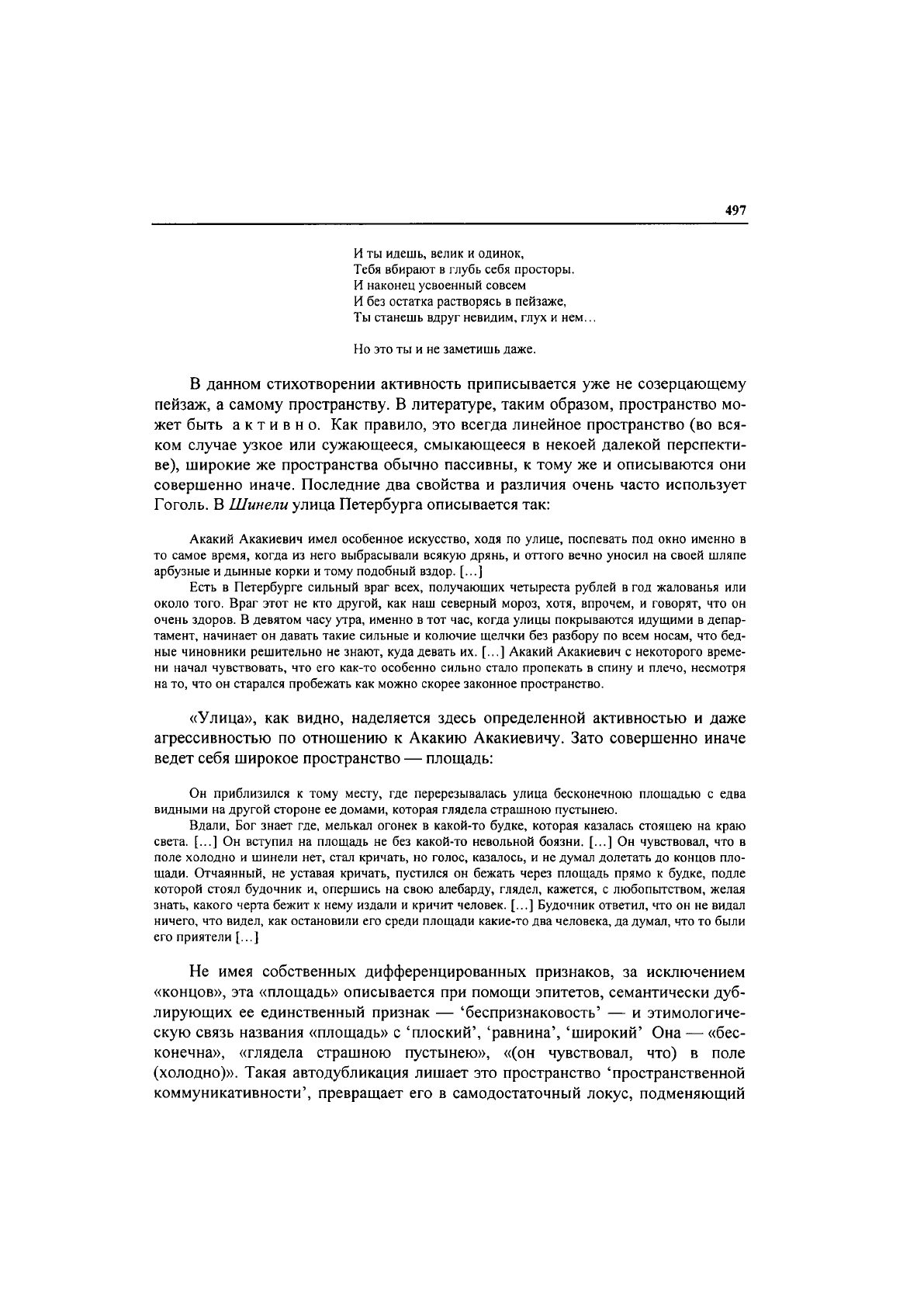
497
И ты идешь, велик и одинок,
Тебя вбирают в глубь себя просторы.
И наконец усвоенный совсем
И без остатка растворясь в пейзаже,
Ты станешь вдруг невидим, глух и нем...
Но это ты и не заметишь даже.
В данном стихотворении активность приписывается уже не созерцающему
пейзаж, а самому пространству. В литературе, таким образом, пространство мо-
жет быть активно. Как правило, это всегда линейное пространство (во вся-
ком случае узкое или сужающееся, смыкающееся в некоей далекой перспекти-
ве), широкие же пространства обычно пассивны, к тому же и описываются они
совершенно иначе. Последние два свойства и различия очень часто использует
Гоголь. В Шинели улица Петербурга описывается так:
Акакий Акакиевич имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в
то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе
арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. [...]
Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или
около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он
очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в депар-
тамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бед-
ные чиновники решительно не знают, куда девать их. [...] Акакий Акакиевич с некоторого време-
ни начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря
на то, что он старался пробежать как можно скорее законное пространство.
«Улица», как видно, наделяется здесь определенной активностью и даже
агрессивностью по отношению к Акакию Акакиевичу. Зато совершенно иначе
ведет себя широкое пространство — площадь:
Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва
видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.
Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоящею на краю
света. [...] Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни. [...] Он чувствовал, что в
поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов пло-
щади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле
которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая
знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. [...] Будочник ответил, что он не видал
ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были
его приятели [...]
Не имея собственных дифференцированных признаков, за исключением
«концов», эта «площадь» описывается при помощи эпитетов, семантически дуб-
лирующих ее единственный признак — 'беспризнаковость' — и этимологиче-
скую связь названия «площадь» с 'плоский', 'равнина', 'широкий' Она — «бес-
конечна», «глядела страшною пустынею», «(он чувствовал, что) в поле
(холодно)». Такая автодубликация лишает это пространство 'пространственной
коммуникативности', превращает его в самодостаточный локус, подменяющий
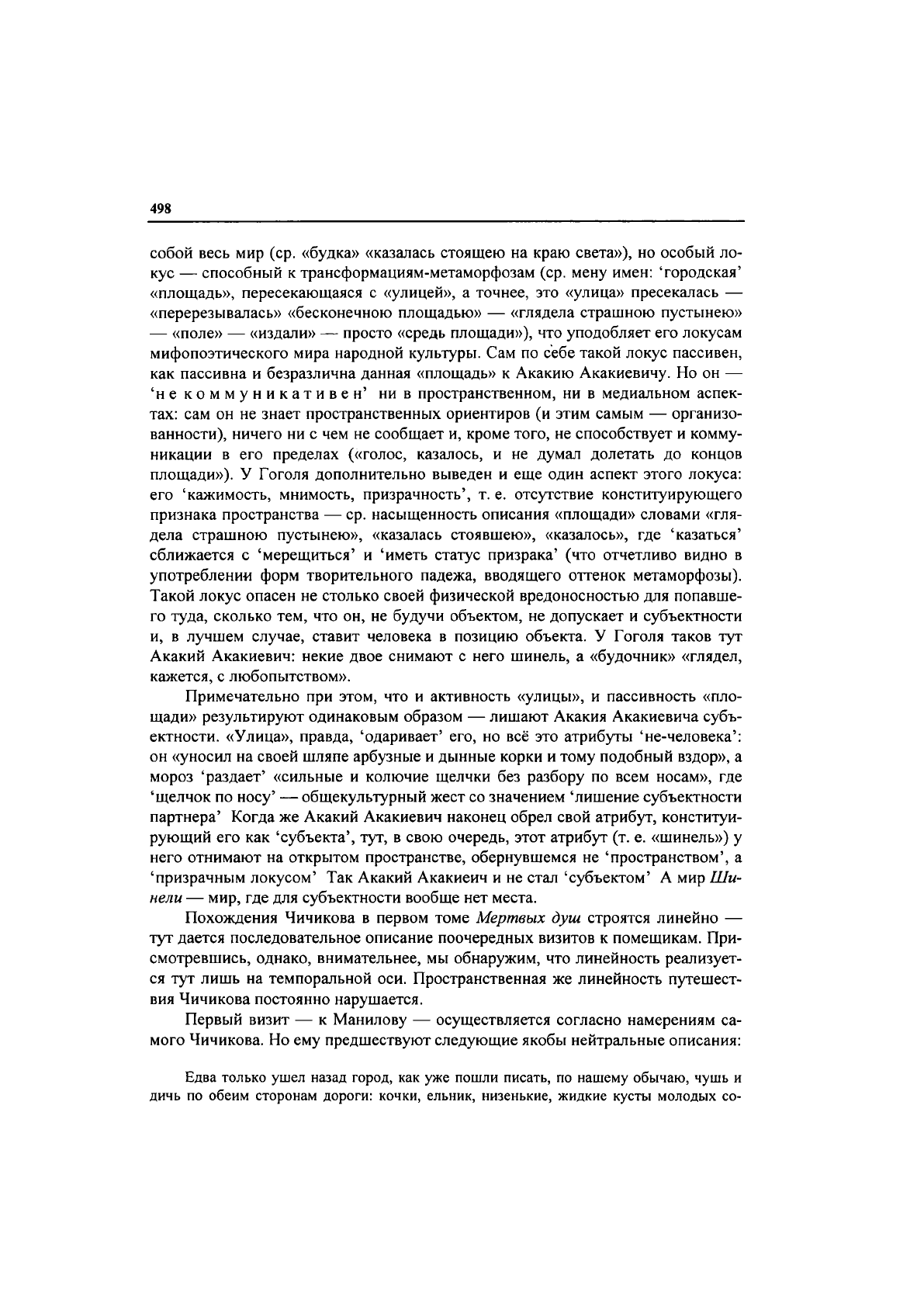
498
собой весь мир (ср. «будка» «казалась стоящею на краю света»), но особый ло-
кус — способный к трансформациям-метаморфозам (ср. мену имен: 'городская'
«площадь», пересекающаяся с «улицей», а точнее, это «улица» пресекалась —
«перерезывалась» «бесконечною площадью» — «глядела страшною пустынею»
— «поле» — «издали» — просто «средь площади»), что уподобляет его локусам
мифопоэтического мира народной культуры. Сам по себе такой локус пассивен,
как пассивна и безразлична данная «площадь» к Акакию Акакиевичу. Но он —
'не коммуникативен' ни в пространственном, ни в медиальном аспек-
тах: сам он не знает пространственных ориентиров (и этим самым — организо-
ванности), ничего ни с чем не сообщает и, кроме того, не способствует и комму-
никации в его пределах («голос, казалось, и не думал долетать до концов
площади»). У Гоголя дополнительно выведен и еще один аспект этого локуса:
его 'кажимость, мнимость, призрачность', т. е. отсутствие конституирующего
признака пространства — ср. насыщенность описания «площади» словами «гля-
дела страшною пустынею», «казалась стоявшею», «казалось», где 'казаться'
сближается с 'мерещиться' и 'иметь статус призрака' (что отчетливо видно в
употреблении форм творительного падежа, вводящего оттенок метаморфозы).
Такой локус опасен не столько своей физической вредоносностью для попавше-
го туда, сколько тем, что он, не будучи объектом, не допускает и субъектности
и, в лучшем случае, ставит человека в позицию объекта. У Гоголя таков тут
Акакий Акакиевич: некие двое снимают с него шинель, а «будочник» «глядел,
кажется, с любопытством».
Примечательно при этом, что и активность «улицы», и пассивность «пло-
щади» результируют одинаковым образом — лишают Акакия Акакиевича субъ-
ектности. «Улица», правда, 'одаривает' его, но всё это атрибуты 'не-человека':
он «уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор», а
мороз 'раздает' «сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам», где
'щелчок по носу' — общекультурный жест со значением 'лишение субъектности
партнера' Когда же Акакий Акакиевич наконец обрел свой атрибут, конституи-
рующий его как 'субъекта', тут, в свою очередь, этот атрибут (т. е. «шинель») у
него отнимают на открытом пространстве, обернувшемся не 'пространством', а
'призрачным локусом' Так Акакий Акакиеич и не стал 'субъектом' А мир Ши-
нели — мир, где для субъектности вообще нет места.
Похождения Чичикова в первом томе Мертвых душ строятся линейно —
тут дается последовательное описание поочередных визитов к помещикам. При-
смотревшись, однако, внимательнее, мы обнаружим, что линейность реализует-
ся тут лишь на темпоральной оси. Пространственная же линейность путешест-
вия Чичикова постоянно нарушается.
Первый визит — к Манилову — осуществляется согласно намерениям са-
мого Чичикова. Но ему предшествуют следующие якобы нейтральные описания:
Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и
дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие, жидкие кусты молодых со-
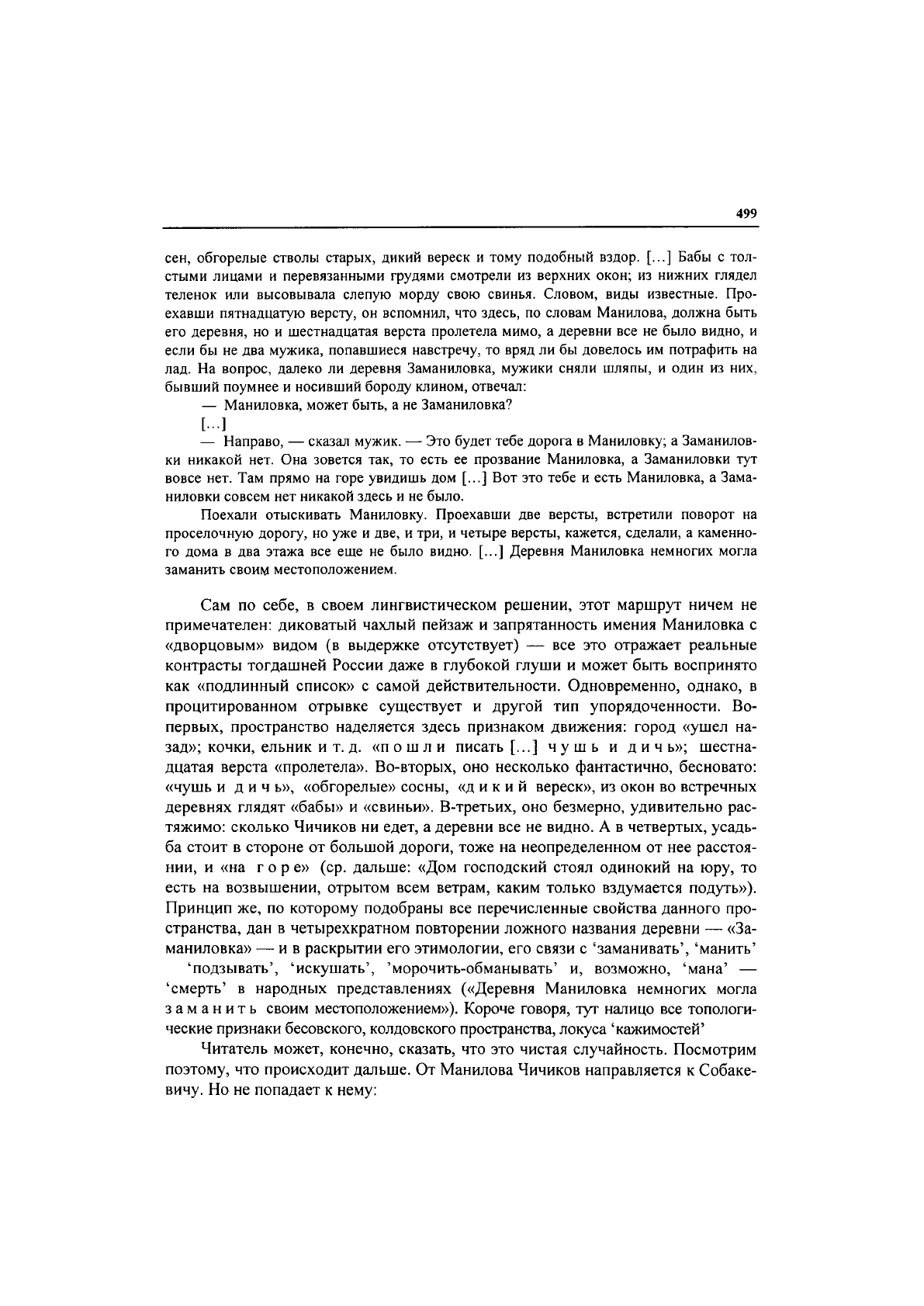
499
сен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. [...] Бабы с тол-
стыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел
теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Про-
ехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть
его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и
если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на
лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них,
бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:
— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?
[••]
— Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманилов-
ки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут
вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом [...] Вот это тебе и есть Маниловка, а Зама-
ниловки совсем нет никакой здесь и не было.
Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на
проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменно-
го дома в два этажа все еще не было видно. [...] Деревня Маниловка немногих могла
заманить своим местоположением.
Сам по себе, в своем лингвистическом решении, этот маршрут ничем не
примечателен: диковатый чахлый пейзаж и запрятанность имения Маниловка с
«дворцовым» видом (в выдержке отсутствует) — все это отражает реальные
контрасты тогдашней России даже в глубокой глуши и может быть воспринято
как «подлинный список» с самой действительности. Одновременно, однако, в
процитированном отрывке существует и другой тип упорядоченности. Во-
первых, пространство наделяется здесь признаком движения: город «ушел на-
зад»; кочки, ельник и т. д. «пошли писать [...] чушь и дичь»; шестна-
дцатая верста «пролетела». Во-вторых, оно несколько фантастично, бесновато:
«чушь и д и ч ь», «обгорелые» сосны, «дикий вереск», из окон во встречных
деревнях глядят «бабы» и «свиньи». В-третьих, оно безмерно, удивительно рас-
тяжимо: сколько Чичиков ни едет, а деревни все не видно. А в четвертых, усадь-
ба стоит в стороне от большой дороги, тоже на неопределенном от нее расстоя-
нии, и «на горе» (ср. дальше: «Дом господский стоял одинокий на юру, то
есть на возвышении, отрытом всем ветрам, каким только вздумается подуть»).
Принцип же, по которому подобраны все перечисленные свойства данного про-
странства, дан в четырехкратном повторении ложного названия деревни — «За-
маниловка» — ив раскрытии его этимологии, его связи с 'заманивать', 'манить'
'подзывать', 'искушать', 'морочить-обманывать' и, возможно, 'мана' —
'смерть' в народных представлениях («Деревня Маниловка немногих могла
заманить своим местоположением»). Короче говоря, тут налицо все топологи-
ческие признаки бесовского, колдовского пространства, локуса 'кажимостей'
Читатель может, конечно, сказать, что это чистая случайность. Посмотрим
поэтому, что происходит дальше. От Манилова Чичиков направляется к Собаке-
вичу. Но не попадает к нему:

500
Чичиков уже начал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету
его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз
выколи.
[-]
Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пре-
сильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги, и, вероятно, тащи-
лись по взборонованному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, на не говорил ни слова.
[...] Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выво-
ротил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь.
[...] Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ними сжалиться. Издали
послышался собачий лай. [...] Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до
забора, указавши нашим дорожным ворота. [...]
— Кто стучит? Чего расходились?
— Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков.
— Вишь ты, какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не
постоялый двор, помещица живет.
— Что ж делать, матушка: вишь с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.
— Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан.
Так Чичиков попадает к Коробочке. Казалось бы, что теперь-то он доедет и
до Собакевича: погода отличная, да и Коробочка дала ему провожатого. Но вы-
ясняется, что провожатый, девочка лет одиннадцати, не знает, где левая, а где
правая сторона. А кроме этого:
Хотя день был очемь хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, за-
хватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к
тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не
могли выбраться из проселков раньше полудня.
Попав на столбовую дорогу, они все-таки не едут дальше — останавлива-
ются в трактире, где встречают Ноздрева. Визит к Собакевичу на некоторое
время снова отменяется. От Ноздрева Чичиков почти бежит, и сам Чичиков, и
Селифан, и даже кони — «все были недовольны».
Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем не-
ожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда,
когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздался крик сидя-
щих в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера [...].
Однако это происшествие кончается уже благополучно: Чичиков никуда
уже не сворачивает и едет прямо к первоначальной цели своего путешествия —
к Собакевичу.
В принципе мы здесь наблюдаем типичную схему приключенческого рома-
на — отклонения от намеченного пути диктуются непредвиденными обстоя-
тельствами. Но если в авантюрном, приключенческом романе на первый план
выдвигаются именно эти обстоятельства, а промежуточные «нормальные» (ни-
чем не возмущенные) состояния играют роль лишь связующих звеньев и почти
вовсе не рассказываются (они, в порядке связок, лишь бегло излагаются — ср.
хотя бы Тома Джонса), то в Мертвых душах пропорции меняются: дорожные
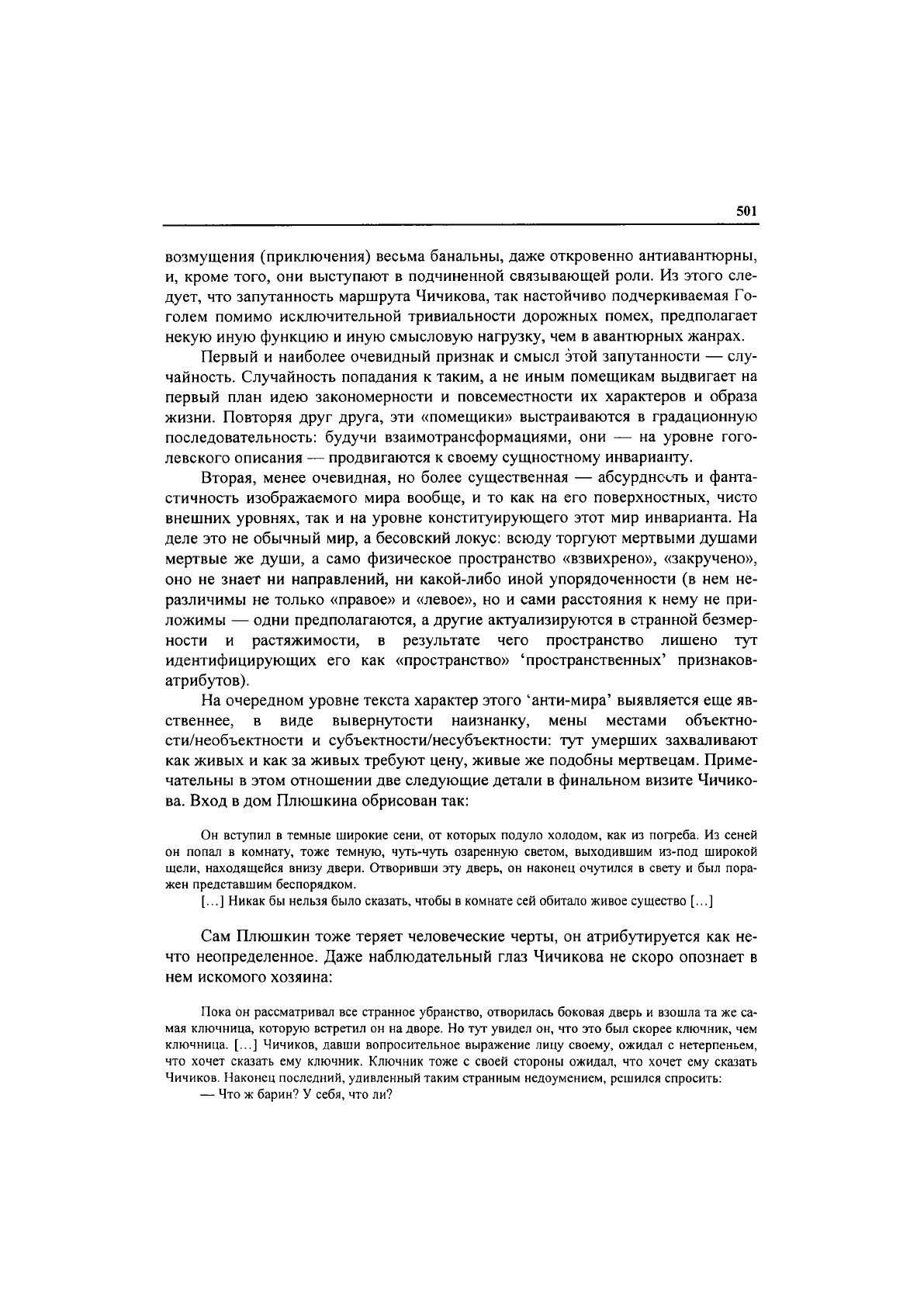
501
возмущения (приключения) весьма банальны, даже откровенно антиавантюрны,
и, кроме того, они выступают в подчиненной связывающей роли. Из этого сле-
дует, что запутанность маршрута Чичикова, так настойчиво подчеркиваемая Го-
голем помимо исключительной тривиальности дорожных помех, предполагает
некую иную функцию и иную смысловую нагрузку, чем в авантюрных жанрах.
Первый и наиболее очевидный признак и смысл этой запутанности — слу-
чайность. Случайность попадания к таким, а не иным помещикам выдвигает на
первый план идею закономерности и повсеместности их характеров и образа
жизни. Повторяя друг друга, эти «помещики» выстраиваются в градационную
последовательность: будучи взаимотрансформациями, они — на уровне гого-
левского описания — продвигаются к своему сущностному инварианту.
Вторая, менее очевидная, но более существенная — абсурдность и фанта-
стичность изображаемого мира вообще, и то как на его поверхностных, чисто
внешних уровнях, так и на уровне конституирующего этот мир инварианта. На
деле это не обычный мир, а бесовский локус: всюду торгуют мертвыми душами
мертвые же души, а само физическое пространство «взвихрено», «закручено»,
оно не знает ни направлений, ни какой-либо иной упорядоченности (в нем не-
различимы не только «правое» и «левое», но и сами расстояния к нему не при-
ложимы — одни предполагаются, а другие актуализируются в странной безмер-
ности и растяжимости, в результате чего пространство лишено тут
идентифицирующих его как «пространство» 'пространственных' признаков-
атрибутов).
На очередном уровне текста характер этого 'анти-мира' выявляется еще яв-
ственнее, в виде вывернутости наизнанку, мены местами объектно-
сти/необъектности и субъектности/несубъектности: тут умерших захваливают
как живых и как за живых требуют цену, живые же подобны мертвецам. Приме-
чательны в этом отношении две следующие детали в финальном визите Чичико-
ва. Вход в дом Плюшкина обрисован так:
Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней
он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой
щели, находящейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был пора-
жен представшим беспорядком.
[...] Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо [...]
Сам Плюшкин тоже теряет человеческие черты, он атрибутируется как не-
что неопределенное. Даже наблюдательный глаз Чичикова не скоро опознает в
нем искомого хозяина:
Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же са-
мая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем
ключница. [...] Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем,
что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать
Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:
— Что ж барин? У себя, что ли?
