Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

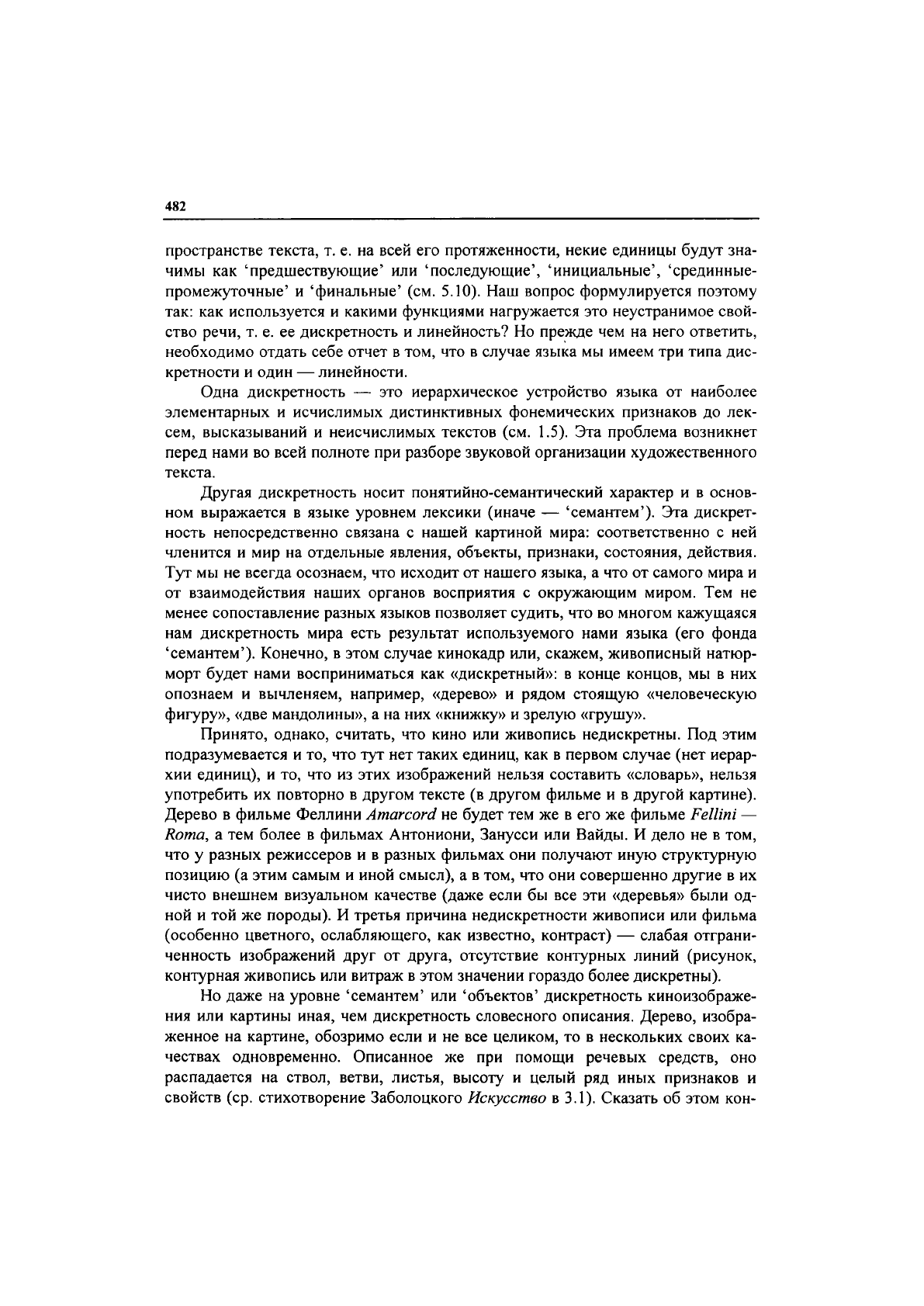
482
пространстве текста, т. е. на всей его протяженности, некие единицы будут зна-
чимы как 'предшествующие' или 'последующие', 'инициальные', 'срединные-
промежуточные' и 'финальные' (см. 5.10). Наш вопрос формулируется поэтому
так: как используется и какими функциями нагружается это неустранимое свой-
ство речи, т. е. ее дискретность и линейность? Но прежде чем на него ответить,
необходимо отдать себе отчет в том, что в случае языка мы имеем три типа дис-
кретности и один — линейности.
Одна дискретность — это иерархическое устройство языка от наиболее
элементарных и исчислимых дистинктивных фонемических признаков до лек-
сем, высказываний и неисчислимых текстов (см. 1.5). Эта проблема возникнет
перед нами во всей полноте при разборе звуковой организации художественного
текста.
Другая дискретность носит понятийно-семантический характер и в основ-
ном выражается в языке уровнем лексики (иначе — 'семантем'). Эта дискрет-
ность непосредственно связана с нашей картиной мира: соответственно с ней
членится и мир на отдельные явления, объекты, признаки, состояния, действия.
Тут мы не всегда осознаем, что исходит от нашего языка, а что от самого мира и
от взаимодействия наших органов восприятия с окружающим миром. Тем не
менее сопоставление разных языков позволяет судить, что во многом кажущаяся
нам дискретность мира есть результат используемого нами языка (его фонда
'семантем'). Конечно, в этом случае кинокадр или, скажем, живописный натюр-
морт будет нами восприниматься как «дискретный»: в конце концов, мы в них
опознаем и вычленяем, например, «дерево» и рядом стоящую «человеческую
фигуру», «две мандолины», а на них «книжку» и зрелую «грушу».
Принято, однако, считать, что кино или живопись недискретны. Под этим
подразумевается и то, что тут нет таких единиц, как в первом случае (нет иерар-
хии единиц), и то, что из этих изображений нельзя составить «словарь», нельзя
употребить их повторно в другом тексте (в другом фильме и в другой картине).
Дерево в фильме Феллини Amarcord не будет тем же в его же фильме Fellini —
Roma, а тем более в фильмах Антониони, Занусси или Вайды. И дело не в том,
что у разных режиссеров и в разных фильмах они получают иную структурную
позицию (а этим самым и иной смысл), а в том, что они совершенно другие в их
чисто внешнем визуальном качестве (даже если бы все эти «деревья» были од-
ной и той же породы). И третья причина недискретности живописи или фильма
(особенно цветного, ослабляющего, как известно, контраст) — слабая ограни-
ченность изображений друг от друга, отсутствие контурных линий (рисунок,
контурная живопись или витраж в этом значении гораздо более дискретны).
Но даже на уровне 'семантем' или 'объектов' дискретность киноизображе-
ния или картины иная, чем дискретность словесного описания. Дерево, изобра-
женное на картине, обозримо если и не все целиком, то в нескольких своих ка-
чествах одновременно. Описанное же при помощи речевых средств, оно
распадается на ствол, ветви, листья, высоту и целый ряд иных признаков и
свойств (ср. стихотворение Заболоцкого Искусство в 3.1). Сказать об этом кон-
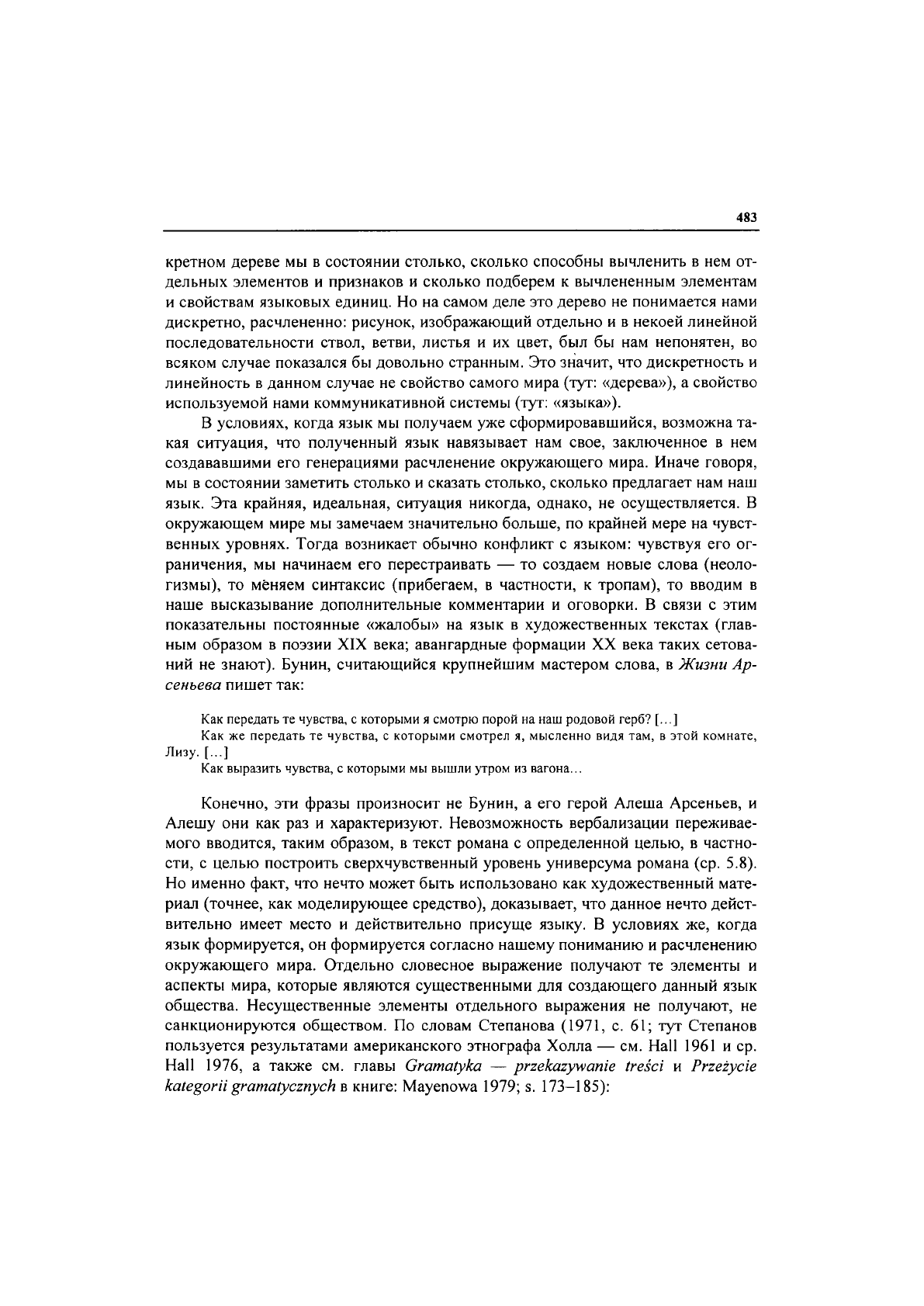
483
кретном дереве мы в состоянии столько, сколько способны вычленить в нем от-
дельных элементов и признаков и сколько подберем к вычлененным элементам
и свойствам языковых единиц. Но на самом деле это дерево не понимается нами
дискретно, расчлененно: рисунок, изображающий отдельно и в некоей линейной
последовательности ствол, ветви, листья и их цвет, был бы нам непонятен, во
всяком случае показался бы довольно странным. Это значит, что дискретность и
линейность в данном случае не свойство самого мира (тут: «дерева»), а свойство
используемой нами коммуникативной системы (тут: «языка»).
В условиях, когда язык мы получаем уже сформировавшийся, возможна та-
кая ситуация, что полученный язык навязывает нам свое, заключенное в нем
создававшими его генерациями расчленение окружающего мира. Иначе говоря,
мы в состоянии заметить столько и сказать столько, сколько предлагает нам наш
язык. Эта крайняя, идеальная, ситуация никогда, однако, не осуществляется. В
окружающем мире мы замечаем значительно больше, по крайней мере на чувст-
венных уровнях. Тогда возникает обычно конфликт с языком: чувствуя его ог-
раничения, мы начинаем его перестраивать — то создаем новые слова (неоло-
гизмы), то меняем синтаксис (прибегаем, в частности, к тропам), то вводим в
наше высказывание дополнительные комментарии и оговорки. В связи с этим
показательны постоянные «жалобы» на язык в художественных текстах (глав-
ным образом в поэзии XIX века; авангардные формации XX века таких сетова-
ний не знают). Бунин, считающийся крупнейшим мастером слова, в Жизни Ар-
сенъева пишет так:
Как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? [...]
Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате,
Лизу. [...]
Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона...
Конечно, эти фразы произносит не Бунин, а его герой Алеша Арсеньев, и
Алешу они как раз и характеризуют. Невозможность вербализации переживае-
мого вводится, таким образом, в текст романа с определенной целью, в частно-
сти, с целью построить сверхчувственный уровень универсума романа (ср. 5.8).
Но именно факт, что нечто может быть использовано как художественный мате-
риал (точнее, как моделирующее средство), доказывает, что данное нечто дейст-
вительно имеет место и действительно присуще языку. В условиях же, когда
язык формируется, он формируется согласно нашему пониманию и расчленению
окружающего мира. Отдельно словесное выражение получают те элементы и
аспекты мира, которые являются существенными для создающего данный язык
общества. Несущественные элементы отдельного выражения не получают, не
санкционируются обществом. По словам Степанова (1971, с. 61; тут Степанов
пользуется результатами американского этнографа Холла — см. Hall 1961 и ср.
Hall 1976, а также см. главы Gramatyka — przekazywanie treści и Przeżycie
kategorii gramatycznych в книге: Mayenowa 1979; s. 173-185):
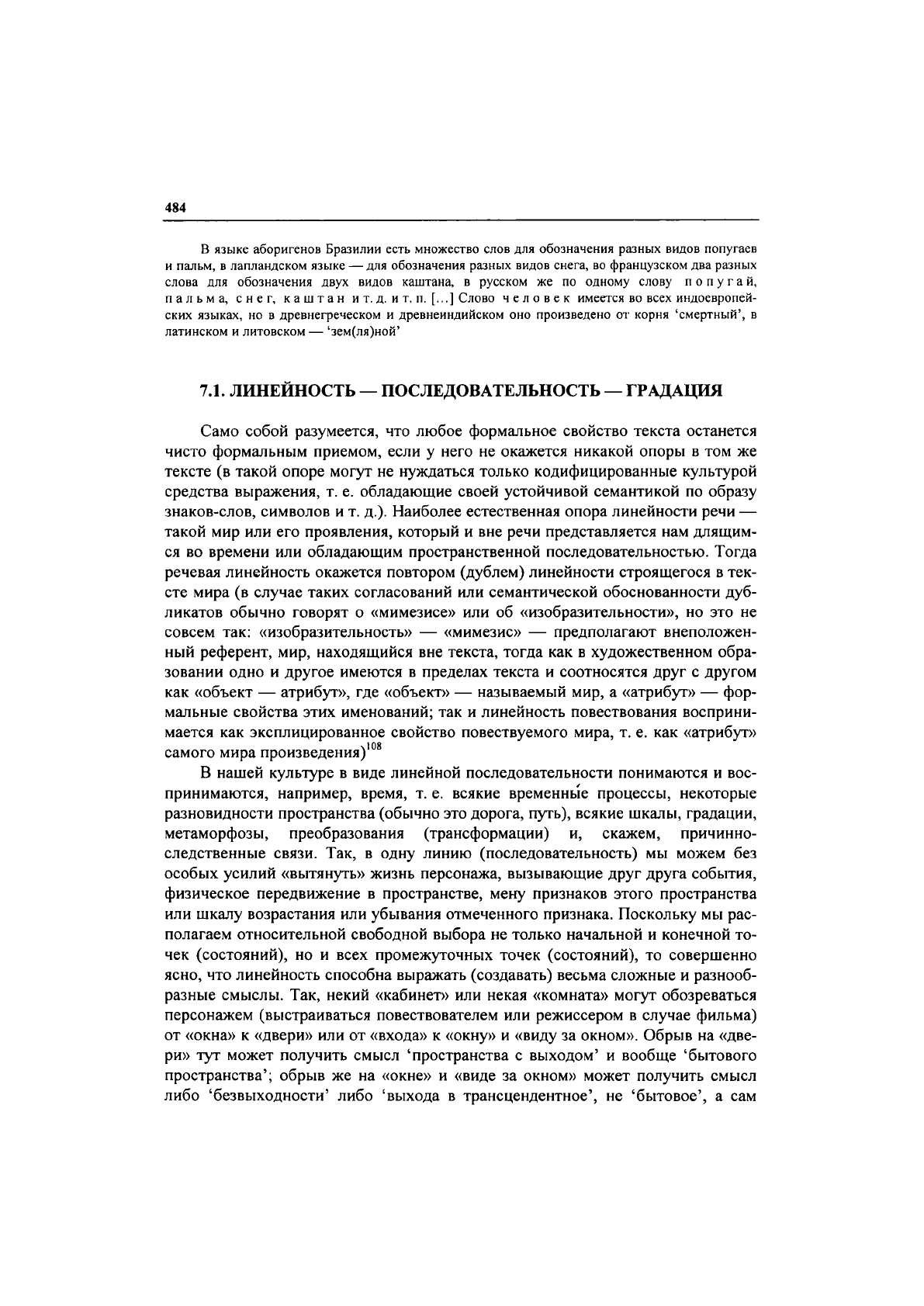
484
В языке аборигенов Бразилии есть множество слов для обозначения разных видов попугаев
и пальм, в лапландском языке — для обозначения разных видов снега, во французском два разных
слова для обозначения двух видов каштана, в русском же по одному слову попугай,
пальма, снег, каштан и т. д. и т. п. [...] Слово человек имеется во всех индоевропей-
ских языках, но в древнегреческом и древнеиндийском оно произведено от корня 'смертный', в
латинском и литовском — 'зем(ля)ной'
7.1. ЛИНЕЙНОСТЬ — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ГРАДАЦИЯ
Само собой разумеется, что любое формальное свойство текста останется
чисто формальным приемом, если у него не окажется никакой опоры в том же
тексте (в такой опоре могут не нуждаться только кодифицированные культурой
средства выражения, т. е. обладающие своей устойчивой семантикой по образу
знаков-слов, символов и т. д.). Наиболее естественная опора линейности речи —
такой мир или его проявления, который и вне речи представляется нам длящим-
ся во времени или обладающим пространственной последовательностью. Тогда
речевая линейность окажется повтором (дублем) линейности строящегося в тек-
сте мира (в случае таких согласований или семантической обоснованности дуб-
ликатов обычно говорят о «мимезисе» или об «изобразительности», но это не
совсем так: «изобразительность» — «мимезис» — предполагают внеположен-
ный референт, мир, находящийся вне текста, тогда как в художественном обра-
зовании одно и другое имеются в пределах текста и соотносятся друг с другом
как «объект — атрибут», где «объект» — называемый мир, а «атрибут» — фор-
мальные свойства этих именований; так и линейность повествования восприни-
мается как эксплицированное свойство повествуемого мира, т. е. как «атрибут»
самого мира произведения)
108
В нашей культуре в виде линейной последовательности понимаются и вос-
принимаются, например, время, т. е. всякие временные процессы, некоторые
разновидности пространства (обычно это дорога, путь), всякие шкалы, градации,
метаморфозы, преобразования (трансформации) и, скажем, причинно-
следственные связи. Так, в одну линию (последовательность) мы можем без
особых усилий «вытянуть» жизнь персонажа, вызывающие друг друга события,
физическое передвижение в пространстве, мену признаков этого пространства
или шкалу возрастания или убывания отмеченного признака. Поскольку мы рас-
полагаем относительной свободной выбора не только начальной и конечной то-
чек (состояний), но и всех промежуточных точек (состояний), то совершенно
ясно, что линейность способна выражать (создавать) весьма сложные и разнооб-
разные смыслы. Так, некий «кабинет» или некая «комната» могут обозреваться
персонажем (выстраиваться повествователем или режиссером в случае фильма)
от «окна» к «двери» или от «входа» к «окну» и «виду за окном». Обрыв на «две-
ри» тут может получить смысл 'пространства с выходом' и вообще 'бытового
пространства'; обрыв же на «окне» и «виде за окном» может получить смысл
либо 'безвыходности' либо 'выхода в трансцендентное', не 'бытовое', а сам
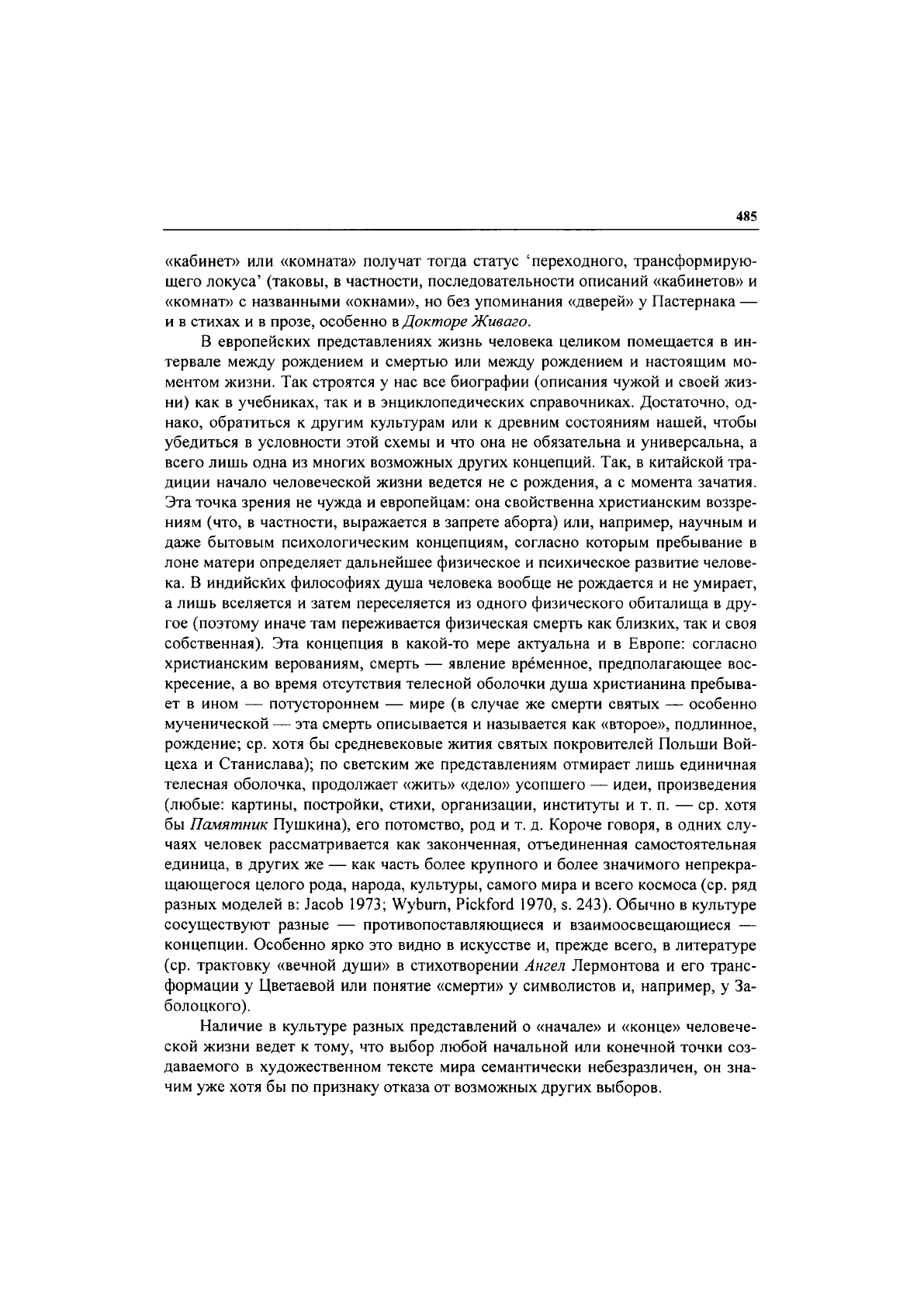
485
«кабинет» или «комната» получат тогда статус 'переходного, трансформирую-
щего локуса' (таковы, в частности, последовательности описаний «кабинетов» и
«комнат» с названными «окнами», но без упоминания «дверей» у Пастернака —
и в стихах и в прозе, особенно в Докторе Живаго.
В европейских представлениях жизнь человека целиком помещается в ин-
тервале между рождением и смертью или между рождением и настоящим мо-
ментом жизни. Так строятся у нас все биографии (описания чужой и своей жиз-
ни) как в учебниках, так и в энциклопедических справочниках. Достаточно, од-
нако, обратиться к другим культурам или к древним состояниям нашей, чтобы
убедиться в условности этой схемы и что она не обязательна и универсальна, а
всего лишь одна из многих возможных других концепций. Так, в китайской тра-
диции начало человеческой жизни ведется не с рождения, а с момента зачатия.
Эта точка зрения не чужда и европейцам: она свойственна христианским воззре-
ниям (что, в частности, выражается в запрете аборта) или, например, научным и
даже бытовым психологическим концепциям, согласно которым пребывание в
лоне матери определяет дальнейшее физическое и психическое развитие челове-
ка. В индийских философиях душа человека вообще не рождается и не умирает,
а лишь вселяется и затем переселяется из одного физического обиталища в дру-
гое (поэтому иначе там переживается физическая смерть как близких, так и своя
собственная). Эта концепция в какой-то мере актуальна и в Европе: согласно
христианским верованиям, смерть — явление временное, предполагающее вос-
кресение, а во время отсутствия телесной оболочки душа христианина пребыва-
ет в ином — потустороннем — мире (в случае же смерти святых — особенно
мученической — эта смерть описывается и называется как «второе», подлинное,
рождение; ср. хотя бы средневековые жития святых покровителей Польши Вой-
цеха и Станислава); по светским же представлениям отмирает лишь единичная
телесная оболочка, продолжает «жить» «дело» усопшего — идеи, произведения
(любые: картины, постройки, стихи, организации, институты и т. п. — ср. хотя
бы Памятник Пушкина), его потомство, род и т. д. Короче говоря, в одних слу-
чаях человек рассматривается как законченная, отъединенная самостоятельная
единица, в других же — как часть более крупного и более значимого непрекра-
щающегося целого рода, народа, культуры, самого мира и всего космоса (ср. ряд
разных моделей в: Jacob 1973; Wyburn, Pickford 1970, s. 243). Обычно в культуре
сосуществуют разные — противопоставляющиеся и взаимоосвещающиеся —
концепции. Особенно ярко это видно в искусстве и, прежде всего, в литературе
(ср. трактовку «вечной души» в стихотворении Ангел Лермонтова и его транс-
формации у Цветаевой или понятие «смерти» у символистов и, например, у За-
болоцкого).
Наличие в культуре разных представлений о «начале» и «конце» человече-
ской жизни ведет к тому, что выбор любой начальной или конечной точки соз-
даваемого в художественном тексте мира семантически небезразличен, он зна-
чим уже хотя бы по признаку отказа от возможных других выборов.
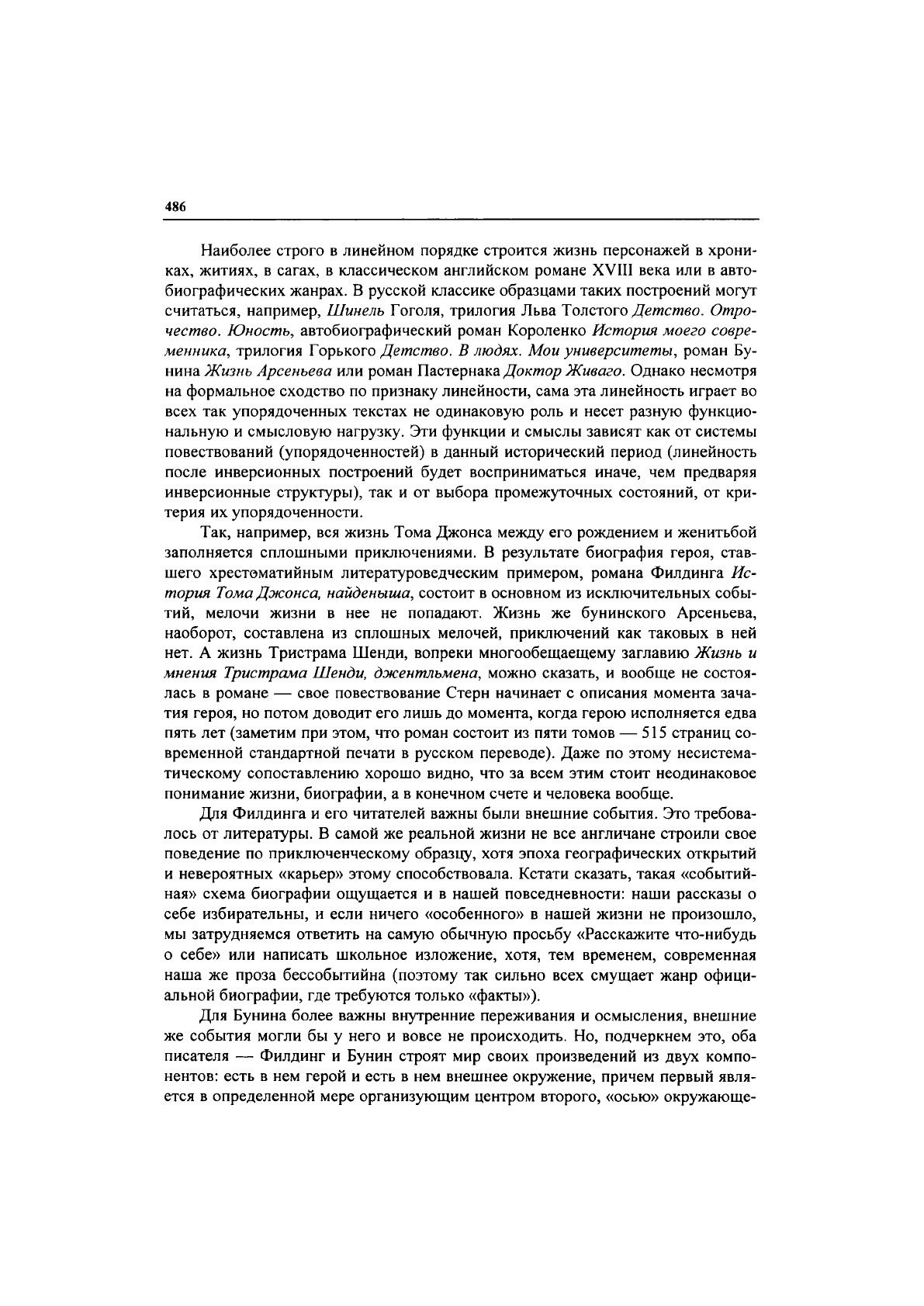
486
Наиболее строго в линейном порядке строится жизнь персонажей в хрони-
ках, житиях, в сагах, в классическом английском романе XVIII века или в авто-
биографических жанрах. В русской классике образцами таких построений могут
считаться, например, Шинель Гоголя, трилогия Льва Толстого Детство. Отро-
чество. Юность, автобиографический роман Короленко История моего совре-
менникаг, трилогия Горького Детство. В людях. Мои университеты, роман Бу-
нина Жизнь Арсеньева или роман Пастернака Доктор Живаго. Однако несмотря
на формальное сходство по признаку линейности, сама эта линейность играет во
всех так упорядоченных текстах не одинаковую роль и несет разную функцио-
нальную и смысловую нагрузку. Эти функции и смыслы зависят как от системы
повествований (упорядоченностей) в данный исторический период (линейность
после инверсионных построений будет восприниматься иначе, чем предваряя
инверсионные структуры), так и от выбора промежуточных состояний, от кри-
терия их упорядоченности.
Так, например, вся жизнь Тома Джонса между его рождением и женитьбой
заполняется сплошными приключениями. В результате биография героя, став-
шего хрестоматийным литературоведческим примером, романа Филдинга Ис-
тория Тома Джонса, найденыша, состоит в основном из исключительных собы-
тий, мелочи жизни в нее не попадают. Жизнь же бунинского Арсеньева,
наоборот, составлена из сплошных мелочей, приключений как таковых в ней
нет. А жизнь Тристрама Шенди, вопреки многообещаещему заглавию Жизнь и
мнения Тристрама Шенди, джентльмена, можно сказать, и вообще не состоя-
лась в романе — свое повествование Стерн начинает с описания момента зача-
тия героя, но потом доводит его лишь до момента, когда герою исполняется едва
пять лет (заметим при этом, что роман состоит из пяти томов — 515 страниц со-
временной стандартной печати в русском переводе). Даже по этому несистема-
тическому сопоставлению хорошо видно, что за всем этим стоит неодинаковое
понимание жизни, биографии, а в конечном счете и человека вообще.
Для Филдинга и его читателей важны были внешние события. Это требова-
лось от литературы. В самой же реальной жизни не все англичане строили свое
поведение по приключенческому образцу, хотя эпоха географических открытий
и невероятных «карьер» этому способствовала. Кстати сказать, такая «событий-
ная» схема биографии ощущается и в нашей повседневности: наши рассказы о
себе избирательны, и если ничего «особенного» в нашей жизни не произошло,
мы затрудняемся ответить на самую обычную просьбу «Расскажите что-нибудь
о себе» или написать школьное изложение, хотя, тем временем, современная
наша же проза бессобытийна (поэтому так сильно всех смущает жанр офици-
альной биографии, где требуются только «факты»).
Для Бунина более важны внутренние переживания и осмысления, внешние
же события могли бы у него и вовсе не происходить. Но, подчеркнем это, оба
писателя — Филдинг и Бунин строят мир своих произведений из двух компо-
нентов: есть в нем герой и есть в нем внешнее окружение, причем первый явля-
ется в определенной мере организующим центром второго, «осью» окружающе-
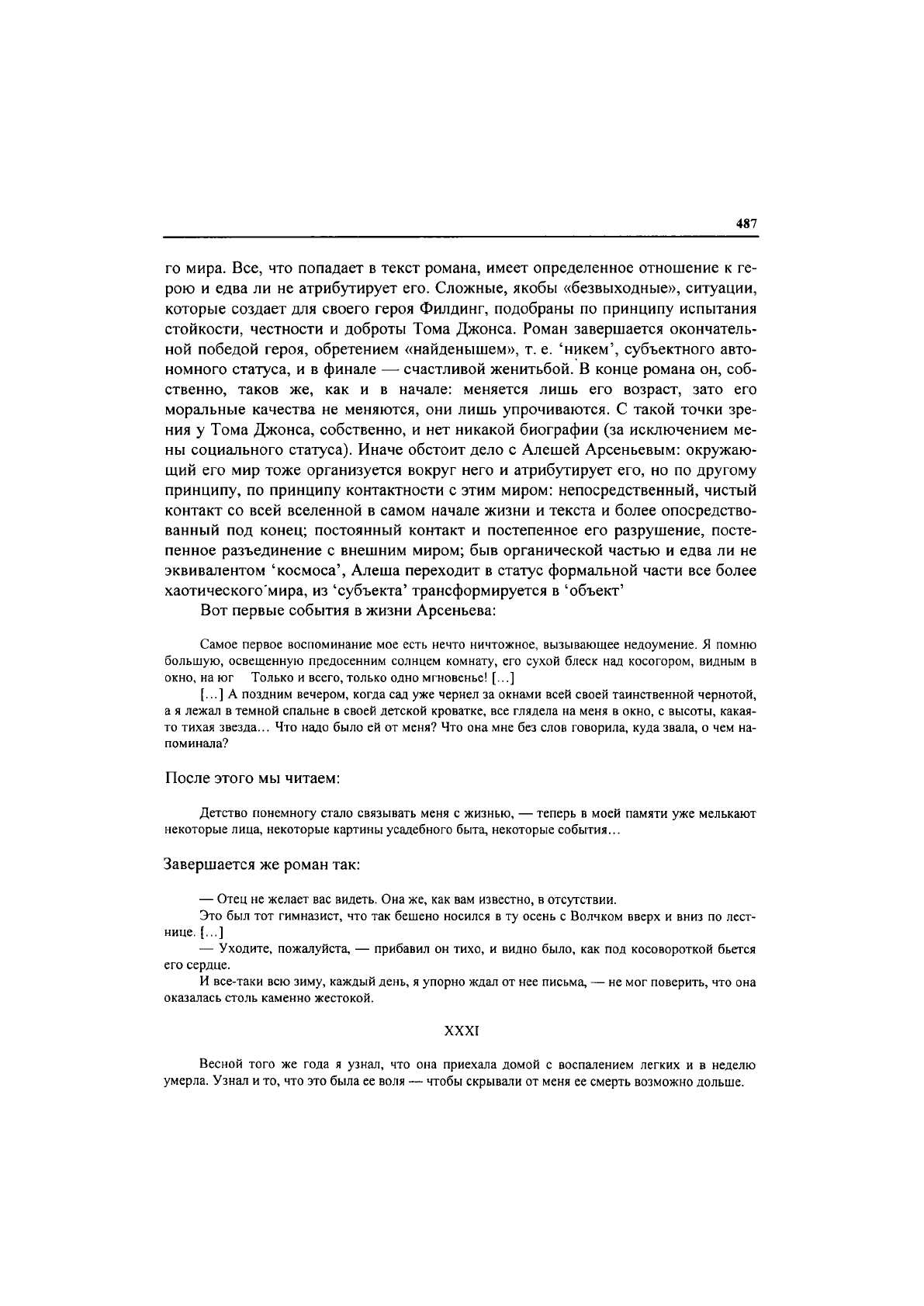
487
го мира. Все, что попадает в текст романа, имеет определенное отношение к ге-
рою и едва ли не атрибутирует его. Сложные, якобы «безвыходные», ситуации,
которые создает для своего героя Филдинг, подобраны по принципу испытания
стойкости, честности и доброты Тома Джонса. Роман завершается окончатель-
ной победой героя, обретением «найденышем», т. е. 'никем', субъектного авто-
номного статуса, и в финале — счастливой женитьбой. В конце романа он, соб-
ственно, таков же, как и в начале: меняется лишь его возраст, зато его
моральные качества не меняются, они лишь упрочиваются. С такой точки зре-
ния у Тома Джонса, собственно, и нет никакой биографии (за исключением ме-
ны социального статуса). Иначе обстоит дело с Алешей Арсеньевым: окружаю-
щий его мир тоже организуется вокруг него и атрибутирует его, но по другому
принципу, по принципу контактности с этим миром: непосредственный, чистый
контакт со всей вселенной в самом начале жизни и текста и более опосредство-
ванный под конец; постоянный контакт и постепенное его разрушение, посте-
пенное разъединение с внешним миром; быв органической частью и едва ли не
эквивалентом 'космоса', Алеша переходит в статус формальной части все более
хаотического'мира, из 'субъекта' трансформируется в 'объект'
Вот первые события в жизни Арсеньева:
Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню
большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в
окно, на юг Только и всего, только одно мгновенье! [...]
[...] А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной чернотой,
а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-
то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем на-
поминала?
После этого мы читаем:
Детство понемногу стало связывать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают
некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...
Завершается же роман так:
— Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии.
Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с Волчком вверх и вниз по лест-
нице. [...]
— Уходите, пожалуйста, — прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется
его сердце.
И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, — не мог поверить, что она
оказалась столь каменно жестокой.
XXXI
Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю
умерла. Узнал и то, что это была ее воля — чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше.
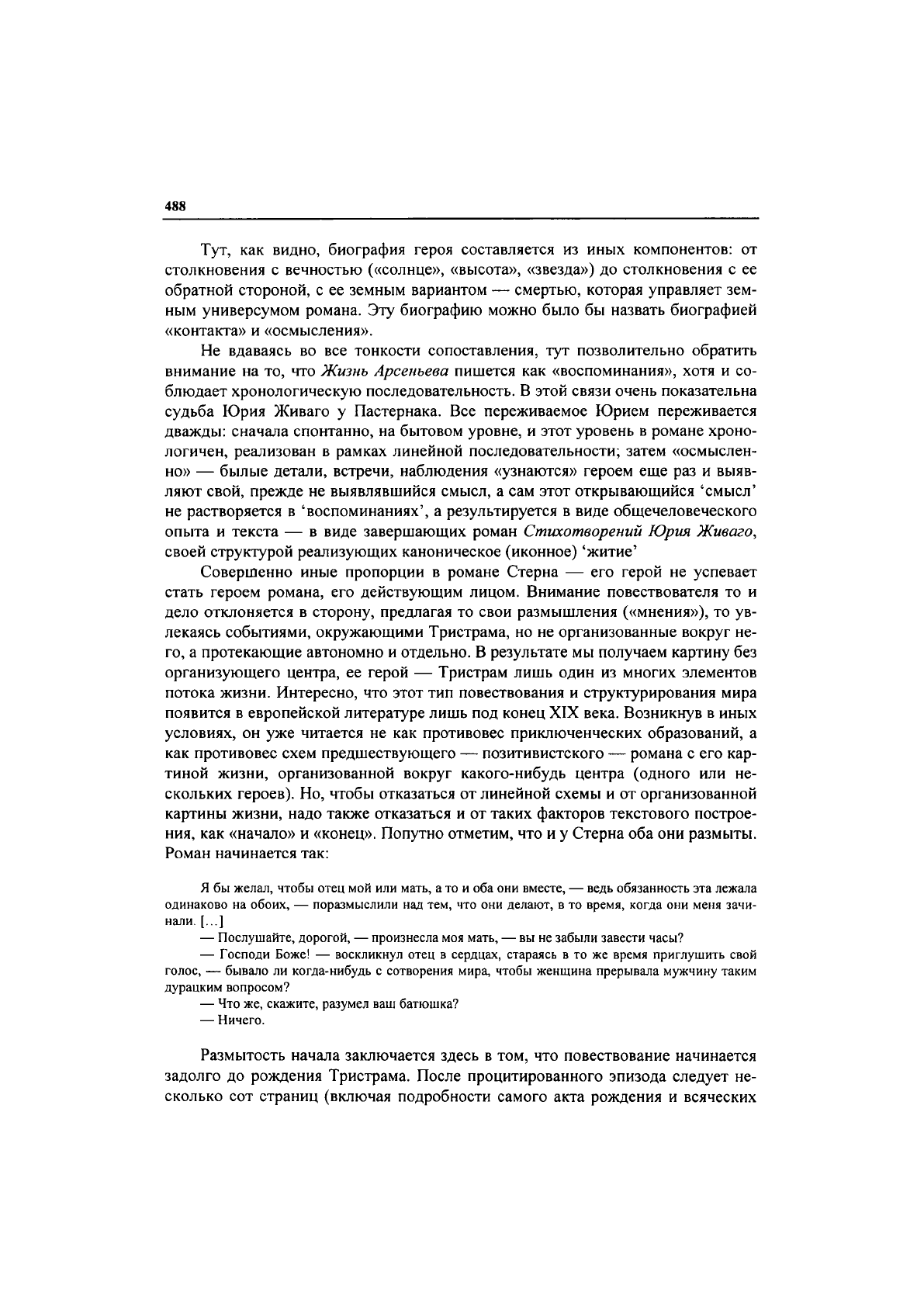
488
Тут, как видно, биография героя составляется из иных компонентов: от
столкновения с вечностью («солнце», «высота», «звезда») до столкновения с ее
обратной стороной, с ее земным вариантом — смертью, которая управляет зем-
ным универсумом романа. Эту биографию можно было бы назвать биографией
«контакта» и «осмысления».
Не вдаваясь во все тонкости сопоставления, тут позволительно обратить
внимание на то, что Жизнь Арсенъева пишется как «воспоминания», хотя и со-
блюдает хронологическую последовательность. В этой связи очень показательна
судьба Юрия Живаго у Пастернака. Все переживаемое Юрием переживается
дважды: сначала спонтанно, на бытовом уровне, и этот уровень в романе хроно-
логичен, реализован в рамках линейной последовательности; затем «осмыслен-
но» — былые детали, встречи, наблюдения «узнаются» героем еще раз и выяв-
ляют свой, прежде не выявлявшийся смысл, а сам этот открывающийся 'смысл'
не растворяется в 'воспоминаниях', а результируется в виде общечеловеческого
опыта и текста — в виде завершающих роман Стихотворений Юрия Живаго,
своей структурой реализующих каноническое (иконное) 'житие'
Совершенно иные пропорции в романе Стерна — его герой не успевает
стать героем романа, его действующим лицом. Внимание повествователя то и
дело отклоняется в сторону, предлагая то свои размышления («мнения»), то ув-
лекаясь событиями, окружающими Тристрама, но не организованные вокруг не-
го, а протекающие автономно и отдельно. В результате мы получаем картину без
организующего центра, ее герой — Тристрам лишь один из многих элементов
потока жизни. Интересно, что этот тип повествования и структурирования мира
появится в европейской литературе лишь под конец XIX века. Возникнув в иных
условиях, он уже читается не как противовес приключенческих образований, а
как противовес схем предшествующего — позитивистского — романа с его кар-
тиной жизни, организованной вокруг какого-нибудь центра (одного или не-
скольких героев). Но, чтобы отказаться от линейной схемы и от организованной
картины жизни, надо также отказаться и от таких факторов текстового построе-
ния, как «начало» и «конец». Попутно отметим, что и у Стерна оба они размыты.
Роман начинается так:
Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, — ведь обязанность эта лежала
одинаково на обоих, — поразмыслили над тем, что они делают, в то время, когда они меня зачи-
нали. [...]
— Послушайте, дорогой, — произнесла моя мать, — вы не забыли завести часы?
— Господи Боже! — воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой
голос, — бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким
дурацким вопросом?
— Что же, скажите, разумел ваш батюшка?
— Ничего.
Размытость начала заключается здесь в том, что повествование начинается
задолго до рождения Тристрама. После процитированного эпизода следует не-
сколько сот страниц (включая подробности самого акта рождения и всяческих
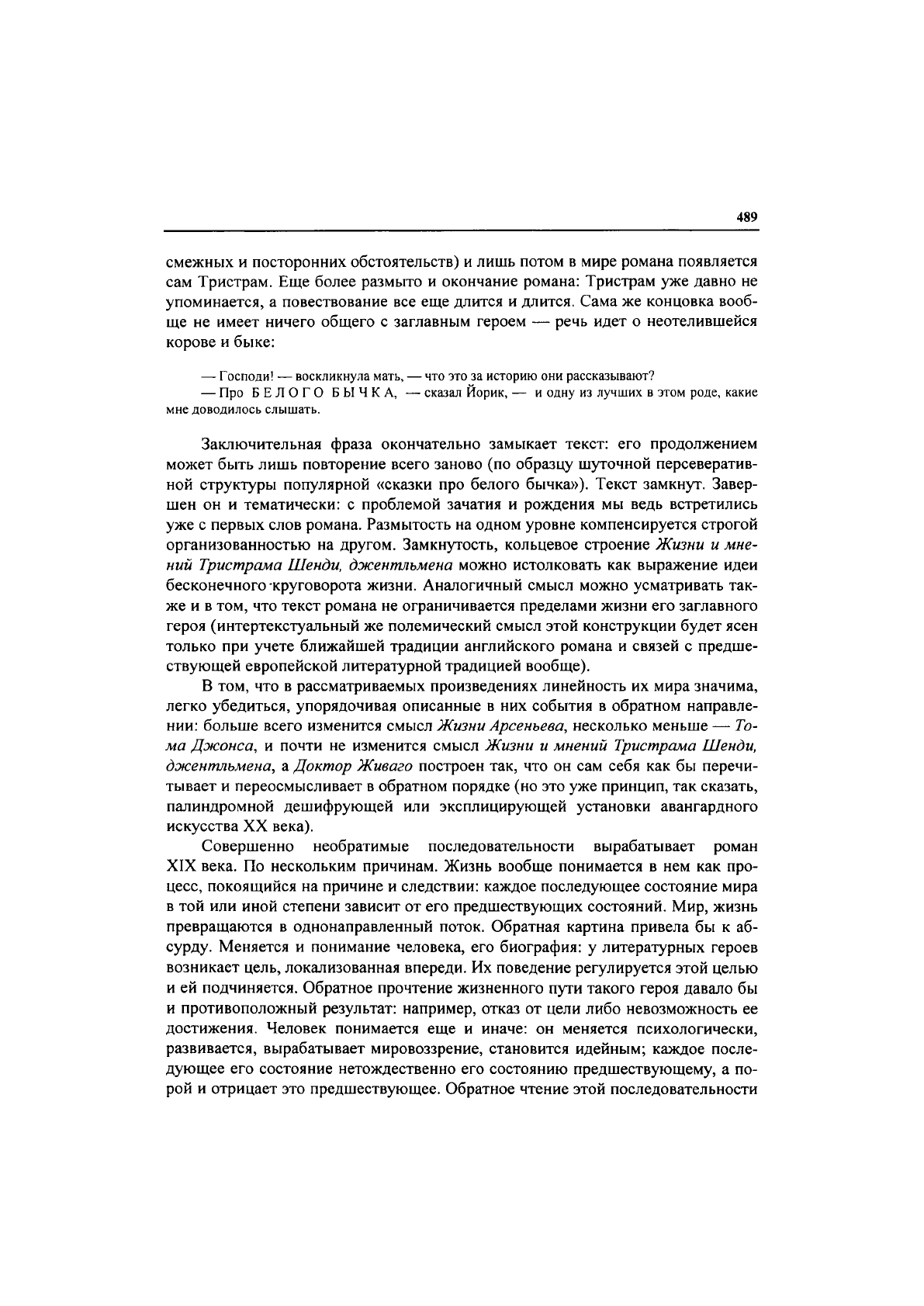
489
смежных и посторонних обстоятельств) и лишь потом в мире романа появляется
сам Тристрам. Еще более размыто и окончание романа: Тристрам уже давно не
упоминается, а повествование все еще длится и длится. Сама же концовка вооб-
ще не имеет ничего общего с заглавным героем — речь идет о неотеливщейся
корове и быке:
— Господи! — воскликнула мать, — что это за историю они рассказывают?
— Про БЕЛОГО БЫЧКА, — сказал Йорик, — и одну из лучших в этом роде, какие
мне доводилось слышать.
Заключительная фраза окончательно замыкает текст: его продолжением
может быть лишь повторение всего заново (по образцу шуточной персевератив-
ной структуры популярной «сказки про белого бычка»). Текст замкнут. Завер-
шен он и тематически: с проблемой зачатия и рождения мы ведь встретились
уже с первых слов романа. Размытость на одном уровне компенсируется строгой
организованностью на другом. Замкнутость, кольцевое строение Жизни и мне-
ний Тристрама Шенди, джентльмена можно истолковать как выражение идеи
бесконечного-круговорота жизни. Аналогичный смысл можно усматривать так-
же и в том, что текст романа не ограничивается пределами жизни его заглавного
героя (интертекстуальный же полемический смысл этой конструкции будет ясен
только при учете ближайшей традиции английского романа и связей с предше-
ствующей европейской литературной традицией вообще).
В том, что в рассматриваемых произведениях линейность их мира значима,
легко убедиться, упорядочивая описанные в них события в обратном направле-
нии: больше всего изменится смысл Жизни Арсеньева, несколько меньше — То-
ма Джонса, и почти не изменится смысл Жизни и мнений Тристрама Шенди,
джентльмена, а Доктор Живаго построен так, что он сам себя как бы перечи-
тывает и переосмысливает в обратном порядке (но это уже принцип, так сказать,
палиндромной дешифрующей или эксплицирующей установки авангардного
искусства XX века).
Совершенно необратимые последовательности вырабатывает роман
XIX века. По нескольким причинам. Жизнь вообще понимается в нем как про-
цесс, покоящийся на причине и следствии: каждое последующее состояние мира
в той или иной степени зависит от его предшествующих состояний. Мир, жизнь
превращаются в однонаправленный поток. Обратная картина привела бы к аб-
сурду. Меняется и понимание человека, его биография: у литературных героев
возникает цель, локализованная впереди. Их поведение регулируется этой целью
и ей подчиняется. Обратное прочтение жизненного пути такого героя давало бы
и противоположный результат: например, отказ от цели либо невозможность ее
достижения. Человек понимается еще и иначе: он меняется психологически,
развивается, вырабатывает мировоззрение, становится идейным; каждое после-
дующее его состояние нетождественно его состоянию предшествующему, а по-
рой и отрицает это предшествующее. Обратное чтение этой последовательности
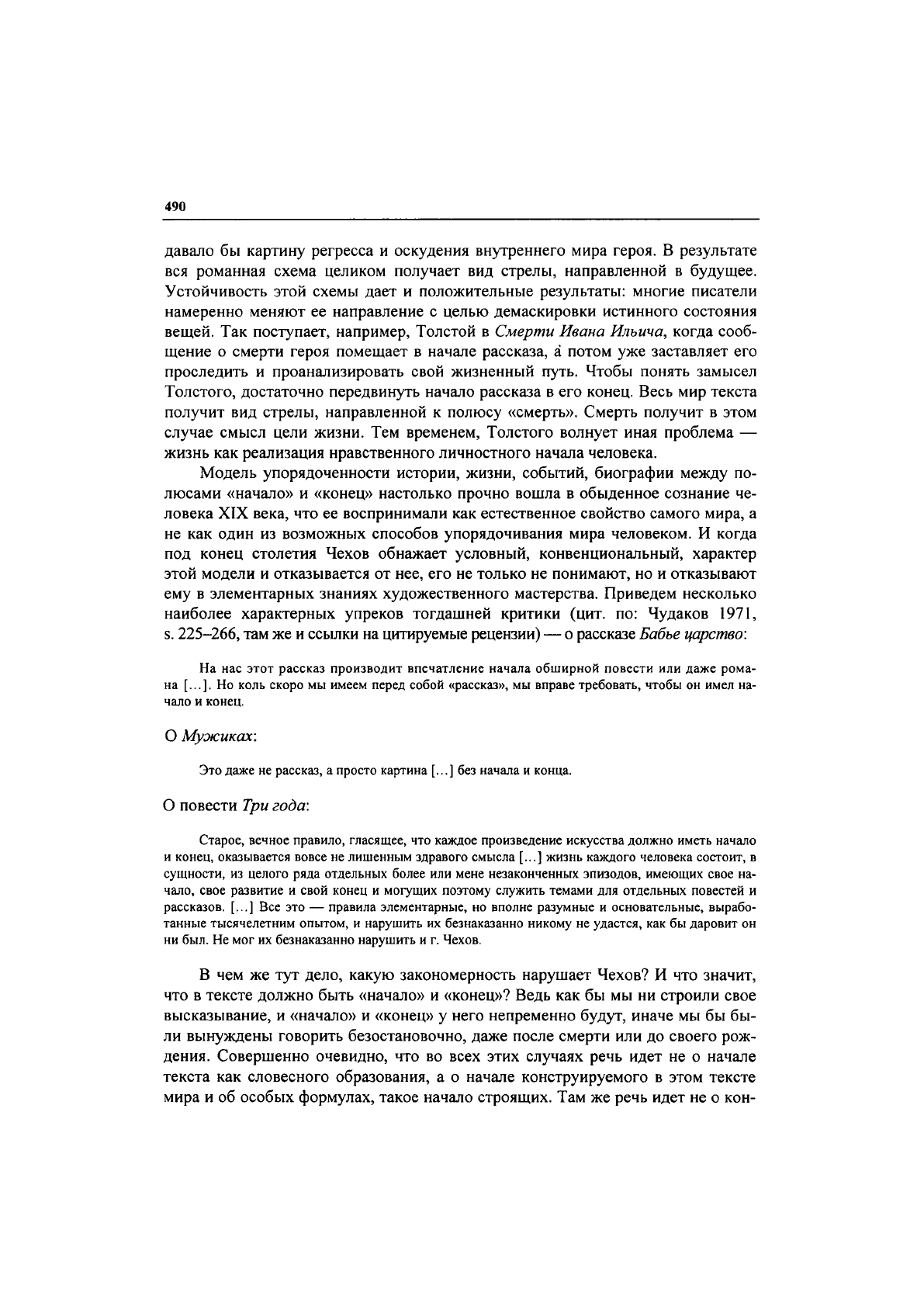
490
давало бы картину регресса и оскудения внутреннего мира героя. В результате
вся романная схема целиком получает вид стрелы, направленной в будущее.
Устойчивость этой схемы дает и положительные результаты: многие писатели
намеренно меняют ее направление с целью демаскировки истинного состояния
вещей. Так поступает, например, Толстой в Смерти Ивана Ильича, когда сооб-
щение о смерти героя помещает в начале рассказа, а потом уже заставляет его
проследить и проанализировать свой жизненный путь. Чтобы понять замысел
Толстого, достаточно передвинуть начало рассказа в его конец. Весь мир текста
получит вид стрелы, направленной к полюсу «смерть». Смерть получит в этом
случае смысл цели жизни. Тем временем, Толстого волнует иная проблема —
жизнь как реализация нравственного личностного начала человека.
Модель упорядоченности истории, жизни, событий, биографии между по-
люсами «начало» и «конец» настолько прочно вошла в обыденное сознание че-
ловека XIX века, что ее воспринимали как естественное свойство самого мира, а
не как один из возможных способов упорядочивания мира человеком. И когда
под конец столетия Чехов обнажает условный, конвенциональный, характер
этой модели и отказывается от нее, его не только не понимают, но и отказывают
ему в элементарных знаниях художественного мастерства. Приведем несколько
наиболее характерных упреков тогдашней критики (цит. по: Чудаков 1971,
s. 225-266, там же и ссылки на цитируемые рецензии) — о рассказе Бабье царство:
На нас этот рассказ производит впечатление начала обширной повести или даже рома-
на [...]. Но коль скоро мы имеем перед собой «рассказ», мы вправе требовать, чтобы он имел на-
чало и конец.
О Мужиках:
Это даже не рассказ, а просто картина [...] без начала и конца.
О повести Три года:
Старое, вечное правило, гласящее, что каждое произведение искусства должно иметь начало
и конец, оказывается вовсе не лишенным здравого смысла [...] жизнь каждого человека состоит, в
сущности, из целого ряда отдельных более или мене незаконченных эпизодов, имеющих свое на-
чало, свое развитие и свой конец и могущих поэтому служить темами для отдельных повестей и
рассказов. [...] Все это — правила элементарные, но вполне разумные и основательные, вырабо-
танные тысячелетним опытом, и нарушить их безнаказанно никому не удастся, как бы даровит он
ни был. Не мог их безнаказанно нарушить и г. Чехов.
В чем же тут дело, какую закономерность нарушает Чехов? И что значит,
что в тексте должно быть «начало» и «конец»? Ведь как бы мы ни строили свое
высказывание, и «начало» и «конец» у него непременно будут, иначе мы бы бы-
ли вынуждены говорить безостановочно, даже после смерти или до своего рож-
дения. Совершенно очевидно, что во всех этих случаях речь идет не о начале
текста как словесного образования, а о начале конструируемого в этом тексте
мира и об особых формулах, такое начало строящих. Там же речь идет не о кон-

491
це текста как такового, а о завершении повествуемых в этом тексте событий и,
само собой разумеется, о соответствующих формулах или хотя бы сигналах
«конца». Если в оговаривавшихся выше текстах Филдинга, Стерна, Бунина и
Толстого начало текста совпадает с началом создаваемого там мира, то у Чехова
нет как раз этого совпадения: рамки его текстов значительно уже мира, о кото-
ром повествуется в данных текстах. В текст попадает лишь небольшой фрагмент
мира. В живописи аналогично поступает в это время Дега: рамки его картин рас-
секают изображенные на них фигуры совершенно неожиданным образом (не-
ожиданным в пределах норм живописи, но повсеместным явлением в быту, ко-
гда поле зрения перекрывается некой помехой: ширмой, забором и т. д.). В
результате у Дега демонстрируется условность самих рамок, их необязательный
и случайный (чисто исторический и конвенциональный) характер; случайный
характер получает и сам мир (его фрагмент) и благодаря этому производит впе-
чатление более естественного, более «подлинного», а не специально подобран-
ного и специально аранжированного в законченное целое и этим самым — «со-
чиненного», «вымышленного», «искусственного». Именно этот эффект и
имеется в виду в несовпадении границ рассказа и границ повествуемого мира у
Чехова.
Но у традиционного повествования есть и свой конец, завершение, и «раз-
витие». Как мы уже видели, эти категории предполагают организованность мира
текста, у такого мира есть свой «центр». Таким центром может быть либо герой,
являющийся точкой отсчета всего остального мира, либо конфликт — действия
всех персонажей направлены на разрешение этого конфликта. В живописи, как
правило, такой композиционный центр мира помещается по соседству с цен-
тральной точкой полотна, точкой пересечения диагоналей (но не в ней). В лите-
ратуре он обычно смещен к концу текста и почти совпадает с текстовым концом
(аналогично и в фильмах, и в театральных постановках, и в балете, и в музыке,
т. е. во всех временньіх искусствах). Смещение центра к концу приводит к тому,
что мир текста получает характер устремленности, вид стрелы. Тем временем,
внетекстовый мир по крайней мере полицентричен, разнонаправлен. Это осмыс-
лил Чехов, это осмыслили и художники, в первую очередь — импрессионисты.
Живопись отказывается от традиционной перспективы — вводит несколько пер-
спектив (точек зрения) одновременно, как, например, Ван Гог. Чехов же лишает
мир своих рассказов и пьес однозначного центра — у него их либо несколько,
либо они находятся за пределами текстов.
С этой точки зрения очень интересно построена Чайка. Ее герои мыслят
свою жизнь по традиционной схеме, «сюжетно»: им нужны происшествия, со-
бытия, вынесенная вперед цель, которая бы регулировала их поведение и сооб-
щала им и этому поведению определенный смысл. Жизнь же, в которую их по-
мещает Чехов, именно бессюжетна, почти статична. Герои пьесы от этой жизни
отказываются, не включают ее в свою биографию, и если даже не конфликтуют
с ней, то ею тяготятся как бессмысленным существованием. И лишь по истече-
нии некоторого времени обнаруживают, что это и была жизнь, но ведь они от
