Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

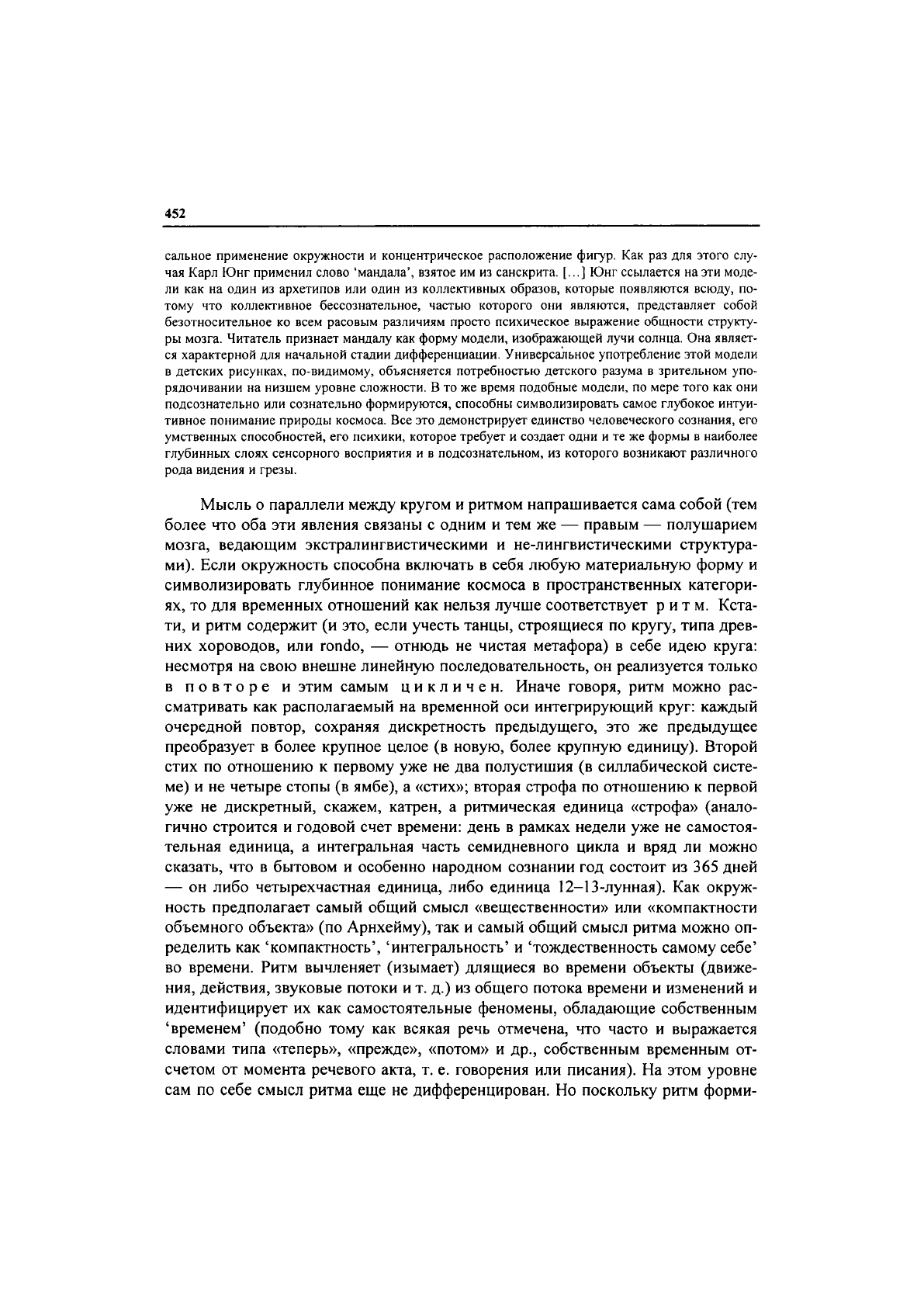
452
сальное применение окружности и концентрическое расположение фигур. Как раз для этого слу-
чая Карл Юнг применил слово 'мандала', взятое им из санскрита. [...] Юнг ссылается на эти моде-
ли как на один из архетипов или один из коллективных образов, которые появляются всюду, по-
тому что коллективное бессознательное, частью которого они являются, представляет собой
безотносительное ко всем расовым различиям просто психическое выражение общности структу-
ры мозга. Читатель признает мандалу как форму модели, изображающей лучи солнца. Она являет-
ся характерной для начальной стадии дифференциации. Универсальное употребление этой модели
в детских рисунках, по-видимому, объясняется потребностью детского разума в зрительном упо-
рядочивании на низшем уровне сложности. В то же время подобные модели, по мере того как они
подсознательно или сознательно формируются, способны символизировать самое глубокое интуи-
тивное понимание природы космоса. Все это демонстрирует единство человеческого сознания, его
умственных способностей, его психики, которое требует и создает одни и те же формы в наиболее
глубинных слоях сенсорного восприятия и в подсознательном, из которого возникают различного
рода видения и грезы.
Мысль о параллели между кругом и ритмом напрашивается сама собой (тем
более что оба эти явления связаны с одним и тем же — правым — полушарием
мозга, ведающим экстралингвистическими и не-лингвистическими структура-
ми). Если окружность способна включать в себя любую материальную форму и
символизировать глубинное понимание космоса в пространственных категори-
ях, то для временных отношений как нельзя лучше соответствует ритм. Кста-
ти, и ритм содержит (и это, если учесть танцы, строящиеся по кругу, типа древ-
них хороводов, или rondo, — отнюдь не чистая метафора) в себе идею круга:
несмотря на свою внешне линейную последовательность, он реализуется только
в повторе и этим самым цикличен. Иначе говоря, ритм можно рас-
сматривать как располагаемый на временной оси интегрирующий круг: каждый
очередной повтор, сохраняя дискретность предыдущего, это же предыдущее
преобразует в более крупное целое (в новую, более крупную единицу). Второй
стих по отношению к первому уже не два полустишия (в силлабической систе-
ме) и не четыре стопы (в ямбе), а «стих»; вторая строфа по отношению к первой
уже не дискретный, скажем, катрен, а ритмическая единица «строфа» (анало-
гично строится и годовой счет времени: день в рамках недели уже не самостоя-
тельная единица, а интегральная часть семидневного цикла и вряд ли можно
сказать, что в бытовом и особенно народном сознании год состоит из 365 дней
— он либо четырехчастная единица, либо единица 12-13-лунная). Как окруж-
ность предполагает самый общий смысл «вещественности» или «компактности
объемного объекта» (по Арнхейму), так и самый общий смысл ритма можно оп-
ределить как 'компактность', 'интегральность' и 'тождественность самому себе'
во времени. Ритм вычленяет (изымает) длящиеся во времени объекты (движе-
ния, действия, звуковые потоки и т. д.) из общего потока времени и изменений и
идентифицирует их как самостоятельные феномены, обладающие собственным
'временем' (подобно тому как всякая речь отмечена, что часто и выражается
словами типа «теперь», «прежде», «потом» и др., собственным временным от-
счетом от момента речевого акта, т. е. говорения или писания). На этом уровне
сам по себе смысл ритма еще не дифференцирован. Но поскольку ритм форми-
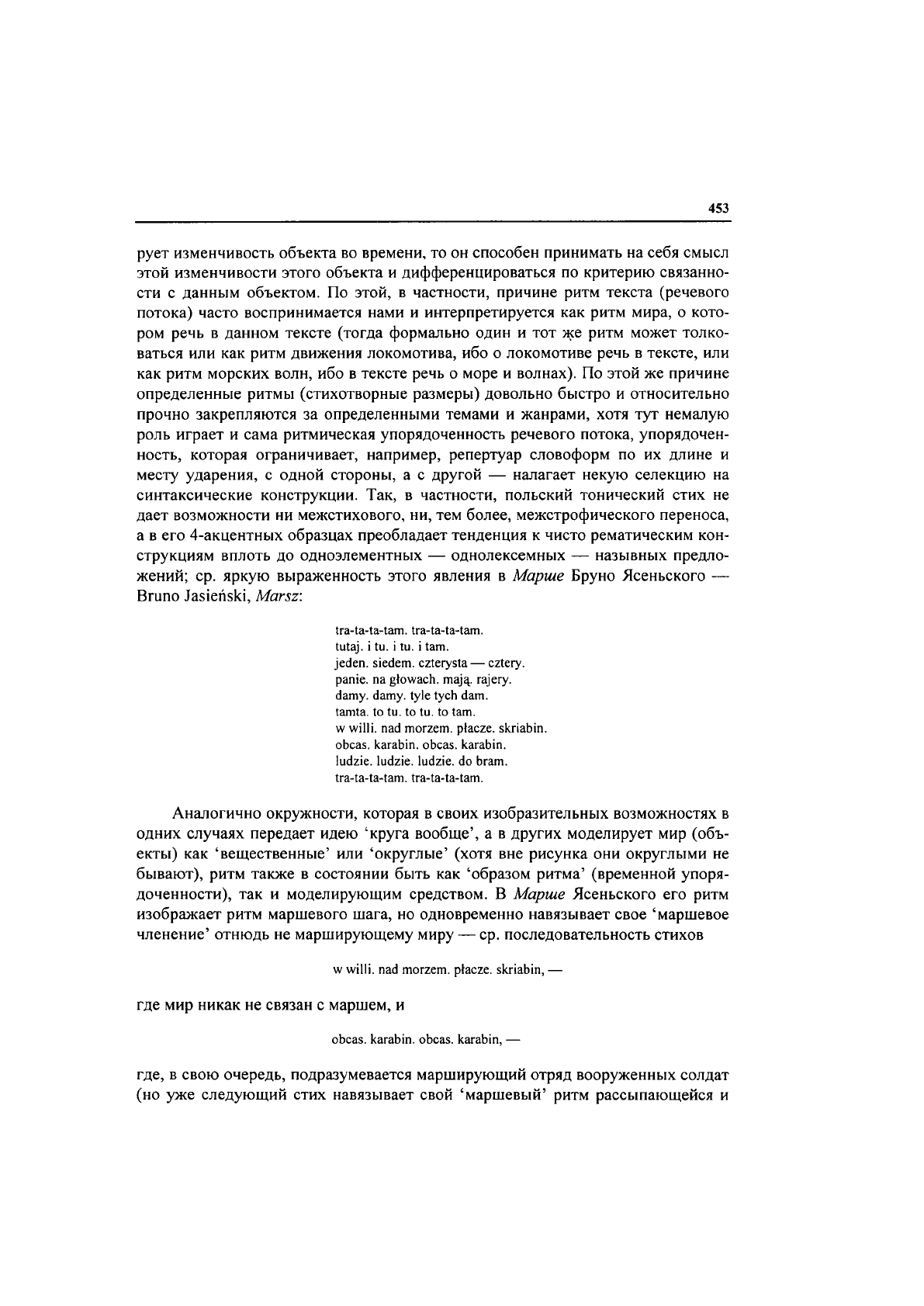
453
рует изменчивость объекта во времени, то он способен принимать на себя смысл
этой изменчивости этого объекта и дифференцироваться по критерию связанно-
сти с данным объектом. По этой, в частности, причине ритм текста (речевого
потока) часто воспринимается нами и интерпретируется как ритм мира, о кото-
ром речь в данном тексте (тогда формально один и тот же ритм может толко-
ваться или как ритм движения локомотива, ибо о локомотиве речь в тексте, или
как ритм морских волн, ибо в тексте речь о море и волнах). По этой же причине
определенные ритмы (стихотворные размеры) довольно быстро и относительно
прочно закрепляются за определенными темами и жанрами, хотя тут немалую
роль играет и сама ритмическая упорядоченность речевого потока, упорядочен-
ность, которая ограничивает, например, репертуар словоформ по их длине и
месту ударения, с одной стороны, а с другой — налагает некую селекцию на
синтаксические конструкции. Так, в частности, польский тонический стих не
дает возможности ни межстихового, ни, тем более, межстрофического переноса,
а в его 4-акцентных образцах преобладает тенденция к чисто рематическим кон-
струкциям вплоть до одноэлементных — однолексемных — назывных предло-
жений; ср. яркую выраженность этого явления в Марше Бруно Ясеньского —
Bruno Jasieński, Marsz:
tra-ta-ta-tam. tra-ta-ta-tam.
tutaj, i tu. i tu. i tam.
jeden, siedem, czterysta — cztery.
panie, na głowach, mają. raj ery.
damy. damy. tyle tych dam.
tamta, to tu. to tu. to tam.
w willi, nad morzem, płacze, skriabin.
obcas, karabin, obcas, karabin.
ludzie, ludzie, ludzie, do bram.
tra-ta-ta-tam. tra-ta-ta-tam.
Аналогично окружности, которая в своих изобразительных возможностях в
одних случаях передает идею 'круга вообще', а в других моделирует мир (объ-
екты) как 'вещественные' или 'округлые' (хотя вне рисунка они округлыми не
бывают), ритм также в состоянии быть как 'образом ритма' (временной упоря-
доченности), так и моделирующим средством. В Марше Ясеньского его ритм
изображает ритм маршевого шага, но одновременно навязывает свое 'маршевое
членение' отнюдь не марширующему миру — ср. последовательность стихов
w willi, nad morzem, płacze, skriabin, —
где мир никак не связан с маршем, и
obcas, karabin, obcas, karabin, —
где, в свою очередь, подразумевается марширующий отряд вооруженных солдат
(но уже следующий стих навязывает свой 'маршевый' ритм рассыпающейся и
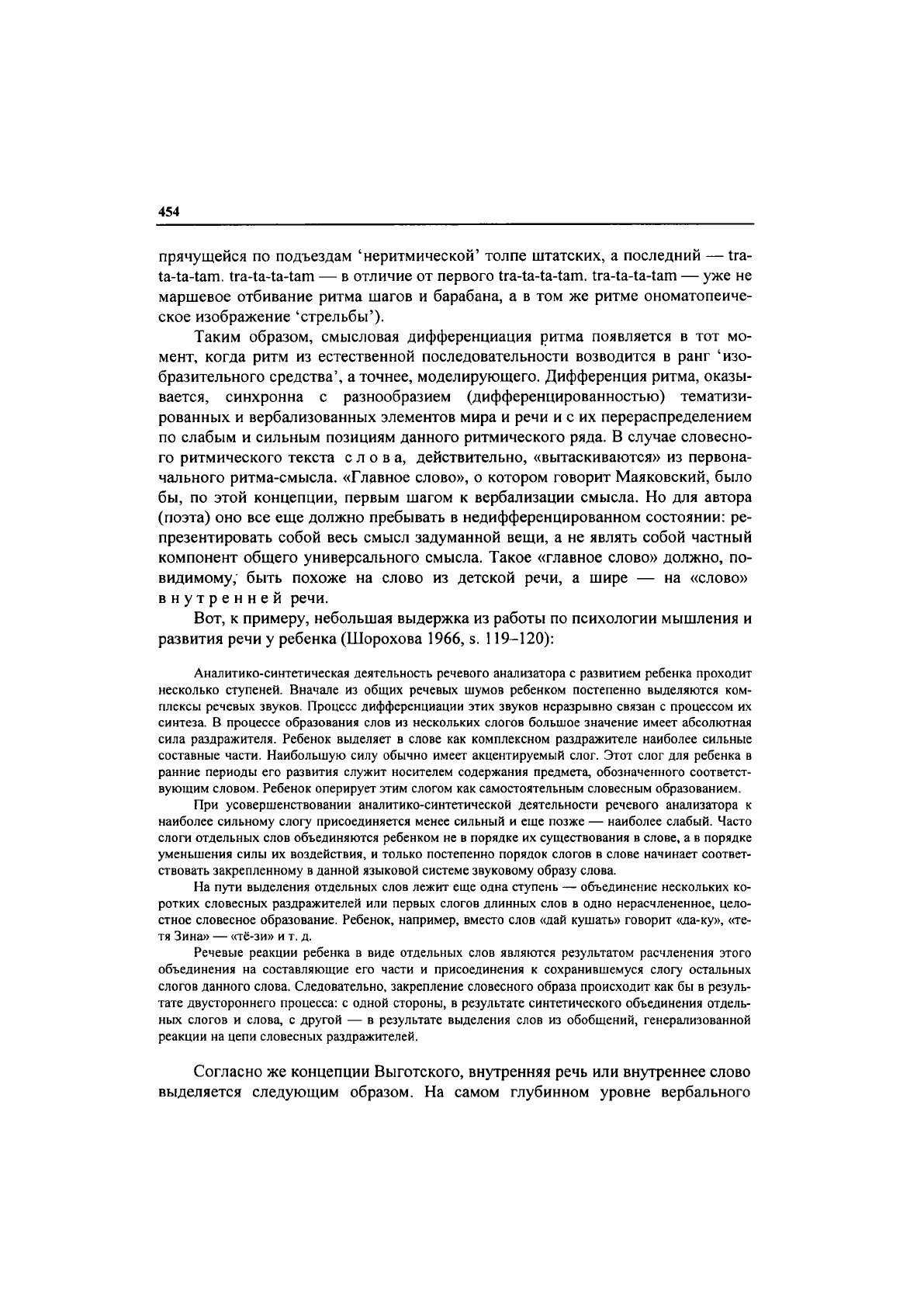
454
прячущейся по подъездам 'неритмической' толпе штатских, а последний — tra-
ta-ta-tam. tra-ta-ta-tam — в отличие от первого tra-ta-ta-tam. tra-ta-ta-tam — уже не
маршевое отбивание ритма шагов и барабана, а в том же ритме ономатопеиче-
ское изображение 'стрельбы').
Таким образом, смысловая дифференциация ритма появляется в тот мо-
мент, когда ритм из естественной последовательности возводится в ранг 'изо-
бразительного средства', а точнее, моделирующего. Дифференция ритма, оказы-
вается, синхронна с разнообразием (дифференцированностью) тематизи-
рованных и вербализованных элементов мира и речи и с их перераспределением
по слабым и сильным позициям данного ритмического ряда. В случае словесно-
го ритмического текста слова, действительно, «вытаскиваются» из первона-
чального ритма-смысла. «Главное слово», о котором говорит Маяковский, было
бы, по этой концепции, первым шагом к вербализации смысла. Но для автора
(поэта) оно все еще должно пребывать в недифференцированном состоянии: ре-
презентировать собой весь смысл задуманной вещи, а не являть собой частный
компонент общего универсального смысла. Такое «главное слово» должно, по-
видимому; быть похоже на слово из детской речи, а шире — на «слово»
внутренней речи.
Вот, к примеру, небольшая выдержка из работы по психологии мышления и
развития речи у ребенка (Шорохова 1966, s. 119-120):
Аналитико-синтетическая деятельность речевого анализатора с развитием ребенка проходит
несколько ступеней. Вначале из общих речевых шумов ребенком постепенно выделяются ком-
плексы речевых звуков. Процесс дифференциации этих звуков неразрывно связан с процессом их
синтеза. В процессе образования слов из нескольких слогов большое значение имеет абсолютная
сила раздражителя. Ребенок выделяет в слове как комплексном раздражителе наиболее сильные
составные части. Наибольшую силу обычно имеет акцентируемый слог. Этот слог для ребенка в
ранние периоды его развития служит носителем содержания предмета, обозначенного соответст-
вующим словом. Ребенок оперирует этим слогом как самостоятельным словесным образованием.
При усовершенствовании аналитико-синтетической деятельности речевого анализатора к
наиболее сильному слогу присоединяется менее сильный и еще позже — наиболее слабый. Часто
слоги отдельных слов объединяются ребенком не в порядке их существования в слове, а в порядке
уменьшения силы их воздействия, и только постепенно порядок слогов в слове начинает соответ-
ствовать закрепленному в данной языковой системе звуковому образу слова.
На пути выделения отдельных слов лежит еще одна ступень — объединение нескольких ко-
ротких словесных раздражителей или первых слогов длинных слов в одно нерасчлененное, цело-
стное словесное образование. Ребенок, например, вместо слов «дай кушать» говорит «да-ку», «те-
тя Зина» — «тё-зи» и т. д.
Речевые реакции ребенка в виде отдельных слов являются результатом расчленения этого
объединения на составляющие его части и присоединения к сохранившемуся слогу остальных
слогов данного слова. Следовательно, закрепление словесного образа происходит как бы в резуль-
тате двустороннего процесса: с одной стороны, в результате синтетического объединения отдель-
ных слогов и слова, с другой — в результате выделения слов из обобщений, генерализованной
реакции на цепи словесных раздражителей.
Согласно же концепции Выготского, внутренняя речь или внутреннее слово
выделяется следующим образом. На самом глубинном уровне вербального
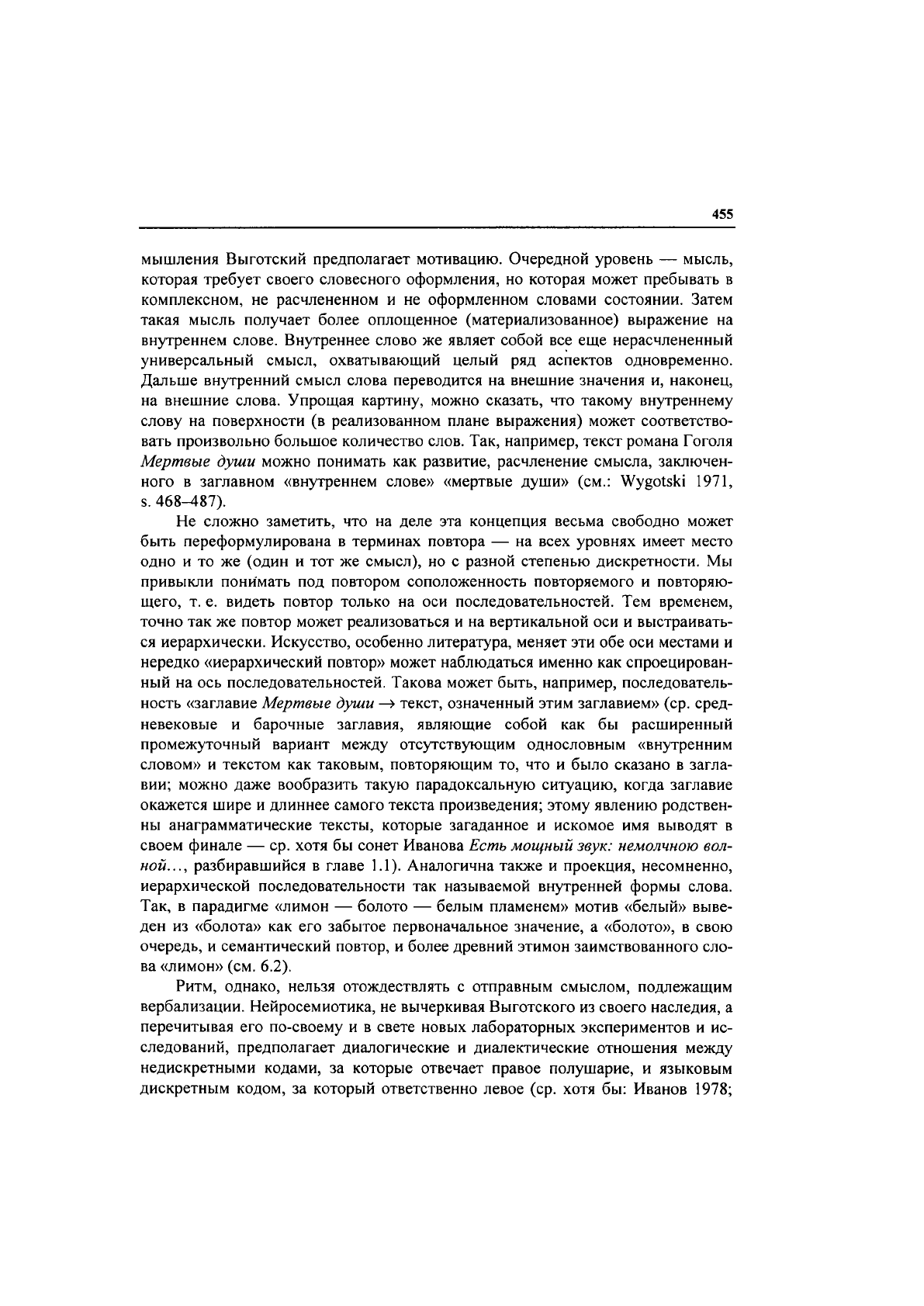
455
мышления Выготский предполагает мотивацию. Очередной уровень — мысль,
которая требует своего словесного оформления, но которая может пребывать в
комплексном, не расчлененном и не оформленном словами состоянии. Затем
такая мысль получает более оплощенное (материализованное) выражение на
внутреннем слове. Внутреннее слово же являет собой все еще нерасчлененный
универсальный смысл, охватывающий целый ряд аспектов одновременно.
Дальше внутренний смысл слова переводится на внешние значения и, наконец,
на внешние слова. Упрощая картину, можно сказать, что такому внутреннему
слову на поверхности (в реализованном плане выражения) может соответство-
вать произвольно большое количество слов. Так, например, текст романа Гоголя
Мертвые души можно понимать как развитие, расчленение смысла, заключен-
ного в заглавном «внутреннем слове» «мертвые души» (см.: Wygotski 1971,
s. 468-487).
Не сложно заметить, что на деле эта концепция весьма свободно может
быть переформулирована в терминах повтора — на всех уровнях имеет место
одно и то же (один и тот же смысл), но с разной степенью дискретности. Мы
привыкли понимать под повтором соположенность повторяемого и повторяю-
щего, т. е. видеть повтор только на оси последовательностей. Тем временем,
точно так же повтор может реализоваться и на вертикальной оси и выстраивать-
ся иерархически. Искусство, особенно литература, меняет эти обе оси местами и
нередко «иерархический повтор» может наблюдаться именно как спроецирован-
ный на ось последовательностей. Такова может быть, например, последователь-
ность «заглавие Мертвые души
—>
текст, означенный этим заглавием» (ср. сред-
невековые и барочные заглавия, являющие собой как бы расширенный
промежуточный вариант между отсутствующим однословным «внутренним
словом» и текстом как таковым, повторяющим то, что и было сказано в загла-
вии; можно даже вообразить такую парадоксальную ситуацию, когда заглавие
окажется шире и длиннее самого текста произведения; этому явлению родствен-
ны анаграмматические тексты, которые загаданное и искомое имя выводят в
своем финале — ср. хотя бы сонет Иванова Есть мощный звук: немолчною вол-
ной..., разбиравшийся в главе 1.1). Аналогична также и проекция, несомненно,
иерархической последовательности так называемой внутренней формы слова.
Так, в парадигме «лимон — болото — белым пламенем» мотив «белый» выве-
ден из «болота» как его забытое первоначальное значение, а «болото», в свою
очередь, и семантический повтор, и более древний этимон заимствованного сло-
ва «лимон» (см. 6.2).
Ритм, однако, нельзя отождествлять с отправным смыслом, подлежащим
вербализации. Нейросемиотика, не вычеркивая Выготского из своего наследия, а
перечитывая его по-своему и в свете новых лабораторных экспериментов и ис-
следований, предполагает диалогические и диалектические отношения между
недискретными кодами, за которые отвечает правое полушарие, и языковым
дискретным кодом, за который ответственно левое (ср. хотя бы: Иванов 1978;
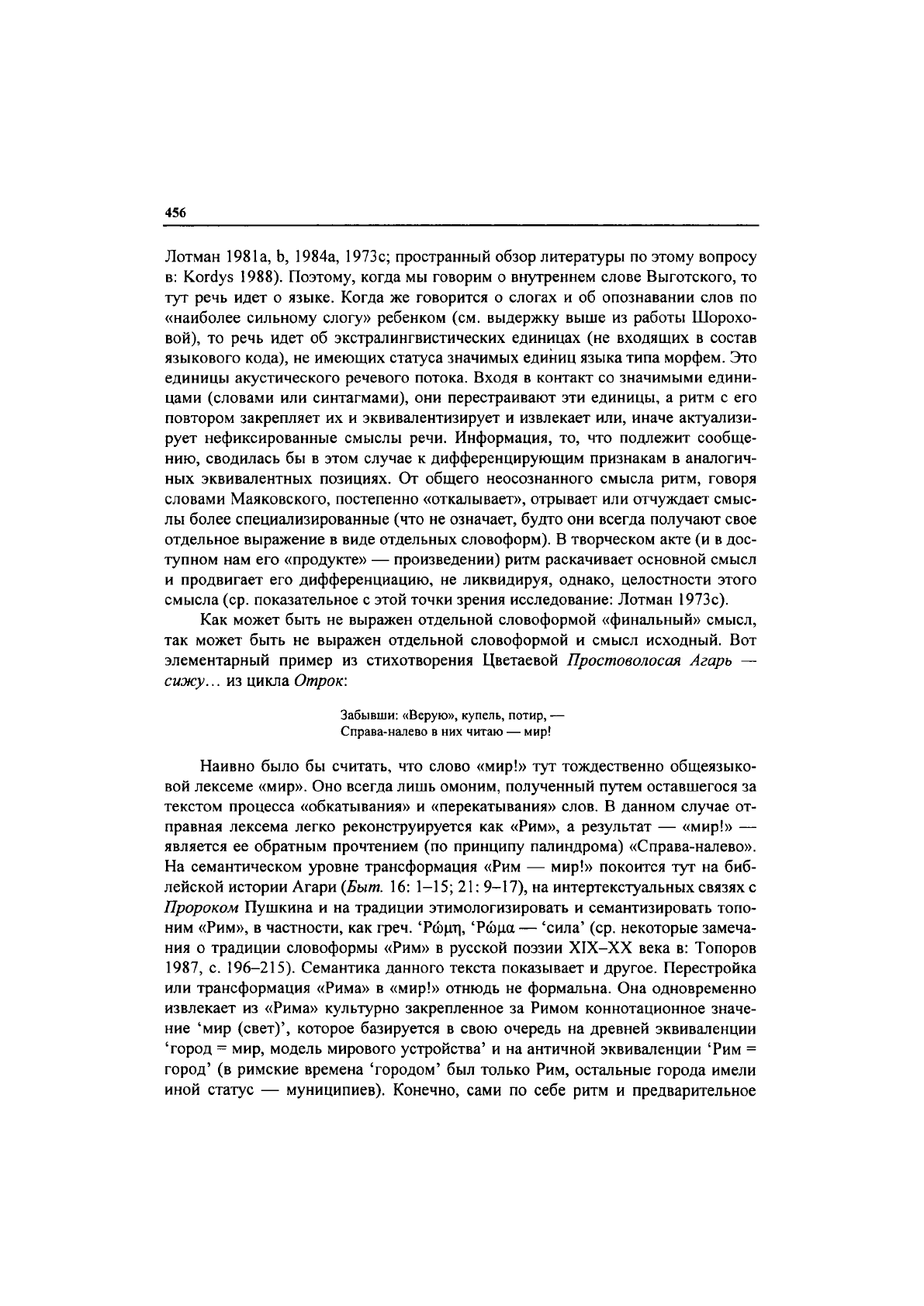
456
Лотман 1981а, b, 1984а, 1973с; пространный обзор литературы по этому вопросу
в: Kordys 1988). Поэтому, когда мы говорим о внутреннем слове Выготского, то
тут речь идет о языке. Когда же говорится о слогах и об опознавании слов по
«наиболее сильному слогу» ребенком (см. выдержку выше из работы Шорохо-
вой), то речь идет об экстралингвистических единицах (не входящих в состав
языкового кода), не имеющих статуса значимых единиц языка типа морфем. Это
единицы акустического речевого потока. Входя в контакт со значимыми едини-
цами (словами или синтагмами), они перестраивают эти единицы, а ритм с его
повтором закрепляет их и эквивалентизирует и извлекает или, иначе актуализи-
рует нефиксированные смыслы речи. Информация, то, что подлежит сообще-
нию, сводилась бы в этом случае к дифференцирующим признакам в аналогич-
ных эквивалентных позициях. От общего неосознанного смысла ритм, говоря
словами Маяковского, постепенно «откалывает», отрывает или отчуждает смыс-
лы более специализированные (что не означает, будто они всегда получают свое
отдельное выражение в виде отдельных словоформ). В творческом акте (и в дос-
тупном нам его «продукте» — произведении) ритм раскачивает основной смысл
и продвигает его дифференциацию, не ликвидируя, однако, целостности этого
смысла (ср. показательное с этой точки зрения исследование: Лотман 1973с).
Как может быть не выражен отдельной словоформой «финальный» смысл,
так может быть не выражен отдельной словоформой и смысл исходный. Вот
элементарный пример из стихотворения Цветаевой Простоволосая Агарь —
сижу... из цикла Отрок:
Забывши: «Верую», купель, потир, —
Справа-налево в них читаю — мир!
Наивно было бы считать, что слово «мир!» тут тождественно общеязыко-
вой лексеме «мир». Оно всегда лишь омоним, полученный путем оставшегося за
текстом процесса «обкатывания» и «перекатывания» слов. В данном случае от-
правная лексема легко реконструируется как «Рим», а результат — «мир!» —
является ее обратным прочтением (по принципу палиндрома) «Справа-налево».
На семантическом уровне трансформация «Рим — мир!» покоится тут на биб-
лейской истории Агари {Быт. 16: 1-15; 21: 9-17), на интертекстуальных связях с
Пророком Пушкина и на традиции этимологизировать и семантизировать топо-
ним «Рим», в частности, как греч. 'РсЬцт|, 'Рюца — 'сила' (ср. некоторые замеча-
ния о традиции словоформы «Рим» в русской поэзии ХІХ-ХХ века в: Топоров
1987, с. 196-215). Семантика данного текста показывает и другое. Перестройка
или трансформация «Рима» в «мир!» отнюдь не формальна. Она одновременно
извлекает из «Рима» культурно закрепленное за Римом коннотационное значе-
ние 'мир (свет)', которое базируется в свою очередь на древней эквиваленции
'город = мир, модель мирового устройства' и на античной эквиваленции 'Рим =
город' (в римские времена 'городом' был только Рим, остальные города имели
иной статус — муниципиев). Конечно, сами по себе ритм и предварительное
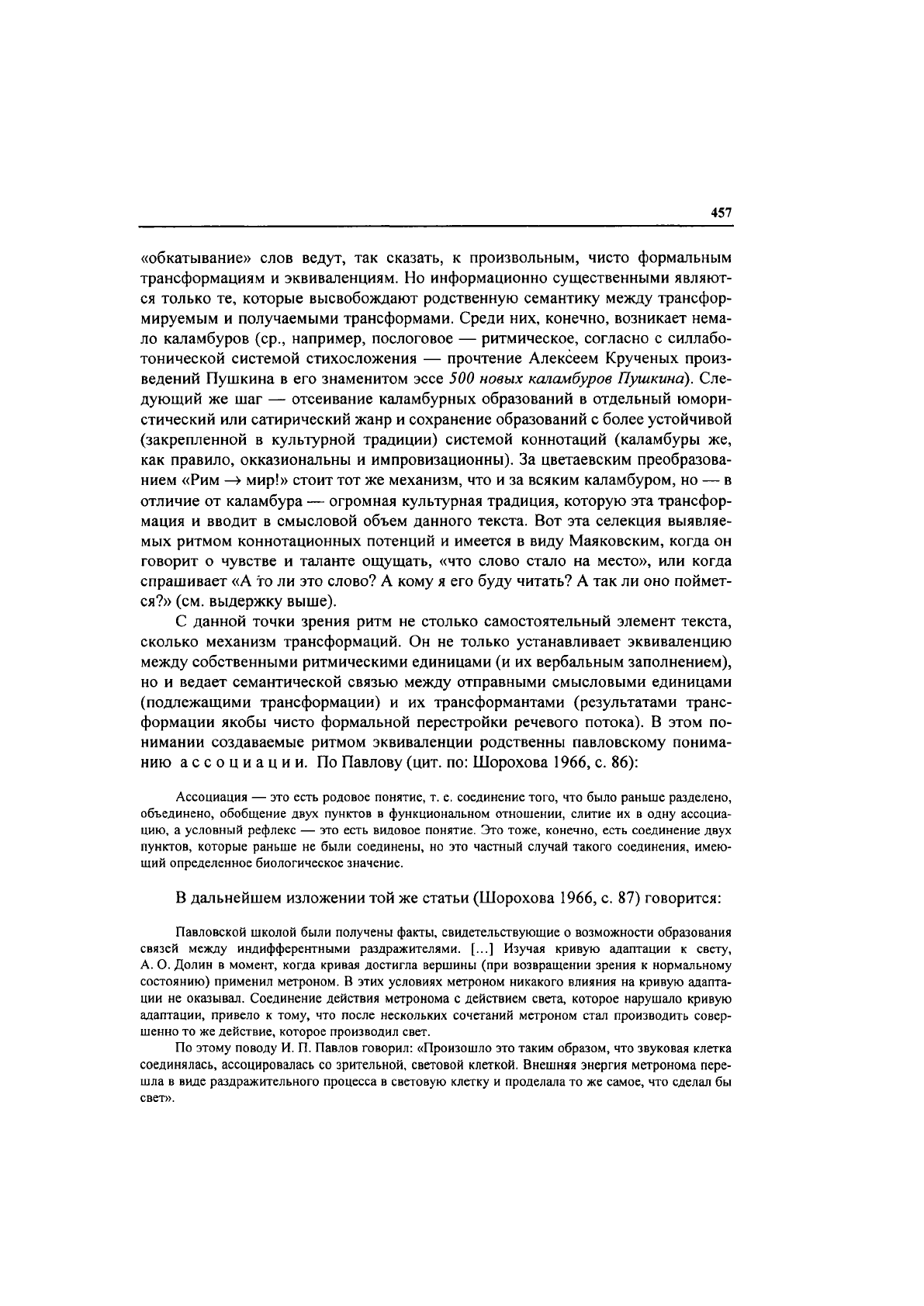
457
«обкатывание» слов ведут, так сказать, к произвольным, чисто формальным
трансформациям и эквиваленциям. Но информационно существенными являют-
ся только те, которые высвобождают родственную семантику между трансфор-
мируемым и получаемыми трансформами. Среди них, конечно, возникает нема-
ло каламбуров (ср., например, послоговое — ритмическое, согласно с силлабо-
тонической системой стихосложения — прочтение Алексеем Крученых произ-
ведений Пушкина в его знаменитом эссе 500 новых каламбуров Пушкина). Сле-
дующий же шаг — отсеивание каламбурных образований в отдельный юмори-
стический или сатирический жанр и сохранение образований с более устойчивой
(закрепленной в культурной традиции) системой коннотаций (каламбуры же,
как правило, окказиональны и импровизационны). За цветаевским преобразова-
нием «Рим —» мир!» стоит тот же механизм, что и за всяким каламбуром, но — в
отличие от каламбура — огромная культурная традиция, которую эта трансфор-
мация и вводит в смысловой объем данного текста. Вот эта селекция выявляе-
мых ритмом коннотационных потенций и имеется в виду Маяковским, когда он
говорит о чувстве и таланте ощущать, «что слово стало на место», или когда
спрашивает «А то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймет-
ся?» (см. выдержку выше).
С данной точки зрения ритм не столько самостоятельный элемент текста,
сколько механизм трансформаций. Он не только устанавливает эквиваленцию
между собственными ритмическими единицами (и их вербальным заполнением),
но и ведает семантической связью между отправными смысловыми единицами
(подлежащими трансформации) и их трансформантами (результатами транс-
формации якобы чисто формальной перестройки речевого потока). В этом по-
нимании создаваемые ритмом эквиваленции родственны павловскому понима-
нию ассоциации. По Павлову (цит. по: Шорохова 1966, с. 86):
Ассоциация — это есть родовое понятие, т. е. соединение того, что было раньше разделено,
объединено, обобщение двух пунктов в функциональном отношении, слитие их в одну ассоциа-
цию, а условный рефлекс — это есть видовое понятие. Это тоже, конечно, есть соединение двух
пунктов, которые раньше не были соединены, но это частный случай такого соединения, имею-
щий определенное биологическое значение.
В дальнейшем изложении той же статьи (Шорохова 1966, с. 87) говорится:
Павловской школой были получены факты, свидетельствующие о возможности образования
связей между индифферентными раздражителями. [...] Изучая кривую адаптации к свету,
А. О. Долин в момент, когда кривая достигла вершины (при возвращении зрения к нормальному
состоянию) применил метроном. В этих условиях метроном никакого влияния на кривую адапта-
ции не оказывал. Соединение действия метронома с действием света, которое нарушало кривую
адаптации, привело к тому, что после нескольких сочетаний метроном стал производить совер-
шенно то же действие, которое производил свет.
По этому поводу И. П. Павлов говорил: «Произошло это таким образом, что звуковая клетка
соединялась, ассоцировалась со зрительной, световой клеткой. Внешняя энергия метронома пере-
шла в виде раздражительного процесса в световую клетку и проделала то же самое, что сделал бы
свет».
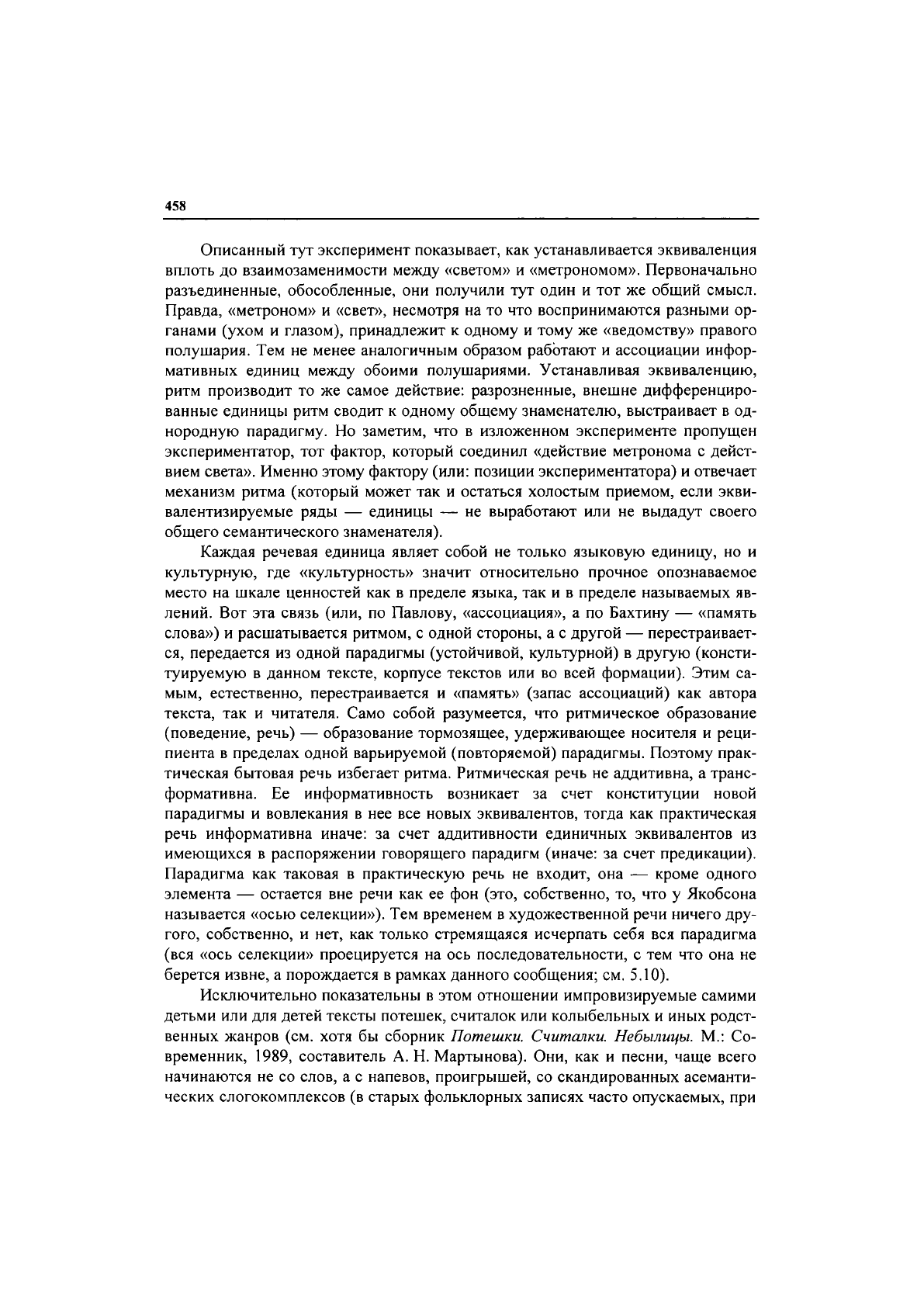
458
Описанный тут эксперимент показывает, как устанавливается эквиваленция
вплоть до взаимозаменимости между «светом» и «метрономом». Первоначально
разъединенные, обособленные, они получили тут один и тот же общий смысл.
Правда, «метроном» и «свет», несмотря на то что воспринимаются разными ор-
ганами (ухом и глазом), принадлежит к одному и тому же «ведомству» правого
полушария. Тем не менее аналогичным образом работают и ассоциации инфор-
мативных единиц между обоими полушариями. Устанавливая эквиваленцию,
ритм производит то же самое действие: разрозненные, внешне дифференциро-
ванные единицы ритм сводит к одному общему знаменателю, выстраивает в од-
нородную парадигму. Но заметим, что в изложенном эксперименте пропущен
экспериментатор, тот фактор, который соединил «действие метронома с дейст-
вием света». Именно этому фактору (или: позиции экспериментатора) и отвечает
механизм ритма (который может так и остаться холостым приемом, если экви-
валентизируемые ряды — единицы — не выработают или не выдадут своего
общего семантического знаменателя).
Каждая речевая единица являет собой не только языковую единицу, но и
культурную, где «культурность» значит относительно прочное опознаваемое
место на шкале ценностей как в пределе языка, так и в пределе называемых яв-
лений. Вот эта связь (или, по Павлову, «ассоциация», а по Бахтину — «память
слова») и расшатывается ритмом, с одной стороны, а с другой — перестраивает-
ся, передается из одной парадигмы (устойчивой, культурной) в другую (консти-
туируемую в данном тексте, корпусе текстов или во всей формации). Этим са-
мым, естественно, перестраивается и «память» (запас ассоциаций) как автора
текста, так и читателя. Само собой разумеется, что ритмическое образование
(поведение, речь) — образование тормозящее, удерживающее носителя и реци-
пиента в пределах одной варьируемой (повторяемой) парадигмы. Поэтому прак-
тическая бытовая речь избегает ритма. Ритмическая речь не аддитивна, а транс-
формативна. Ее информативность возникает за счет конституции новой
парадигмы и вовлекания в нее все новых эквивалентов, тогда как практическая
речь информативна иначе: за счет аддитивности единичных эквивалентов из
имеющихся в распоряжении говорящего парадигм (иначе: за счет предикации).
Парадигма как таковая в практическую речь не входит, она — кроме одного
элемента — остается вне речи как ее фон (это, собственно, то, что у Якобсона
называется «осью селекции»). Тем временем в художественной речи ничего дру-
гого, собственно, и нет, как только стремящаяся исчерпать себя вся парадигма
(вся «ось селекции» проецируется на ось последовательности, с тем что она не
берется извне, а порождается в рамках данного сообщения; см. 5.10).
Исключительно показательны в этом отношении импровизируемые самими
детьми или для детей тексты потешек, считалок или колыбельных и иных родст-
венных жанров (см. хотя бы сборник Потешки. Считалки. Небылицы. М.: Со-
временник, 1989, составитель А. Н. Мартынова). Они, как и песни, чаще всего
начинаются не со слов, а с напевов, проигрышей, со скандированных асеманти-
ческих слогокомплексов (в старых фольклорных записях часто опускаемых, при
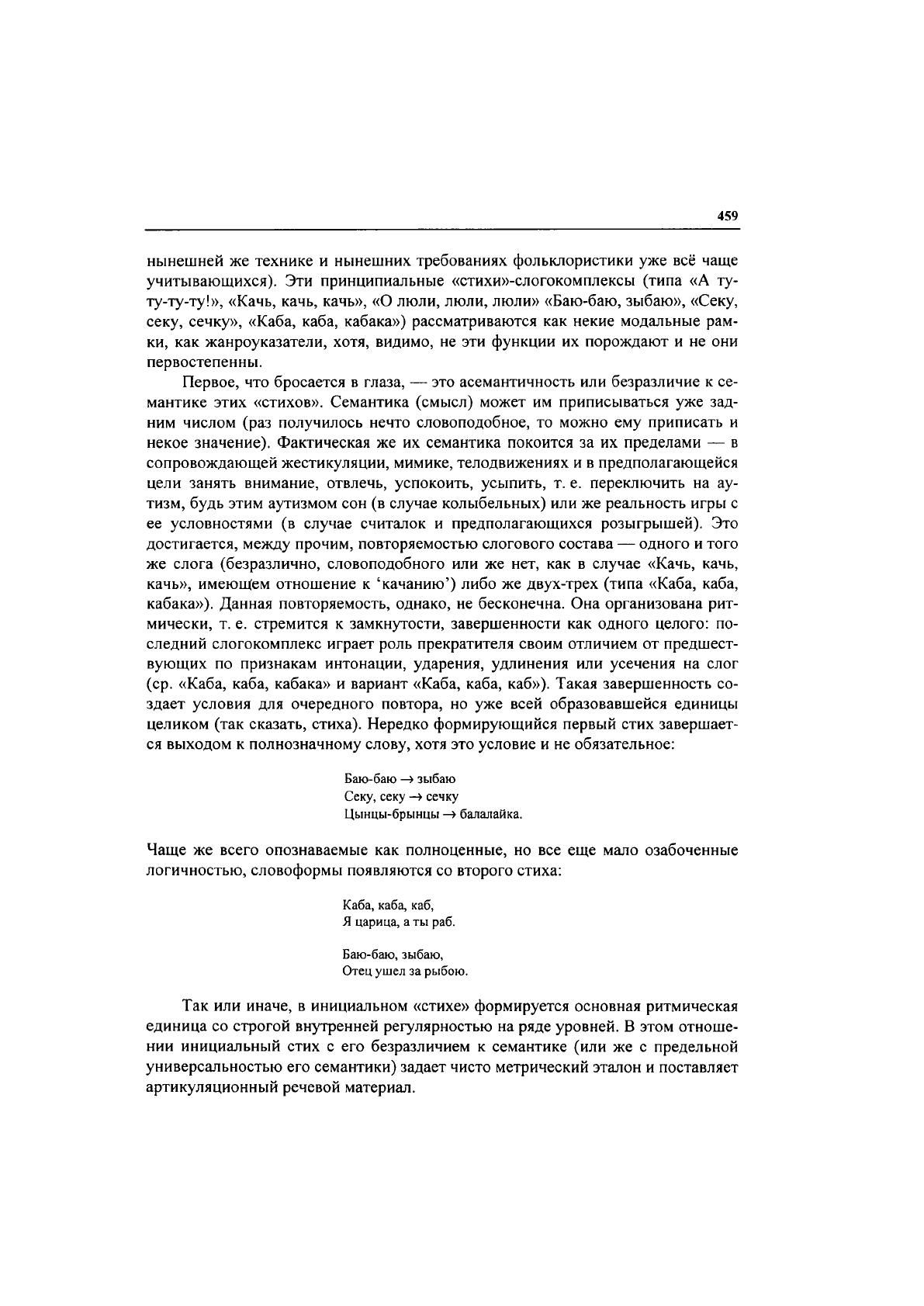
459
нынешней же технике и нынешних требованиях фольклористики уже всё чаще
учитывающихся). Эти принципиальные «стихи»-слогокомплексы (типа «А ту-
ту-ту-ту!», «Качь, качь, качь», «О л юл и, л юл и, л юл и» «Баю-баю, зыбаю», «Секу,
секу, сечку», «Каба, каба, кабака») рассматриваются как некие модальные рам-
ки, как жанроуказатели, хотя, видимо, не эти функции их порождают и не они
первостепенны.
Первое, что бросается в глаза, — это асемантичность или безразличие к се-
мантике этих «стихов». Семантика (смысл) может им приписываться уже зад-
ним числом (раз получилось нечто словоподобное, то можно ему приписать и
некое значение). Фактическая же их семантика покоится за их пределами — в
сопровождающей жестикуляции, мимике, телодвижениях и в предполагающейся
цели занять внимание, отвлечь, успокоить, усыпить, т. е. переключить на ау-
тизм, будь этим аутизмом сон (в случае колыбельных) или же реальность игры с
ее условностями (в случае считалок и предполагающихся розыгрышей). Это
достигается, между прочим, повторяемостью слогового состава — одного и того
же слога (безразлично, словоподобного или же нет, как в случае «Качь, качь,
качь», имеющем отношение к 'качанию') либо же двух-трех (типа «Каба, каба,
кабака»). Данная повторяемость, однако, не бесконечна. Она организована рит-
мически, т. е. стремится к замкнутости, завершенности как одного целого: по-
следний слогокомплекс играет роль прекратителя своим отличием от предшест-
вующих по признакам интонации, ударения, удлинения или усечения на слог
(ср. «Каба, каба, кабака» и вариант «Каба, каба, каб»). Такая завершенность со-
здает условия для очередного повтора, но уже всей образовавшейся единицы
целиком (так сказать, стиха). Нередко формирующийся первый стих завершает-
ся выходом к полнозначному слову, хотя это условие и не обязательное:
Баю-баю
—>
зыбаю
Секу, секу сечку
Цынцы-брынцы
—»
балалайка.
Чаще же всего опознаваемые как полноценные, но все еще мало озабоченные
логичностью, словоформы появляются со второго стиха:
Каба, каба, каб,
Я царица, а ты раб.
Баю-баю, зыбаю,
Отец ушел за рыбою.
Так или иначе, в инициальном «стихе» формируется основная ритмическая
единица со строгой внутренней регулярностью на ряде уровней. В этом отноше-
нии инициальный стих с его безразличием к семантике (или же с предельной
универсальностью его семантики) задает чисто метрический эталон и поставляет
артикуляционный речевой материал.
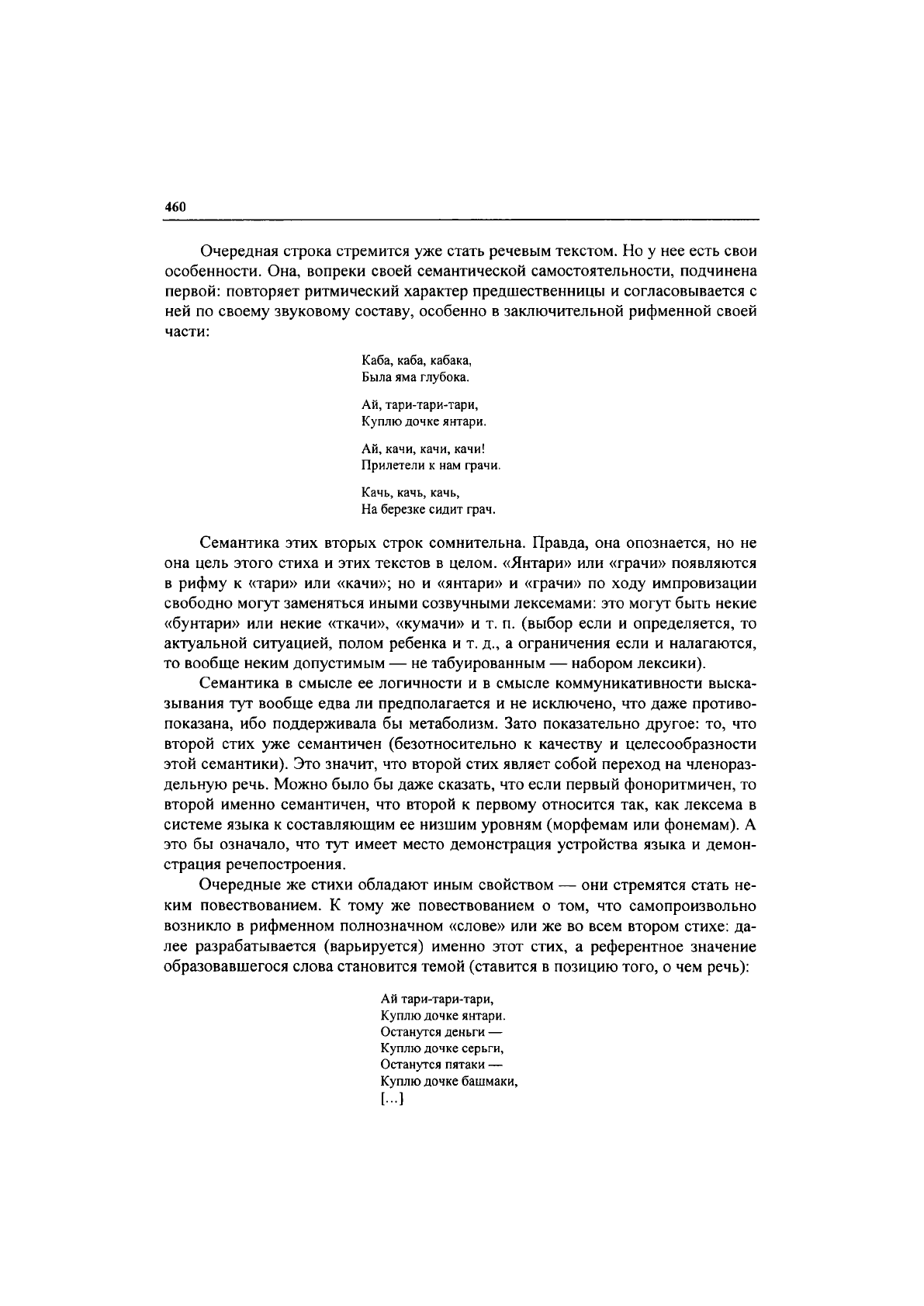
460
Очередная строка стремится уже стать речевым текстом. Но у нее есть свои
особенности. Она, вопреки своей семантической самостоятельности, подчинена
первой: повторяет ритмический характер предшественницы и согласовывается с
ней по своему звуковому составу, особенно в заключительной рифменной своей
части:
Каба, каба, кабака,
Была яма глубока.
Ай, тари-тари-тари,
Куплю дочке янтари.
Ай, качи, качи, качи!
Прилетели к нам грачи.
Качь, качь, качь,
На березке сидит грач.
Семантика этих вторых строк сомнительна. Правда, она опознается, но не
она цель этого стиха и этих текстов в целом. «Янтари» или «грачи» появляются
в рифму к «тари» или «качи»; но и «янтари» и «грачи» по ходу импровизации
свободно могут заменяться иными созвучными лексемами: это могут быть некие
«бунтари» или некие «ткачи», «кумачи» и т. п. (выбор если и определяется, то
актуальной ситуацией, полом ребенка и т. д., а ограничения если и налагаются,
то вообще неким допустимым — не табуированным — набором лексики).
Семантика в смысле ее логичности и в смысле коммуникативности выска-
зывания тут вообще едва ли предполагается и не исключено, что даже противо-
показана, ибо поддерживала бы метаболизм. Зато показательно другое: то, что
второй стих уже семантичен (безотносительно к качеству и целесообразности
этой семантики). Это значит, что второй стих являет собой переход на членораз-
дельную речь. Можно было бы даже сказать, что если первый фоноритмичен, то
второй именно семантичен, что второй к первому относится так, как лексема в
системе языка к составляющим ее низшим уровням (морфемам или фонемам). А
это бы означало, что тут имеет место демонстрация устройства языка и демон-
страция речепостроения.
Очередные же стихи обладают иным свойством — они стремятся стать не-
ким повествованием. К тому же повествованием о том, что самопроизвольно
возникло в рифменном полнозначном «слове» или же во всем втором стихе: да-
лее разрабатывается (варьируется) именно этот стих, а референтное значение
образовавшегося слова становится темой (ставится в позицию того, о чем речь):
Ай тари-тари-тари,
Куплю дочке янтари.
Останутся деньги —
Куплю дочке серьги,
Останутся пятаки —
Куплю дочке башмаки,
[...]
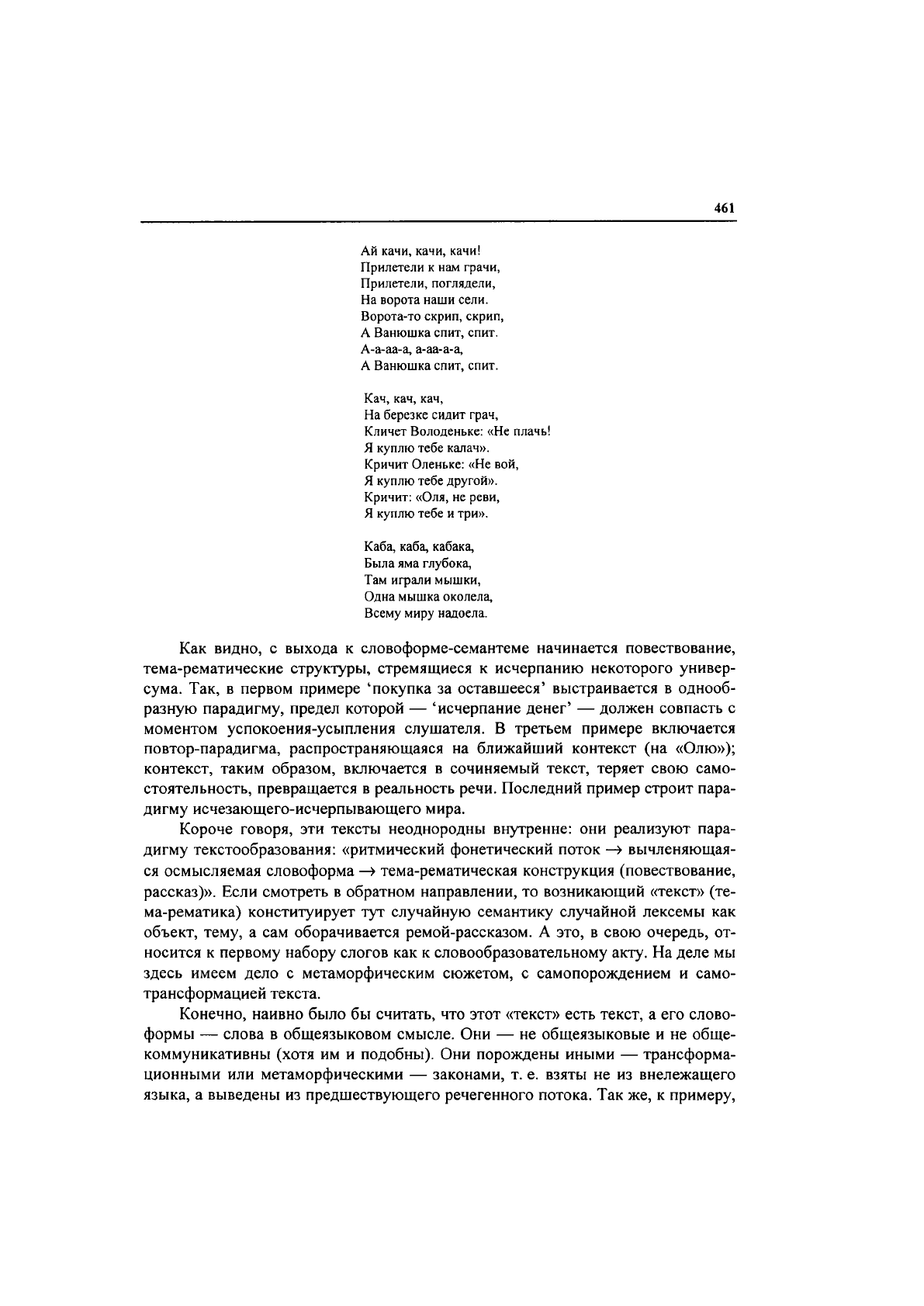
461
Ай качи, качи, качи!
Прилетели к нам грачи,
Прилетели, поглядели,
На ворота наши сели.
Ворота-то скрип, скрип,
А Ванюшка спит, спит.
А-а-аа-а, а-аа-а-а,
А Ванюшка спит, спит.
Кач, кач, кач,
На березке сидит грач,
Кличет Володеньке: «Не плачь!
Я куплю тебе калач».
Кричит Оленьке: «Не вой,
Я куплю тебе другой».
Кричит: «Оля, не реви,
Я куплю тебе и три».
Каба, каба, кабака,
Была яма глубока,
Там играли мышки,
Одна мышка околела,
Всему миру надоела.
Как видно, с выхода к словоформе-семантеме начинается повествование,
тема-рематические структуры, стремящиеся к исчерпанию некоторого универ-
сума. Так, в первом примере 'покупка за оставшееся' выстраивается в однооб-
разную парадигму, предел которой — 'исчерпание денег' — должен совпасть с
моментом успокоения-усыпления слушателя. В третьем примере включается
повтор-парадигма, распространяющаяся на ближайший контекст (на «Олю»);
контекст, таким образом, включается в сочиняемый текст, теряет свою само-
стоятельность, превращается в реальность речи. Последний пример строит пара-
дигму исчезающего-исчерпывающего мира.
Короче говоря, эти тексты неоднородны внутренне: они реализуют пара-
дигму текстообразования: «ритмический фонетический поток —> вычленяющая-
ся осмысляемая словоформа
—>
тема-рематическая конструкция (повествование,
рассказ)». Если смотреть в обратном направлении, то возникающий «текст» (те-
ма-рематика) конституирует тут случайную семантику случайной лексемы как
объект, тему, а сам оборачивается ремой-рассказом. А это, в свою очередь, от-
носится к первому набору слогов как к словообразовательному акту. На деле мы
здесь имеем дело с метаморфическим сюжетом, с самопорождением и само-
трансформацией текста.
Конечно, наивно было бы считать, что этот «текст» есть текст, а его слово-
формы — слова в общеязыковом смысле. Они — не общеязыковые и не обще-
коммуникативны (хотя им и подобны). Они порождены иными — трансформа-
ционными или метаморфическими — законами, т. е. взяты не из внележащего
языка, а выведены из предшествующего речегенного потока. Так же, к примеру,
