Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

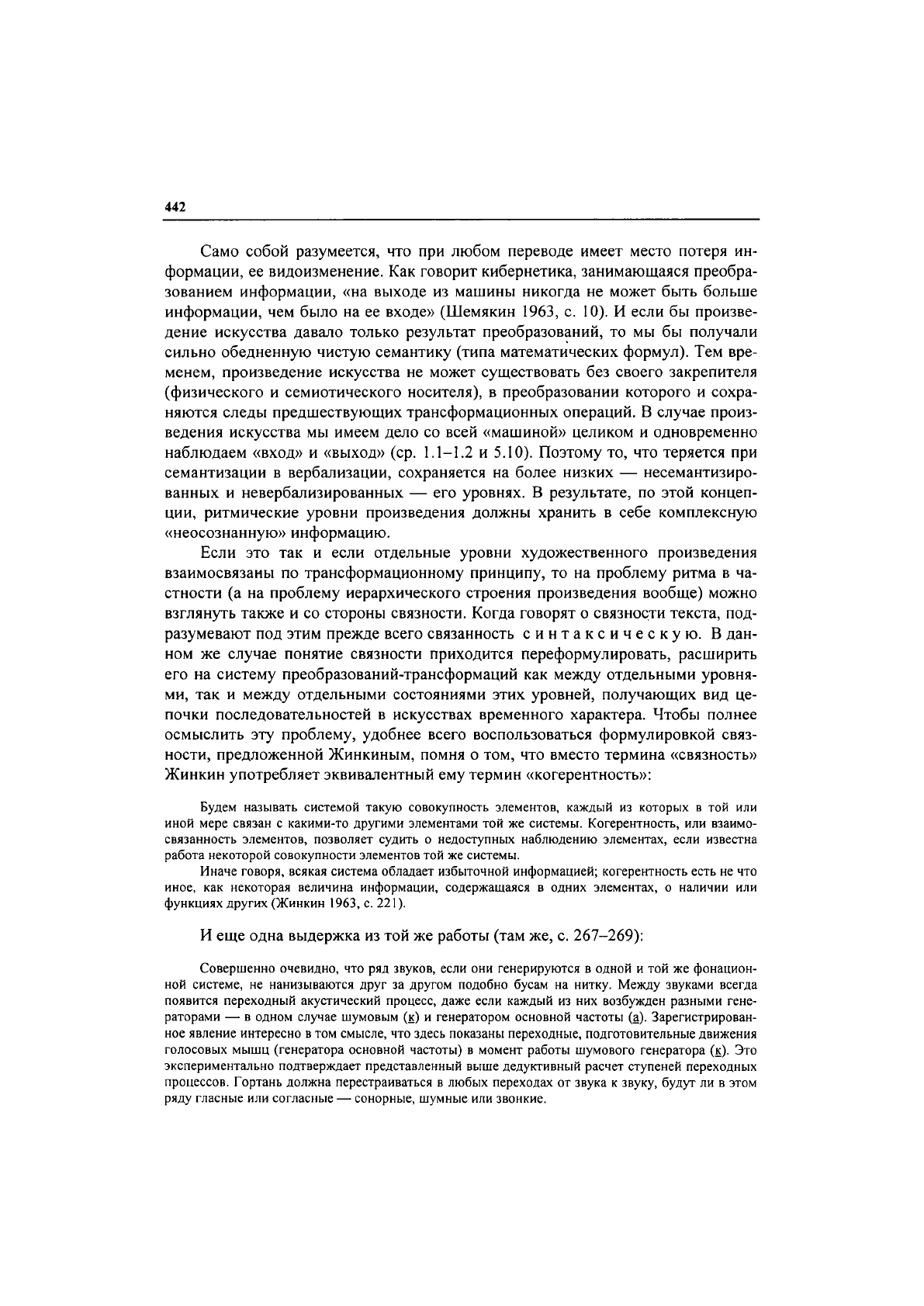
442
Само собой разумеется, что при любом переводе имеет место потеря ин-
формации, ее видоизменение. Как говорит кибернетика, занимающаяся преобра-
зованием информации, «на выходе из машины никогда не может быть больше
информации, чем было на ее входе» (Шемякин 1963, с. 10). И если бы произве-
дение искусства давало только результат преобразований, то мы бы получали
сильно обедненную чистую семантику (типа математических формул). Тем вре-
менем, произведение искусства не может существовать без своего закрепителя
(физического и семиотического носителя), в преобразовании которого и сохра-
няются следы предшествующих трансформационных операций. В случае произ-
ведения искусства мы имеем дело со всей «машиной» целиком и одновременно
наблюдаем «вход» и «выход» (ср. 1.1-1.2 и 5.10). Поэтому то, что теряется при
семантизации в вербализации, сохраняется на более низких — несемантизиро-
ванных и невербализированных — его уровнях. В результате, по этой концеп-
ции, ритмические уровни произведения должны хранить в себе комплексную
«неосознанную» информацию.
Если это так и если отдельные уровни художественного произведения
взаимосвязаны по трансформационному принципу, то на проблему ритма в ча-
стности (а на проблему иерархического строения произведения вообще) можно
взглянуть также и со стороны связности. Когда говорят о связности текста, под-
разумевают под этим прежде всего связанность синтаксическую. В дан-
ном же случае понятие связности приходится переформулировать, расширить
его на систему преобразований-трансформаций как между отдельными уровня-
ми, так и между отдельными состояниями этих уровней, получающих вид це-
почки последовательностей в искусствах временного характера. Чтобы полнее
осмыслить эту проблему, удобнее всего воспользоваться формулировкой связ-
ности, предложенной Жинкиным, помня о том, что вместо термина «связность»
Жинкин употребляет эквивалентный ему термин «когерентность»:
Будем называть системой такую совокупность элементов, каждый из которых в той или
иной мере связан с какими-то другими элементами той же системы. Когерентность, или взаимо-
связанность элементов, позволяет судить о недоступных наблюдению элементах, если известна
работа некоторой совокупности элементов той же системы.
Иначе говоря, всякая система обладает избыточной информацией; когерентность есть не что
иное, как некоторая величина информации, содержащаяся в одних элементах, о наличии или
функциях других (Жинкин 1963, с. 221).
И еще одна выдержка из той же работы (там же, с. 267-269):
Совершенно очевидно, что ряд звуков, если они генерируются в одной и той же фонацион-
ной системе, не нанизываются друг за другом подобно бусам на нитку. Между звуками всегда
появится переходный акустический процесс, даже если каждый из них возбужден разными гене-
раторами — в одном случае шумовым (к) и генератором основной частоты (а). Зарегистрирован-
ное явление интересно в том смысле, что здесь показаны переходные, подготовительные движения
голосовых мышц (генератора основной частоты) в момент работы шумового генератора (к). Это
экспериментально подтверждает представленный выше дедуктивный расчет ступеней переходных
процессов. Гортань должна перестраиваться в любых переходах от звука к звуку, будут ли в этом
ряду гласные или согласные — сонорные, шумные или звонкие.
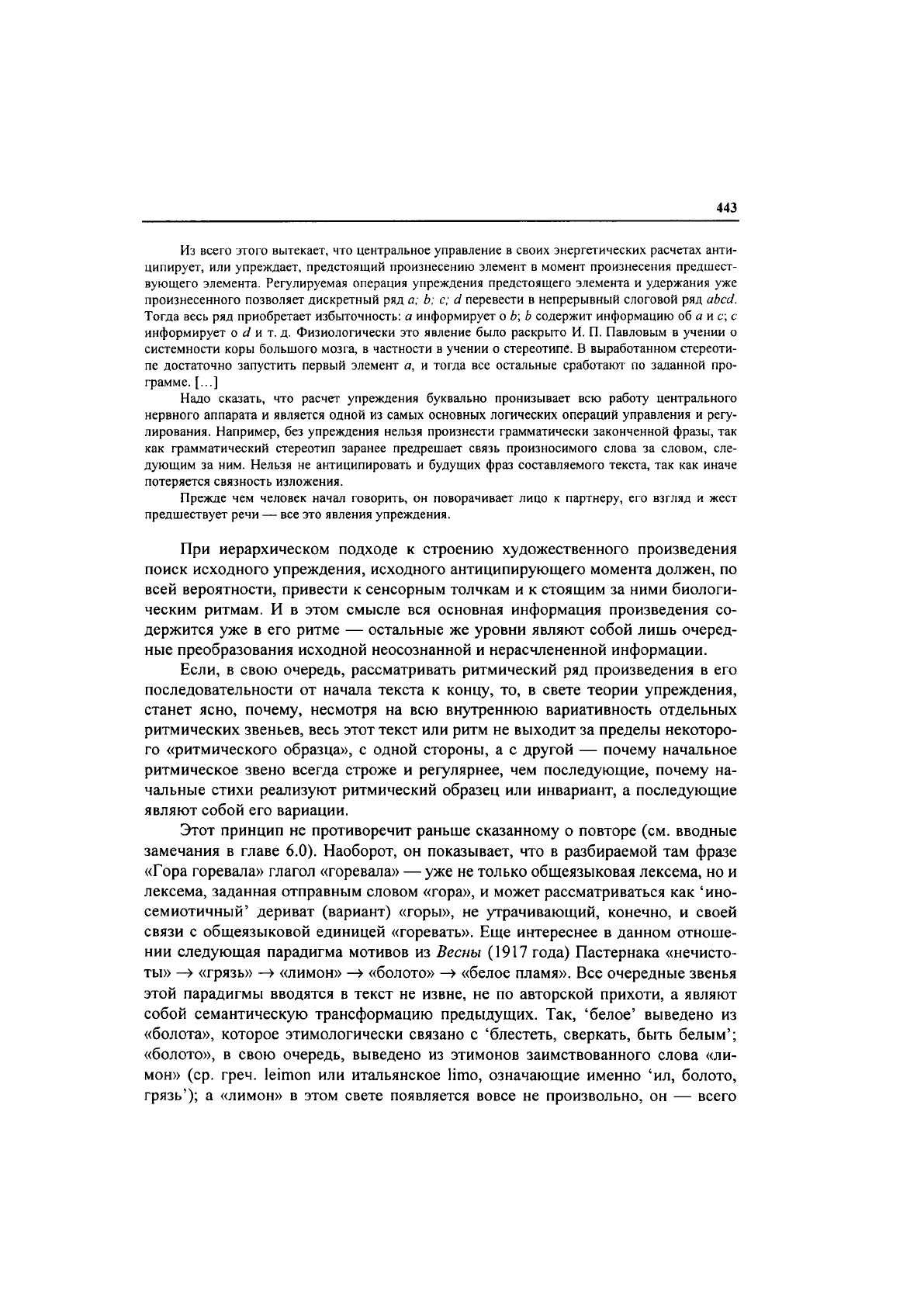
443
Из всего этого вытекает, что центральное управление в своих энергетических расчетах анти-
ципирует, или упреждает, предстоящий произнесению элемент в момент произнесения предшест-
вующего элемента. Регулируемая операция упреждения предстоящего элемента и удержания уже
произнесенного позволяет дискретный ряд а; Ь; с; d перевести в непрерывный слоговой ряд abed.
Тогда весь ряд приобретает избыточность: а информирует о
Ъ\
b содержит информацию об а и с; с
информирует о d и т. д. Физиологически это явление было раскрыто И. П. Павловым в учении о
системности коры большого мозга, в частности в учении о стереотипе. В выработанном стереоти-
пе достаточно запустить первый элемент а, и тогда все остальные сработают по заданной про-
грамме. [...]
Надо сказать, что расчет упреждения буквально пронизывает всю работу центрального
нервного аппарата и является одной из самых основных логических операций управления и регу-
лирования. Например, без упреждения нельзя произнести грамматически законченной фразы, так
как грамматический стереотип заранее предрешает связь произносимого слова за словом, сле-
дующим за ним. Нельзя не антиципировать и будущих фраз составляемого текста, так как иначе
потеряется связность изложения.
Прежде чем человек начал говорить, он поворачивает лицо к партнеру, его взгляд и жест
предшествует речи — все это явления упреждения.
При иерархическом подходе к строению художественного произведения
поиск исходного упреждения, исходного антиципирующего момента должен, по
всей вероятности, привести к сенсорным толчкам и к стоящим за ними биологи-
ческим ритмам. И в этом смысле вся основная информация произведения со-
держится уже в его ритме — остальные же уровни являют собой лишь очеред-
ные преобразования исходной неосознанной и нерасчлененной информации.
Если, в свою очередь, рассматривать ритмический ряд произведения в его
последовательности от начала текста к концу, то, в свете теории упреждения,
станет ясно, почему, несмотря на всю внутреннюю вариативность отдельных
ритмических звеньев, весь этот текст или ритм не выходит за пределы некоторо-
го «ритмического образца», с одной стороны, а с другой — почему начальное
ритмическое звено всегда строже и регулярнее, чем последующие, почему на-
чальные стихи реализуют ритмический образец или инвариант, а последующие
являют собой его вариации.
Этот принцип не противоречит раньше сказанному о повторе (см. вводные
замечания в главе 6.0). Наоборот, он показывает, что в разбираемой там фразе
«Гора горевала» глагол «горевала» — уже не только общеязыковая лексема, но и
лексема, заданная отправным словом «гора», и может рассматриваться как 'ино-
семиотичный' дериват (вариант) «горы», не утрачивающий, конечно, и своей
связи с общеязыковой единицей «горевать». Еще интереснее в данном отноше-
нии следующая парадигма мотивов из Весны (1917 года) Пастернака «нечисто-
ты» —> «грязь» —> «лимон» —> «болото» —> «белое пламя». Все очередные звенья
этой парадигмы вводятся в текст не извне, не по авторской прихоти, а являют
собой семантическую трансформацию предыдущих. Так, 'белое' выведено из
«болота», которое этимологически связано с 'блестеть, сверкать, быть белым';
«болото», в свою очередь, выведено из этимонов заимствованного слова «ли-
мон» (ср. греч. leimon или итальянское limo, означающие именно 'ил, болото,
грязь'); а «лимон» в этом свете появляется вовсе не произвольно, он — всего
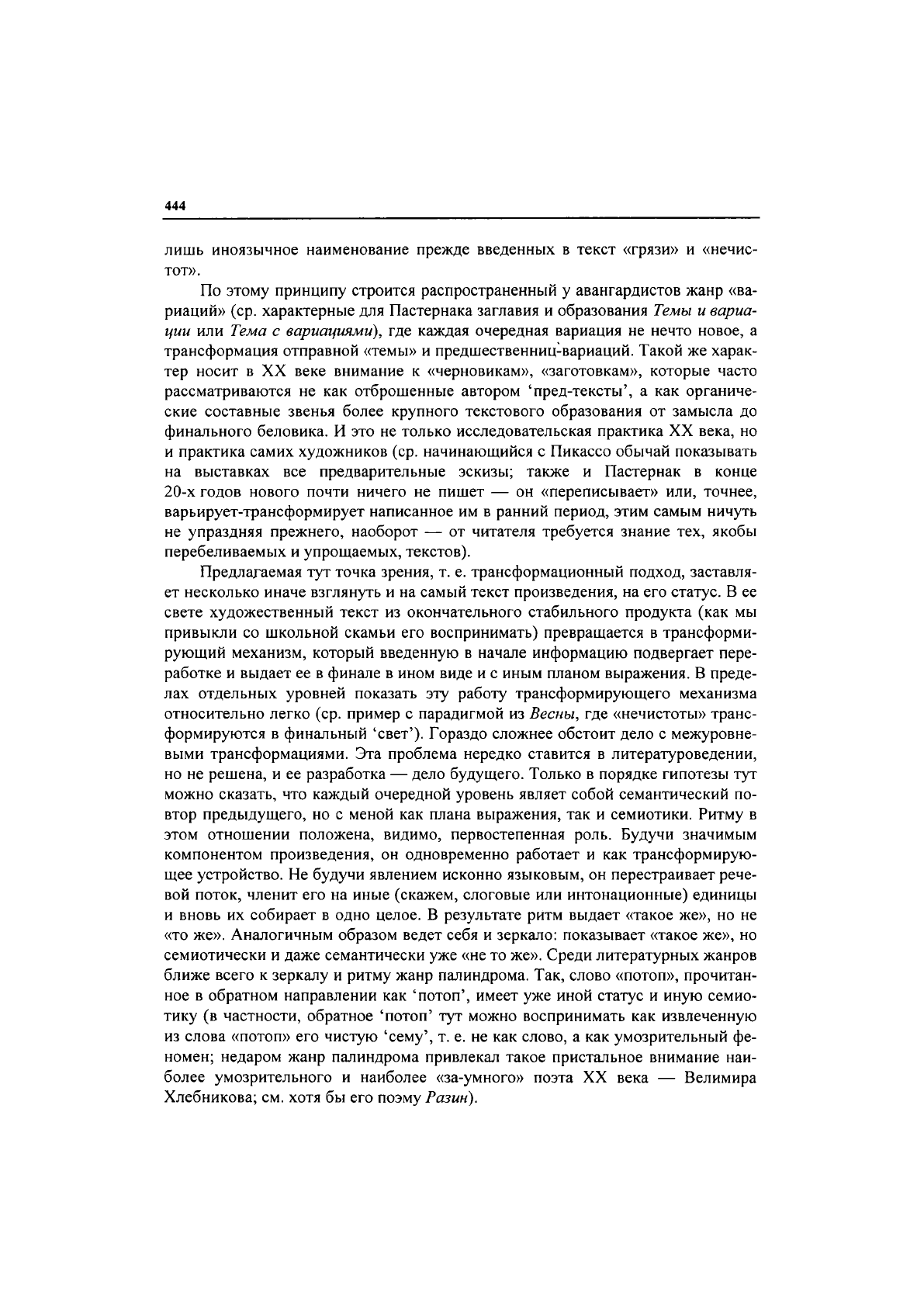
444
лишь иноязычное наименование прежде введенных в текст «грязи» и «нечис-
тот».
По этому принципу строится распространенный у авангардистов жанр «ва-
риаций» (ср. характерные для Пастернака заглавия и образования Темы и вариа-
ции или Тема с вариациями), где каждая очередная вариация не нечто новое, а
трансформация отправной «темы» и предшественниц-вариаций. Такой же харак-
тер носит в XX веке внимание к «черновикам», «заготовкам», которые часто
рассматриваются не как отброшенные автором 'пред-тексты', а как органиче-
ские составные звенья более крупного текстового образования от замысла до
финального беловика. И это не только исследовательская практика XX века, но
и практика самих художников (ср. начинающийся с Пикассо обычай показывать
на выставках все предварительные эскизы; также и Пастернак в конце
20-х годов нового почти ничего не пишет — он «переписывает» или, точнее,
варьирует-трансформирует написанное им в ранний период, этим самым ничуть
не упраздняя прежнего, наоборот — от читателя требуется знание тех, якобы
перебеливаемых и упрощаемых, текстов).
Предлагаемая тут точка зрения, т. е. трансформационный подход, заставля-
ет несколько иначе взглянуть и на самый текст произведения, на его статус. В ее
свете художественный текст из окончательного стабильного продукта (как мы
привыкли со школьной скамьи его воспринимать) превращается в трансформи-
рующий механизм, который введенную в начале информацию подвергает пере-
работке и выдает ее в финале в ином виде и с иным планом выражения. В преде-
лах отдельных уровней показать эту работу трансформирующего механизма
относительно легко (ср. пример с парадигмой из Весны, где «нечистоты» транс-
формируются в финальный 'свет'). Гораздо сложнее обстоит дело с межуровне-
выми трансформациями. Эта проблема нередко ставится в литературоведении,
но не решена, и ее разработка — дело будущего. Только в порядке гипотезы тут
можно сказать, что каждый очередной уровень являет собой семантический по-
втор предыдущего, но с меной как плана выражения, так и семиотики. Ритму в
этом отношении положена, видимо, первостепенная роль. Будучи значимым
компонентом произведения, он одновременно работает и как трансформирую-
щее устройство. Не будучи явлением исконно языковым, он перестраивает рече-
вой поток, членит его на иные (скажем, слоговые или интонационные) единицы
и вновь их собирает в одно целое. В результате ритм выдает «такое же», но не
«то же». Аналогичным образом ведет себя и зеркало: показывает «такое же», но
семиотически и даже семантически уже «не то же». Среди литературных жанров
ближе всего к зеркалу и ритму жанр палиндрома. Так, слово «потоп», прочитан-
ное в обратном направлений как 'потоп', имеет уже иной статус и иную семио-
тику (в частности, обратное 'потоп' тут можно воспринимать как извлеченную
из слова «потоп» его чистую 'сему', т. е. не как слово, а как умозрительный фе-
номен; недаром жанр палиндрома привлекал такое пристальное внимание наи-
более умозрительного и наиболее «за-умного» поэта XX века — Велимира
Хлебникова; см. хотя бы его поэму Разин).
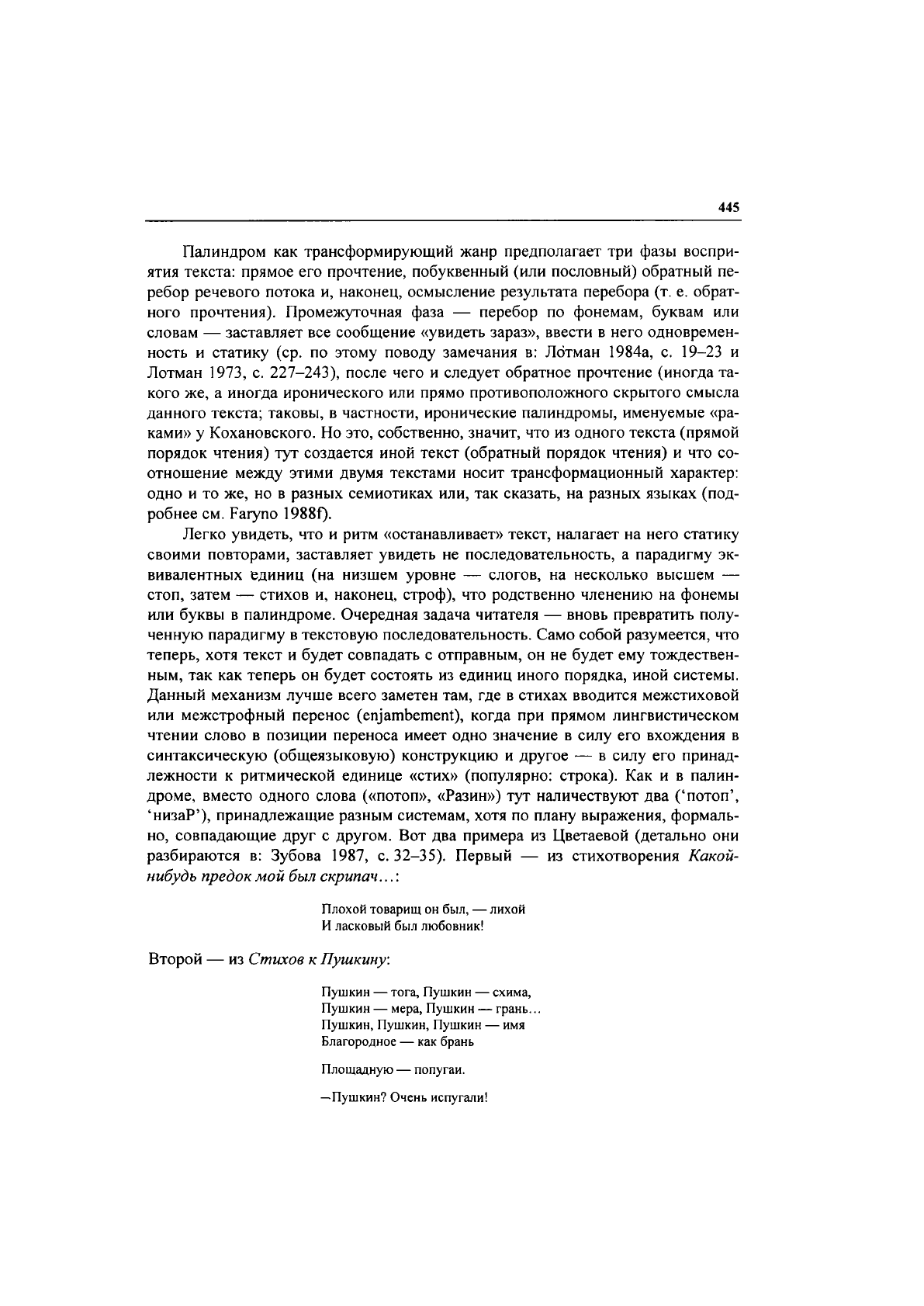
445
Палиндром как трансформирующий жанр предполагает три фазы воспри-
ятия текста: прямое его прочтение, побуквенный (или пословный) обратный пе-
ребор речевого потока и, наконец, осмысление результата перебора (т. е. обрат-
ного прочтения). Промежуточная фаза — перебор по фонемам, буквам или
словам — заставляет все сообщение «увидеть зараз», ввести в него одновремен-
ность и статику (ср. по этому поводу замечания в: Лотман 1984а, с. 19-23 и
Лотман 1973, с. 227-243), после чего и следует обратное прочтение (иногда та-
кого же, а иногда иронического или прямо противоположного скрытого смысла
данного текста; таковы, в частности, иронические палиндромы, именуемые «ра-
ками» у Кохановского. Но это, собственно, значит, что из одного текста (прямой
порядок чтения) тут создается иной текст (обратный порядок чтения) и что со-
отношение между этими двумя текстами носит трансформационный характер:
одно и то же, но в разных семиотиках или, так сказать, на разных языках (под-
робнее см. Faryno 1988f).
Легко увидеть, что и ритм «останавливает» текст, налагает на него статику
своими повторами, заставляет увидеть не последовательность, а парадигму эк-
вивалентных единиц (на низшем уровне — слогов, на несколько высшем —
стоп, затем — стихов и, наконец, строф), что родственно членению на фонемы
или буквы в палиндроме. Очередная задача читателя — вновь превратить полу-
ченную парадигму в текстовую последовательность. Само собой разумеется, что
теперь, хотя текст и будет совпадать с отправным, он не будет ему тождествен-
ным, так как теперь он будет состоять из единиц иного порядка, иной системы.
Данный механизм лучше всего заметен там, где в стихах вводится межстиховой
или межстрофный перенос (enjambement), когда при прямом лингвистическом
чтении слово в позиции переноса имеет одно значение в силу его вхождения в
синтаксическую (общеязыковую) конструкцию и другое — в силу его принад-
лежности к ритмической единице «стих» (популярно: строка). Как и в палин-
дроме, вместо одного слова («потоп», «Разин») тут наличествуют два ('потоп',
'низаР'), принадлежащие разным системам, хотя по плану выражения, формаль-
но, совпадающие друг с другом. Вот два примера из Цветаевой (детально они
разбираются в: Зубова 1987, с. 32-35). Первый — из стихотворения Какой-
нибудь предок мой был скрипач...
\
Плохой товарищ он был, — лихой
И ласковый был любовник!
Второй — из Стихов к Пушкину.
Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань
Площадную — попугаи.
—Пушкин? Очень испугали!
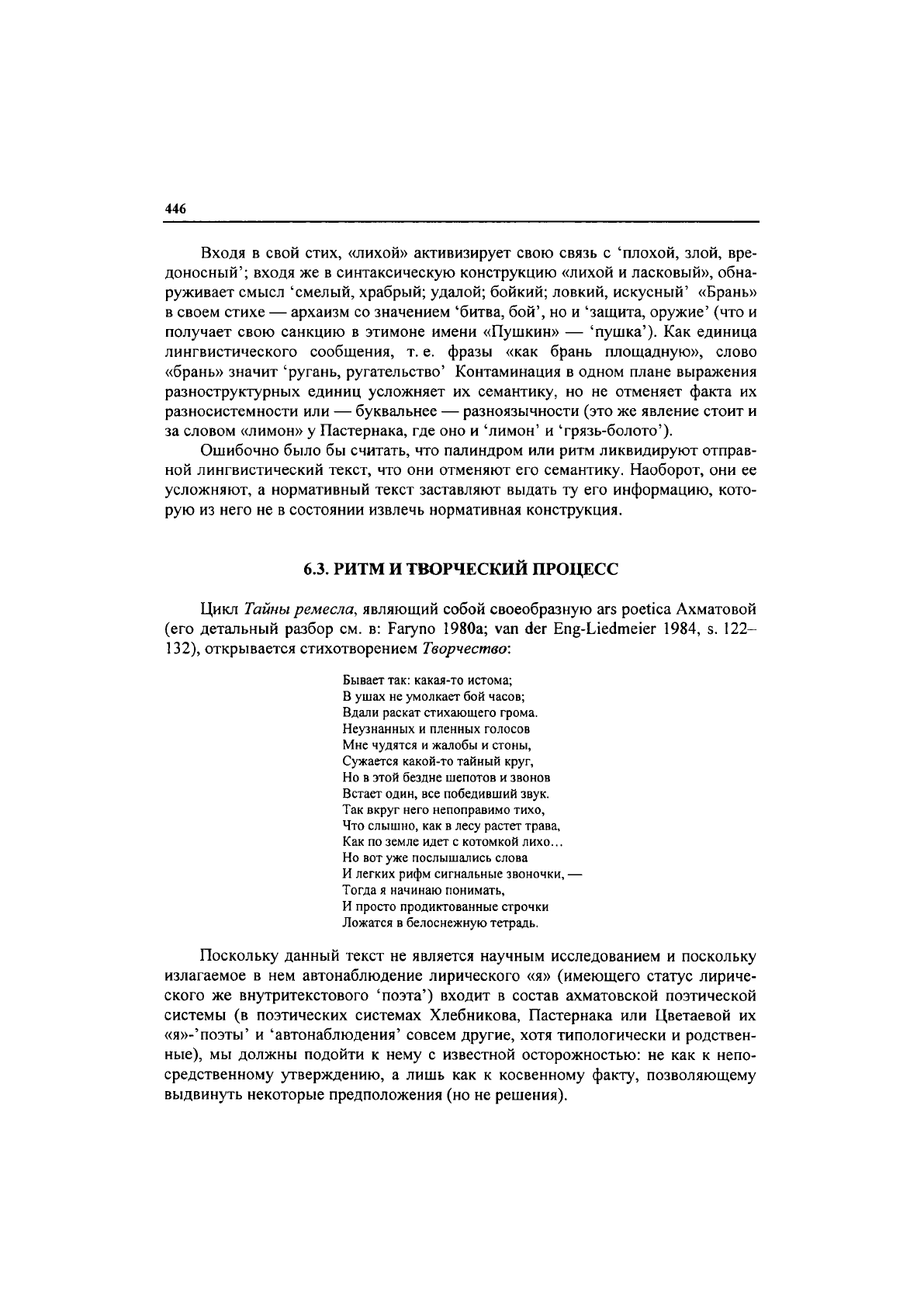
446
Входя в свой стих, «лихой» активизирует свою связь с 'плохой, злой, вре-
доносный'; входя же в синтаксическую конструкцию «лихой и ласковый», обна-
руживает смысл 'смелый, храбрый; удалой; бойкий; ловкий, искусный' «Брань»
в своем стихе — архаизм со значением 'битва, бой', но и 'защита, оружие' (что и
получает свою санкцию в этимоне имени «Пушкин» — 'пушка'). Как единица
лингвистического сообщения, т. е. фразы «как брань площадную», слово
«брань» значит 'ругань, ругательство' Контаминация в одном плане выражения
разноструктурных единиц усложняет их семантику, но не отменяет факта их
разносистемности или — буквальнее — разноязычности (это же явление стоит и
за словом «лимон» у Пастернака, где оно и 'лимон' и 'грязь-болото').
Ошибочно было бы считать, что палиндром или ритм ликвидируют отправ-
ной лингвистический текст, что они отменяют его семантику. Наоборот, они ее
усложняют, а нормативный текст заставляют выдать ту его информацию, кото-
рую из него не в состоянии извлечь нормативная конструкция.
6.3. РИТМ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Цикл Тайны ремесла, являющий собой своеобразную ars poetica Ахматовой
(его детальный разбор см. в: Faryno 1980а; van der Eng-Liedmeier 1984, s. 122—
132), открывается стихотворением Творчество:
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
Поскольку данный текст не является научным исследованием и поскольку
излагаемое в нем автонаблюдение лирического «я» (имеющего статус лириче-
ского же внутритекстового 'поэта') входит в состав ахматовской поэтической
системы (в поэтических системах Хлебникова, Пастернака или Цветаевой их
«я»-'поэты' и 'автонаблюдения' совсем другие, хотя типологически и родствен-
ные), мы должны подойти к нему с известной осторожностью: не как к непо-
средственному утверждению, а лишь как к косвенному факту, позволяющему
выдвинуть некоторые предположения (но не решения).
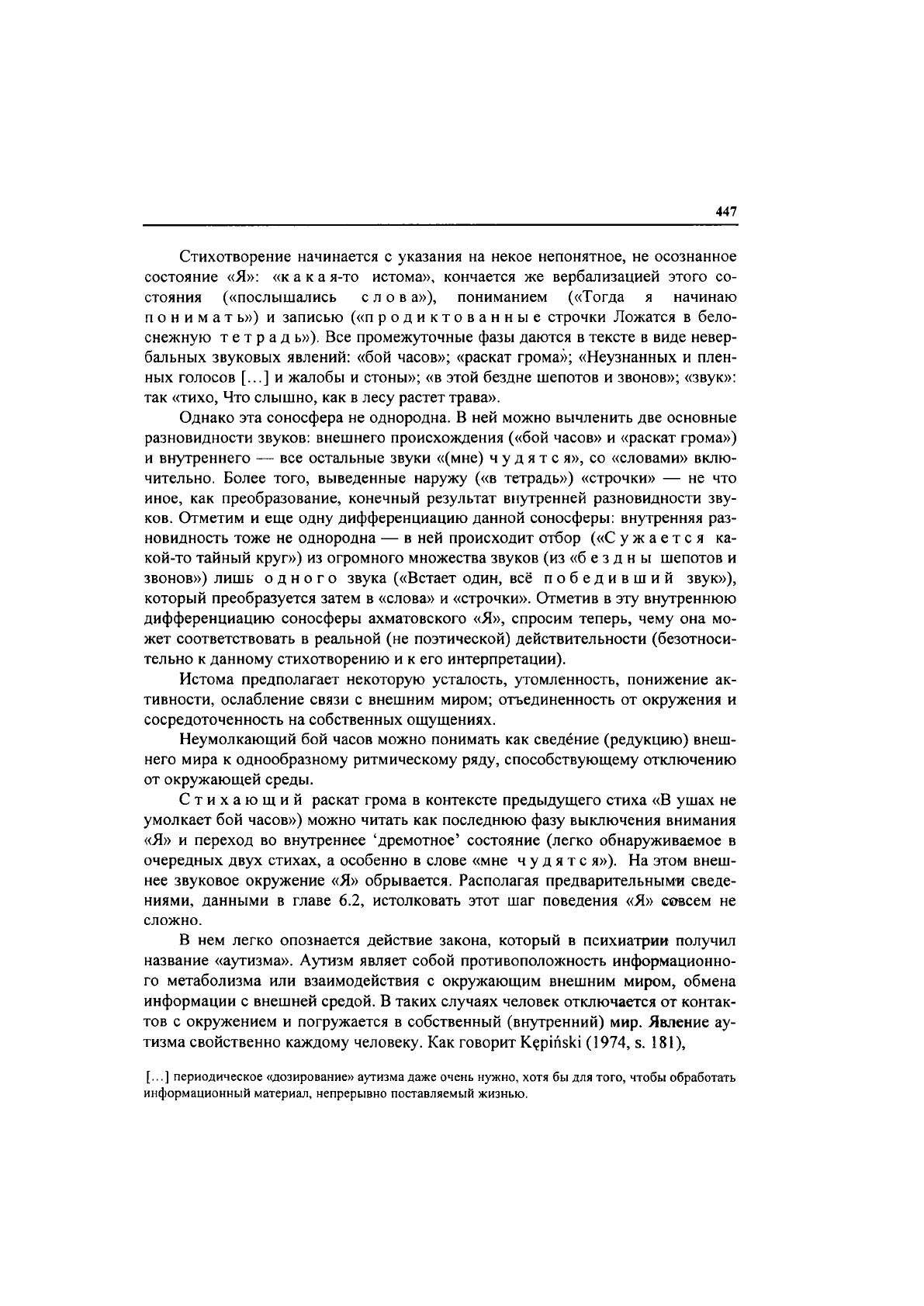
447
Стихотворение начинается с указания на некое непонятное, не осознанное
состояние «Я»: «к а к а я-то истома», кончается же вербализацией этого со-
стояния («послышались слов а»), пониманием («Тогда я начинаю
п о н и м а т ь») и записью («п родиктованные строчки Ложатся в бело-
снежную тетрад ь»). Все промежуточные фазы даются в тексте в виде невер-
бальных звуковых явлений: «бой часов»; «раскат грома»; «Неузнанных и плен-
ных голосов [...] и жалобы и стоны»; «в этой бездне шепотов и звонов»; «звук»:
так «тихо, Что слышно, как в лесу растет трава».
Однако эта соносфера не однородна. В ней можно вычленить две основные
разновидности звуков: внешнего происхождения («бой часов» и «раскат грома»)
и внутреннего — все остальные звуки «(мне) ч у д я т с я», со «словами» вклю-
чительно. Более того, выведенные наружу («в тетрадь») «строчки» — не что
иное, как преобразование, конечный результат внутренней разновидности зву-
ков. Отметим и еще одну дифференциацию данной соносферы: внутренняя раз-
новидность тоже не однородна — в ней происходит отбор («С у ж а е т с я ка-
кой-то тайный круг») из огромного множества звуков (из «бездны шепотов и
звонов») лишь одного звука («Встает один, всё победивший звук»),
который преобразуется затем в «слова» и «строчки». Отметив в эту внутреннюю
дифференциацию соносферы ахматовского «Я», спросим теперь, чему она мо-
жет соответствовать в реальной (не поэтической) действительности (безотноси-
тельно к данному стихотворению и к его интерпретации).
Истома предполагает некоторую усталость, утомленность, понижение ак-
тивности, ослабление связи с внешним миром; отъединенность от окружения и
сосредоточенность на собственных ощущениях.
Неумолкающий бой часов можно понимать как сведение (редукцию) внеш-
него мира к однообразному ритмическому ряду, способствующему отключению
от окружающей среды.
Стихающий раскат грома в контексте предыдущего стиха «В ушах не
умолкает бой часов») можно читать как последнюю фазу выключения внимания
«Я» и переход во внутреннее 'дремотное' состояние (легко обнаруживаемое в
очередных двух стихах, а особенно в слове «мне ч у д я т с я»). На этом внеш-
нее звуковое окружение «Я» обрывается. Располагая предварительными сведе-
ниями, данными в главе 6.2, истолковать этот шаг поведения «Я» совсем не
сложно.
В нем легко опознается действие закона, который в психиатрии получил
название «аутизма». Аутизм являет собой противоположность информационно-
го метаболизма или взаимодействия с окружающим внешним миром> обмена
информации с внешней средой. В таких случаях человек отключается от контак-
тов с окружением и погружается в собственный (внутренний) мир. Явление ау-
тизма свойственно каждому человеку. Как говорит Kępiński (1974, s. 181),
[...] периодическое «дозирование» аутизма даже очень нужно, хотя бы для того, чтобы обработать
информационный материал, непрерывно поставляемый жизнью.
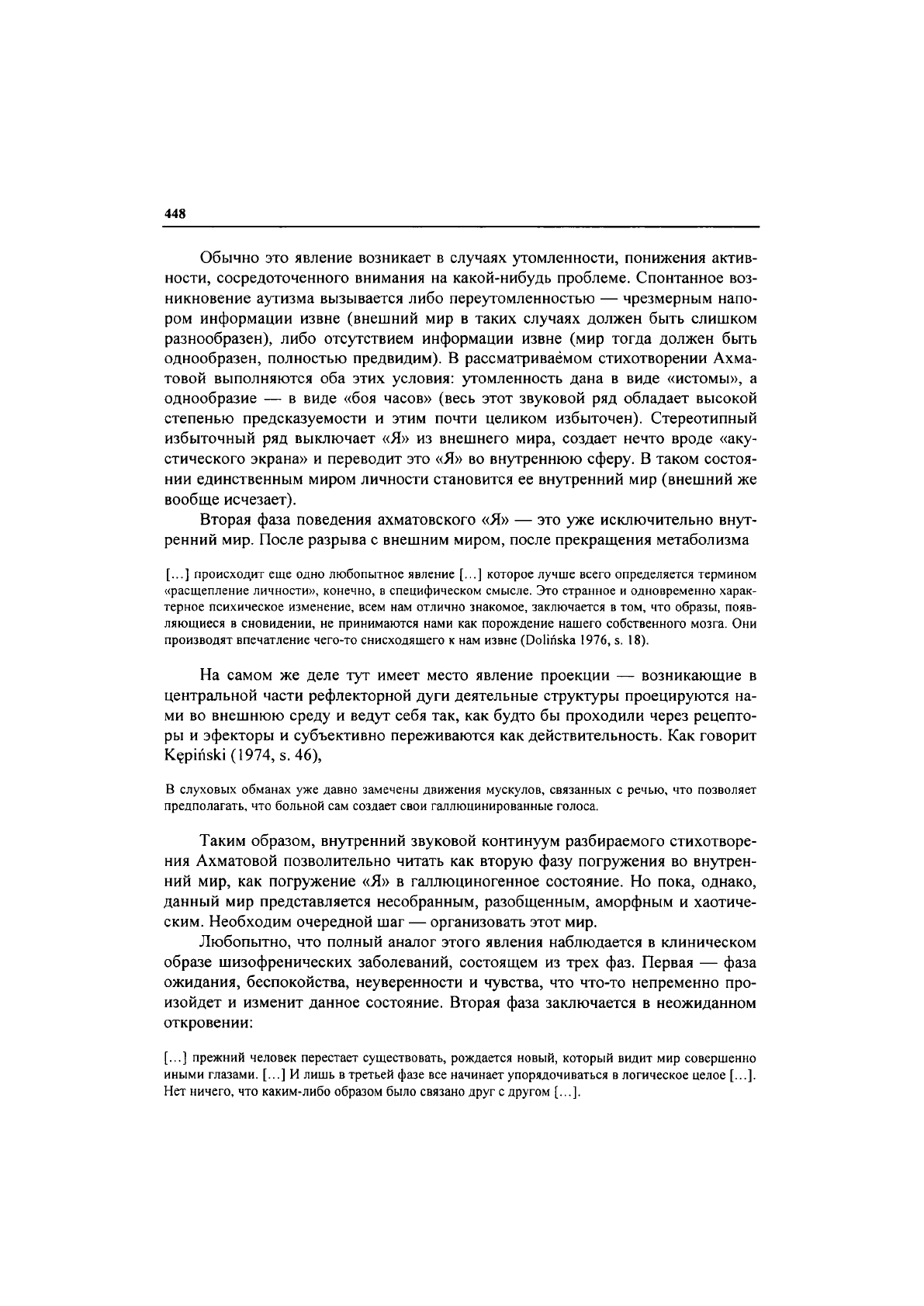
448
Обычно это явление возникает в случаях утомленности, понижения актив-
ности, сосредоточенного внимания на какой-нибудь проблеме. Спонтанное воз-
никновение аутизма вызывается либо переутомленностью — чрезмерным напо-
ром информации извне (внешний мир в таких случаях должен быть слишком
разнообразен), либо отсутствием информации извне (мир тогда должен быть
однообразен, полностью предвидим). В рассматриваемом стихотворении Ахма-
товой выполняются оба этих условия: утомленность дана в виде «истомы», а
однообразие — в виде «боя часов» (весь этот звуковой ряд обладает высокой
степенью предсказуемости и этим почти целиком избыточен). Стереотипный
избыточный ряд выключает «Я» из внешнего мира, создает нечто вроде «аку-
стического экрана» и переводит это «Я» во внутреннюю сферу. В таком состоя-
нии единственным миром личности становится ее внутренний мир (внешний же
вообще исчезает).
Вторая фаза поведения ахматовского «Я» — это уже исключительно внут-
ренний мир. После разрыва с внешним миром, после прекращения метаболизма
[...] происходит еще одно любопытное явление [...] которое лучше всего определяется термином
«расщепление личности», конечно, в специфическом смысле. Это странное и одновременно харак-
терное психическое изменение, всем нам отлично знакомое, заключается в том, что образы, появ-
ляющиеся в сновидении, не принимаются нами как порождение нашего собственного мозга. Они
производят впечатление чего-то снисходящего к нам извне (Dolińska 1976, s. 18).
На самом же деле тут имеет место явление проекции — возникающие в
центральной части рефлекторной дуги деятельные структуры проецируются на-
ми во внешнюю среду и ведут себя так, как будто бы проходили через рецепто-
ры и эфекторы и субъективно переживаются как действительность. Как говорит
Kępiński (1974, s. 46),
В слуховых обманах уже давно замечены движения мускулов, связанных с речью, что позволяет
предполагать, что больной сам создает свои галлюцинированные голоса.
Таким образом, внутренний звуковой континуум разбираемого стихотворе-
ния Ахматовой позволительно читать как вторую фазу погружения во внутрен-
ний мир, как погружение «Я» в галлюциногенное состояние. Но пока, однако,
данный мир представляется несобранным, разобщенным, аморфным и хаотиче-
ским. Необходим очередной шаг — организовать этот мир.
Любопытно, что полный аналог этого явления наблюдается в клиническом
образе шизофренических заболеваний, состоящем из трех фаз. Первая — фаза
ожидания, беспокойства, неуверенности и чувства, что что-то непременно про-
изойдет и изменит данное состояние. Вторая фаза заключается в неожиданном
откровении:
[...] прежний человек перестает существовать, рождается новый, который видит мир совершенно
иными глазами. [...] И лишь в третьей фазе все начинает упорядочиваться в логическое целое [...].
Нет ничего, что каким-либо образом было связано друг с другом [...].
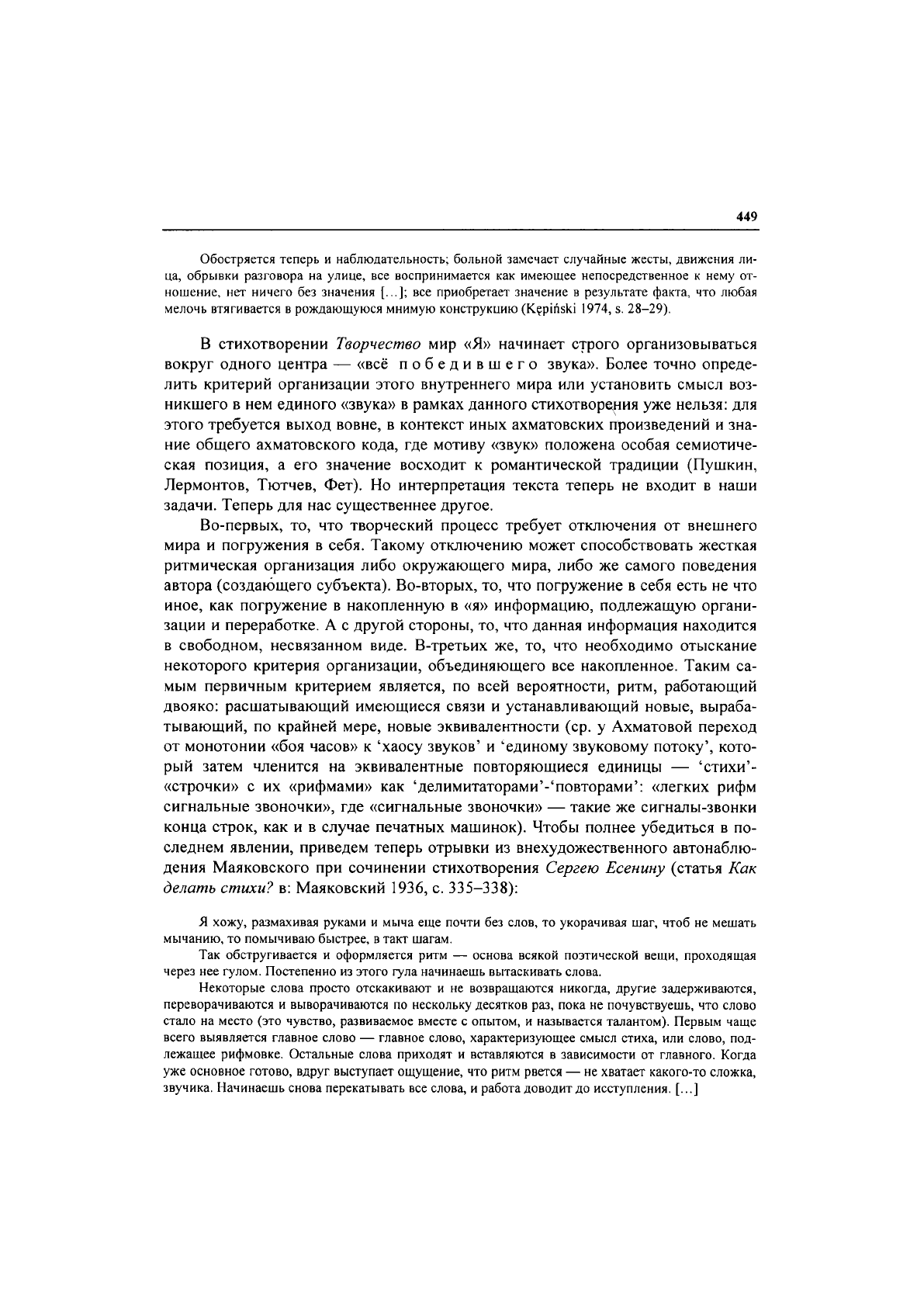
449
Обостряется теперь и наблюдательность; больной замечает случайные жесты, движения ли-
ца, обрывки разговора на улице, все воспринимается как имеющее непосредственное к нему от-
ношение, нет ничего без значения [...]; все приобретает значение в результате факта, что любая
мелочь втягивается в рождающуюся мнимую конструкцию (Kępiński 1974, s. 28-29).
В стихотворении Творчество мир «Я» начинает строго организовываться
вокруг одного центра — «всё победившего звука». Более точно опреде-
лить критерий организации этого внутреннего мира или установить смысл воз-
никшего в нем единого «звука» в рамках данного стихотворения уже нельзя: для
этого требуется выход вовне, в контекст иных ахматовских произведений и зна-
ние общего ахматовского кода, где мотиву «звук» положена особая семиотиче-
ская позиция, а его значение восходит к романтической традиции (Пушкин,
Лермонтов, Тютчев, Фет). Но интерпретация текста теперь не входит в наши
задачи. Теперь для нас существеннее другое.
Во-первых, то, что творческий процесс требует отключения от внешнего
мира и погружения в себя. Такому отключению может способствовать жесткая
ритмическая организация либо окружающего мира, либо же самого поведения
автора (создающего субъекта). Во-вторых, то, что погружение в себя есть не что
иное, как погружение в накопленную в «я» информацию, подлежащую органи-
зации и переработке. А с другой стороны, то, что данная информация находится
в свободном, несвязанном виде. В-третьих же, то, что необходимо отыскание
некоторого критерия организации, объединяющего все накопленное. Таким са-
мым первичным критерием является, по всей вероятности, ритм, работающий
двояко: расшатывающий имеющиеся связи и устанавливающий новые, выраба-
тывающий, по крайней мере, новые эквивалентности (ср. у Ахматовой переход
от монотонии «боя часов» к 'хаосу звуков' и 'единому звуковому потоку', кото-
рый затем членится на эквивалентные повторяющиеся единицы — 'стихи'-
«строчки» с их «рифмами» как 'делимитаторами'-'повторами': «легких рифм
сигнальные звоночки», где «сигнальные звоночки» — такие же сигналы-звонки
конца строк, как и в случае печатных машинок). Чтобы полнее убедиться в по-
следнем явлении, приведем теперь отрывки из внехудожественного автонаблю-
дения Маяковского при сочинении стихотворения Сергею Есенину (статья Как
делать стихи? в: Маяковский 1936, с. 335-338):
Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать
мычанию, то помычиваю быстрее, в такт шагам.
Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая
через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать слова.
Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются,
переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не почувствуешь, что слово
стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом). Первым чаще
всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, под-
лежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда
уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка,
звучика. Начинаешь снова перекатывать все слова, и работа доводит до исступления. [...]
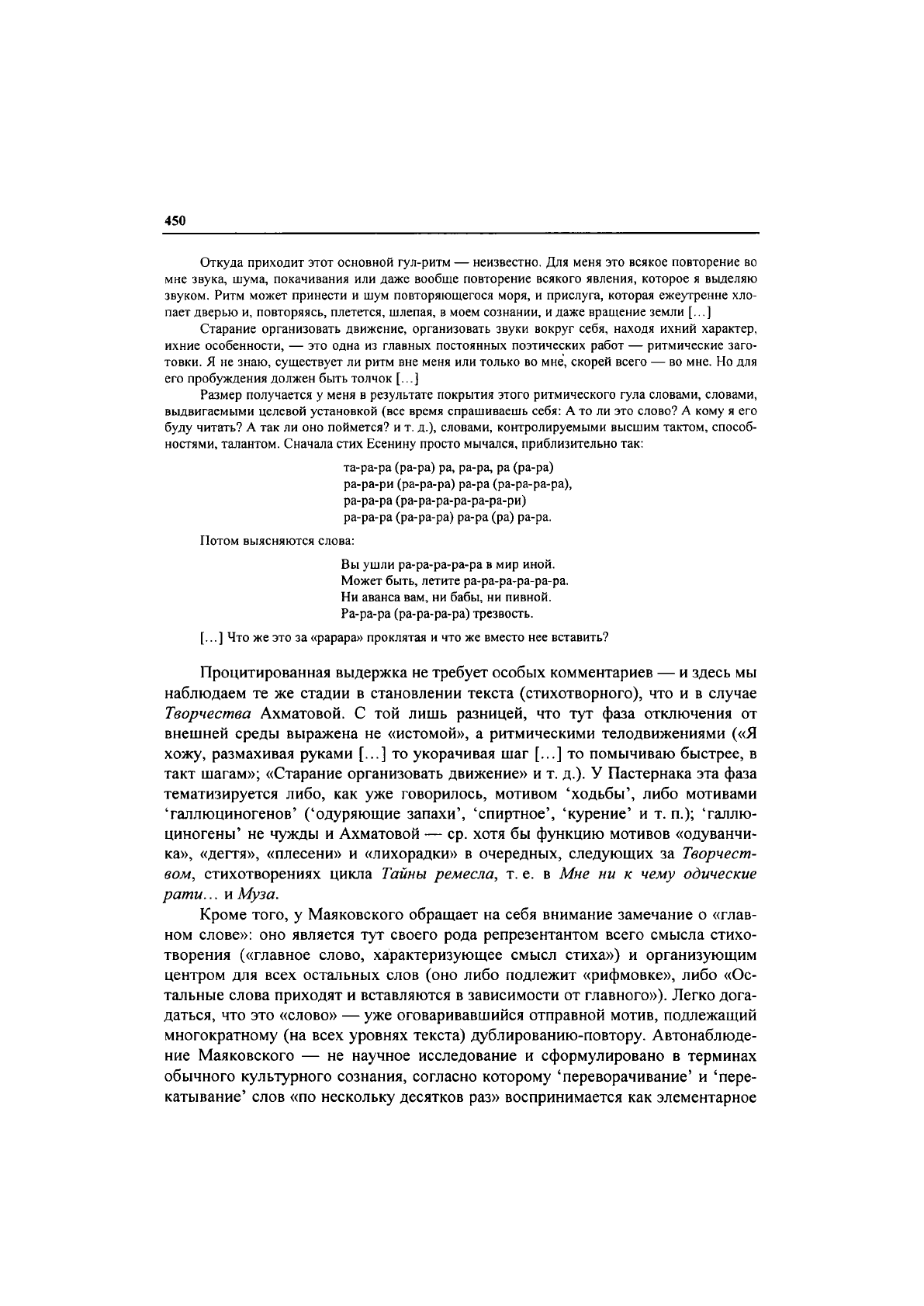
450
Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня это всякое повторение во
мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение всякого явления, которое я выделяю
звуком. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хло-
пает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая, в моем сознании, и даже вращение земли [...]
Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер,
ихние особенности, — это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заго-
товки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего — во мне. Но для
его пробуждения должен быть толчок [...]
Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами,
выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: А то ли это слово? А кому я его
буду читать? А так ли оно поймется? и т. д.), словами, контролируемыми высшим тактом, способ-
ностями, талантом. Сначала стих Есенину просто мычался, приблизительно так:
та-ра-ра (pa-pa) pa, pa-pa, ра (ра-ра)
ра-ра-ри (ра-ра-ра) ра-ра (ра-ра-ра-ра),
ра-ра-ра (ра-ра-ра-ра-ра-ра-ри)
ра-ра-ра (ра-ра-ра) ра-ра (ра) ра-ра.
Потом выясняются слова:
Вы ушли ра-ра-ра-ра-ра в мир иной.
Может быть, летите ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной.
Ра-ра-ра (ра-ра-ра-ра) трезвость.
[...] Что же это за «рарара» проклятая и что же вместо нее вставить?
Процитированная выдержка не требует особых комментариев — и здесь мы
наблюдаем те же стадии в становлении текста (стихотворного), что и в случае
Творчества Ахматовой. С той лишь разницей, что тут фаза отключения от
внешней среды выражена не «истомой», а ритмическими телодвижениями («Я
хожу, размахивая руками [...] то укорачивая шаг [...] то помычиваю быстрее, в
такт шагам»; «Старание организовать движение» и т. д.). У Пастернака эта фаза
тематизируется либо, как уже говорилось, мотивом 'ходьбы', либо мотивами
'галлюциногенов' ('одуряющие запахи', 'спиртное', 'курение' и т. п.); 'галлю-
циногены' не чужды и Ахматовой — ср. хотя бы функцию мотивов «одуванчи-
ка», «дегтя», «плесени» и «лихорадки» в очередных, следующих за Творчест-
вом, стихотворениях цикла Тайны ремесла, т. е. в Мне ни к чему одические
рати... и Муза.
Кроме того, у Маяковского обращает на себя внимание замечание о «глав-
ном слове»: оно является тут своего рода репрезентантом всего смысла стихо-
творения («главное слово, характеризующее смысл стиха») и организующим
центром для всех остальных слов (оно либо подлежит «рифмовке», либо «Ос-
тальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного»). Легко дога-
даться, что это «слово» — уже оговаривавшийся отправной мотив, подлежащий
многократному (на всех уровнях текста) дублированию-повтору. Автонаблюде-
ние Маяковского — не научное исследование и сформулировано в терминах
обычного культурного сознания, согласно которому 'переворачивание' и 'пере-
катывание' слов «по нескольку десятков раз» воспринимается как элементарное
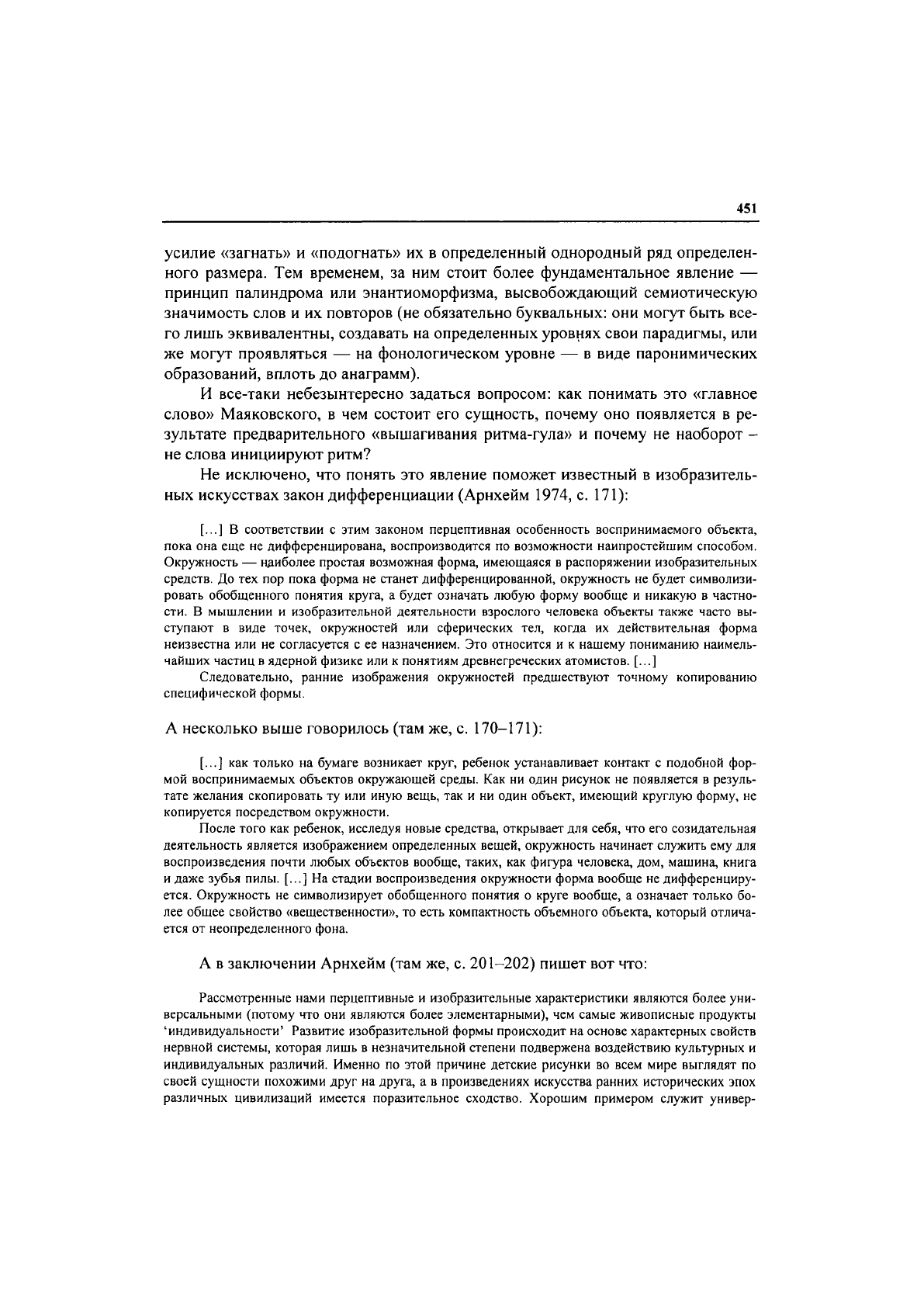
451
усилие «загнать» и «подогнать» их в определенный однородный ряд определен-
ного размера. Тем временем, за ним стоит более фундаментальное явление —
принцип палиндрома или энантиоморфизма, высвобождающий семиотическую
значимость слов и их повторов (не обязательно буквальных: они могут быть все-
го лишь эквивалентны, создавать на определенных уровнях свои парадигмы, или
же могут проявляться — на фонологическом уровне — в виде паронимических
образований, вплоть до анаграмм).
И все-таки небезынтересно задаться вопросом: как понимать это «главное
слово» Маяковского, в чем состоит его сущность, почему оно появляется в ре-
зультате предварительного «вышагивания ритма-гула» и почему не наоборот -
не слова инициируют ритм?
Не исключено, что понять это явление поможет известный в изобразитель-
ных искусствах закон дифференциации (Арнхейм 1974, с. 171):
[...] В соответствии с этим законом перцептивная особенность воспринимаемого объекта,
пока она еще не дифференцирована, воспроизводится по возможности наипростейшим способом.
Окружность — наиболее простая возможная форма, имеющаяся в распоряжении изобразительных
средств. До тех пор пока форма не станет дифференцированной, окружность не будет символизи-
ровать обобщенного понятия круга, а будет означать любую форму вообще и никакую в частно-
сти. В мышлении и изобразительной деятельности взрослого человека объекты также часто вы-
ступают в виде точек, окружностей или сферических тел, когда их действительная форма
неизвестна или не согласуется с ее назначением. Это относится и к нашему пониманию наимель-
чайших частиц в ядерной физике или к понятиям древнегреческих атомистов. [...]
Следовательно, ранние изображения окружностей предшествуют точному копированию
специфической формы.
А несколько выше говорилось (там же, с. 170-171):
[...] как только на бумаге возникает круг, ребенок устанавливает контакт с подобной фор-
мой воспринимаемых объектов окружающей среды. Как ни один рисунок не появляется в резуль-
тате желания скопировать ту или иную вещь, так и ни один объект, имеющий круглую форму, не
копируется посредством окружности.
После того как ребенок, исследуя новые средства, открывает для себя, что его созидательная
деятельность является изображением определенных вещей, окружность начинает служить ему для
воспроизведения почти любых объектов вообще, таких, как фигура человека, дом, машина, книга
и даже зубья пилы. [...] На стадии воспроизведения окружности форма вообще не дифференциру-
ется. Окружность не символизирует обобщенного понятия о круге вообще, а означает только бо-
лее общее свойство «вещественности», то есть компактность объемного объекта, который отлича-
ется от неопределенного фона.
А в заключении Арнхейм (там же, с. 201-202) пишет вот что:
Рассмотренные нами перцептивные и изобразительные характеристики являются более уни-
версальными (потому что они являются более элементарными), чем самые живописные продукты
'индивидуальности' Развитие изобразительной формы происходит на основе характерных свойств
нервной системы, которая лишь в незначительной степени подвержена воздействию культурных и
индивидуальных различий. Именно по этой причине детские рисунки во всем мире выглядят по
своей сущности похожими друг на друга, а в произведениях искусства ранних исторических эпох
различных цивилизаций имеется поразительное сходство. Хорошим примером служит универ-
