Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

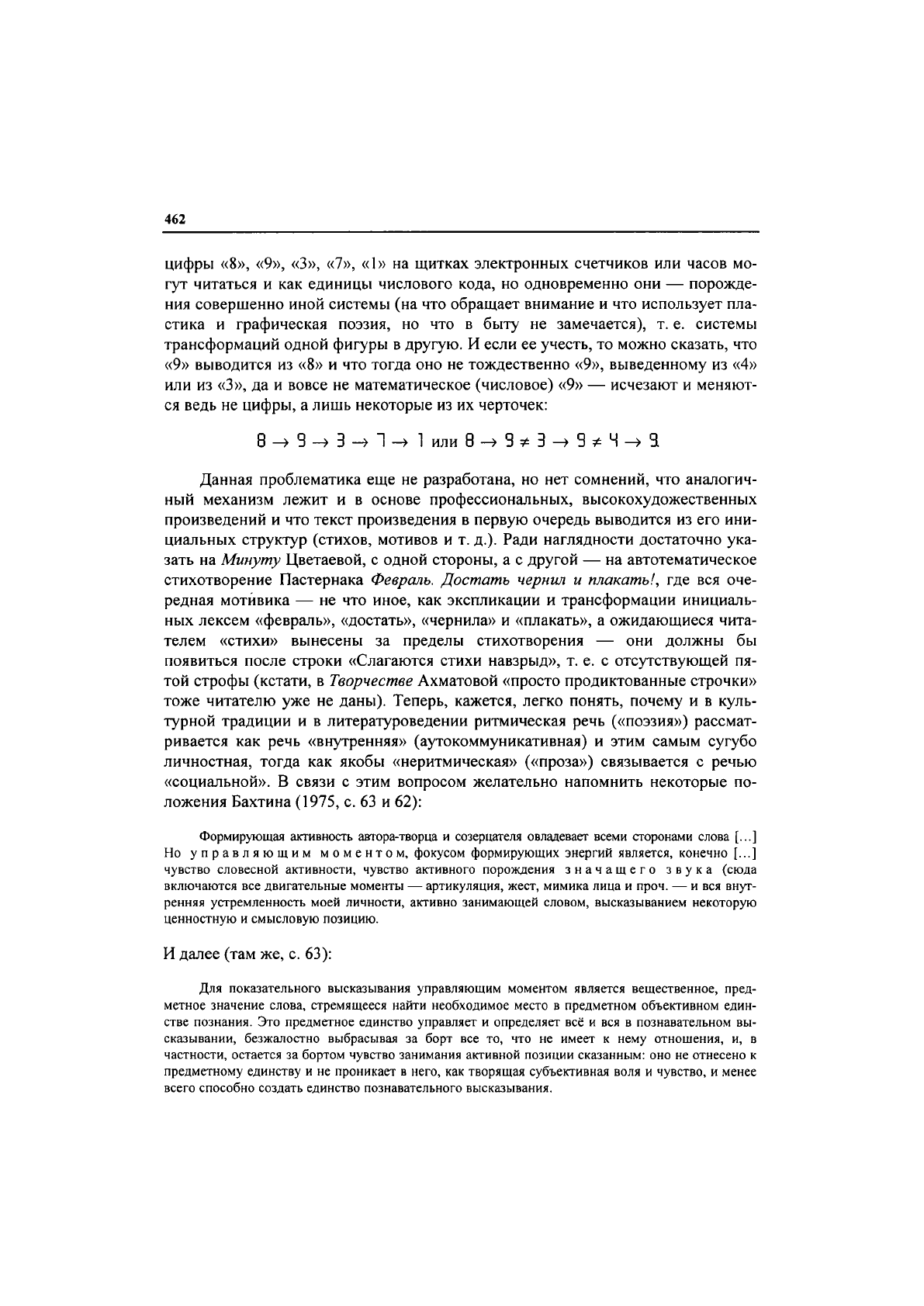
462
цифры «8», «9», «3», «7», «1» на щитках электронных счетчиков или часов мо-
гут читаться и как единицы числового кода, но одновременно они — порожде-
ния совершенно иной системы (на что обращает внимание и что использует пла-
стика и графическая поэзия, но что в быту не замечается), т. е. системы
трансформаций одной фигуры в другую. И если ее учесть, то можно сказать, что
«9» выводится из «8» и что тогда оно не тождественно «9», выведенному из «4»
или из «3», да и вовсе не математическое (числовое) «9» — исчезают и меняют-
ся ведь не цифры, а лишь некоторые из их черточек:
8->9->3->~1-> 1 или 8->9*3_>9*Ч->9.
Данная проблематика еще не разработана, но нет сомнений, что аналогич-
ный механизм лежит и в основе профессиональных, высокохудожественных
произведений и что текст произведения в первую очередь выводится из его ини-
циальных структур (стихов, мотивов и т. д.). Ради наглядности достаточно ука-
зать на Минуту Цветаевой, с одной стороны, а с другой — на автотематическое
стихотворение Пастернака Февраль. Достать чернил и плакать/, где вся оче-
редная мотйвика — не что иное, как экспликации и трансформации инициаль-
ных лексем «февраль», «достать», «чернила» и «плакать», а ожидающиеся чита-
телем «стихи» вынесены за пределы стихотворения — они должны бы
появиться после строки «Слагаются стихи навзрыд», т. е. с отсутствующей пя-
той строфы (кстати, в Творчестве Ахматовой «просто продиктованные строчки»
тоже читателю уже не даны). Теперь, кажется, легко понять, почему и в куль-
турной традиции и в литературоведении ритмическая речь («поэзия») рассмат-
ривается как речь «внутренняя» (аутокоммуникативная) и этим самым сугубо
личностная, тогда как якобы «неритмическая» («проза») связывается с речью
«социальной». В связи с этим вопросом желательно напомнить некоторые по-
ложения Бахтина (1975, с. 63 и 62):
Формирующая активность автора-творца и созерцателя овладевает всеми сторонами слова [...]
Но управляющим моментом, фокусом формирующих энергий является, конечно [...]
чувство словесной активности, чувство активного порождения значащего звука (сюда
включаются все двигательные моменты — артикуляция, жест, мимика лица и проч. — и вся внут-
ренняя устремленность моей личности, активно занимающей словом, высказыванием некоторую
ценностную и смысловую позицию.
И далее (там же, с. 63):
Для показательного высказывания управляющим моментом является вещественное, пред-
метное значение слова, стремящееся найти необходимое место в предметном объективном един-
стве познания. Это предметное единство управляет и определяет всё и вся в познавательном вы-
сказывании, безжалостно выбрасывая за борт все то, что не имеет к нему отношения, и, в
частности, остается за бортом чувство занимания активной позиции сказанным: оно не отнесено к
предметному единству и не проникает в него, как творящая субъективная воля и чувство, и менее
всего способно создать единство познавательного высказывания.
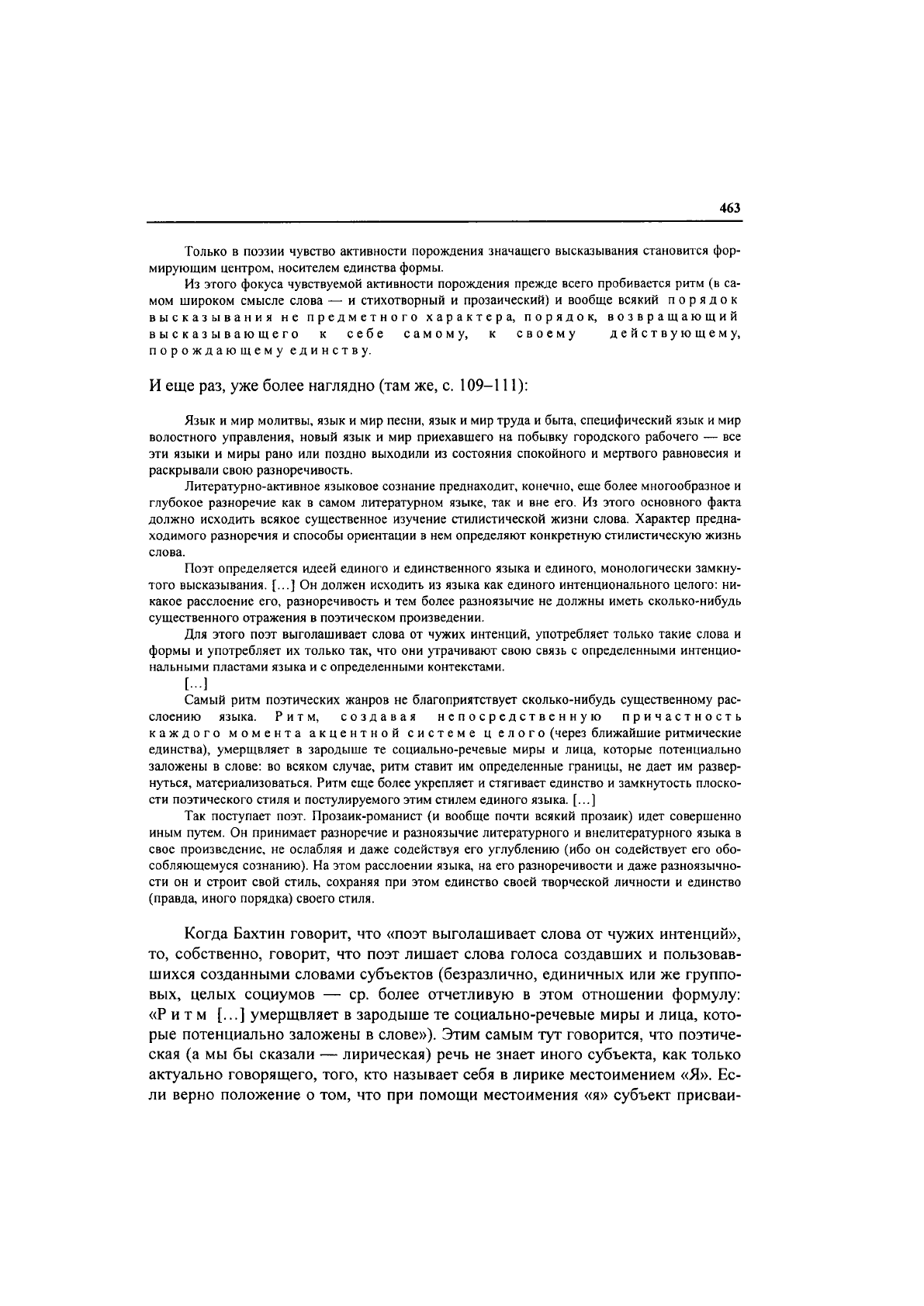
463
Только в поэзии чувство активности порождения значащего высказывания становится фор-
мирующим центром, носителем единства формы.
Из этого фокуса чувствуемой активности порождения прежде всего пробивается ритм (в са-
мом широком смысле слова — и стихотворный и прозаический) и вообще всякий порядок
высказывания не предметного характера, порядок, возвращающий
высказывающего к себе самому, к своему действующему,
порождающему единству.
И еще раз, уже более наглядно (там же, с. 109-111):
Язык и мир молитвы, язык и мир песни, язык и мир труда и быта, специфический язык и мир
волостного управления, новый язык и мир приехавшего на побывку городского рабочего — все
эти языки и миры рано или поздно выходили из состояния спокойного и мертвого равновесия и
раскрывали свою разноречивость.
Литературно-активное языковое сознание преднаходит, конечно, еще более многообразное и
глубокое разноречие как в самом литературном языке, так и вне его. Из этого основного факта
должно исходить всякое существенное изучение стилистической жизни слова. Характер предна-
ходимого разноречия и способы ориентации в нем определяют конкретную стилистическую жизнь
слова.
Поэт определяется идеей единого и единственного языка и единого, монологически замкну-
того высказывания. [...] Он должен исходить из языка как единого интенционального целого: ни-
какое расслоение его, разноречивость и тем более разноязычие не должны иметь сколько-нибудь
существенного отражения в поэтическом произведении.
Для этого поэт выголашивает слова от чужих интенций, употребляет только такие слова и
формы и употребляет их только так, что они утрачивают свою связь с определенными интенцио-
нальными пластами языка и с определенными контекстами.
[-]
Самый ритм поэтических жанров не благоприятствует сколько-нибудь существенному рас-
слоению языка. Ритм, создавая непосредственную причастность
каждого момента акцентной системе целого (через ближайшие ритмические
единства), умерщвляет в зародыше те социально-речевые миры и лица, которые потенциально
заложены в слове: во всяком случае, ритм ставит им определенные границы, не дает им развер-
нуться, материализоваться. Ритм еще более укрепляет и стягивает единство и замкнутость плоско-
сти поэтического стиля и постулируемого этим стилем единого языка. [...]
Так поступает поэт. Прозаик-романист (и вообще почти всякий прозаик) идет совершенно
иным путем. Он принимает разноречие и разноязычие литературного и внелитературного языка в
свое произведение, не ослабляя и даже содействуя его углублению (ибо он содействует его обо-
собляющемуся сознанию). На этом расслоении языка, на его разноречивости и даже разноязычно-
сти он и строит свой стиль, сохраняя при этом единство своей творческой личности и единство
(правда, иного порядка) своего стиля.
Когда Бахтин говорит, что «поэт выголашивает слова от чужих интенций»,
то, собственно, говорит, что поэт лишает слова голоса создавших и пользовав-
шихся созданными словами субъектов (безразлично, единичных или же группо-
вых, целых социумов — ср. более отчетливую в этом отношении формулу:
«Ритм [...] умерщвляет в зародыше те социально-речевые миры и лица, кото-
рые потенциально заложены в слове»). Этим самым тут говорится, что поэтиче-
ская (а мы бы сказали — лирическая) речь не знает иного субъекта, как только
актуально говорящего, того, кто называет себя в лирике местоимением «Я». Ес-
ли верно положение о том, что при помощи местоимения «я» субъект присваи-
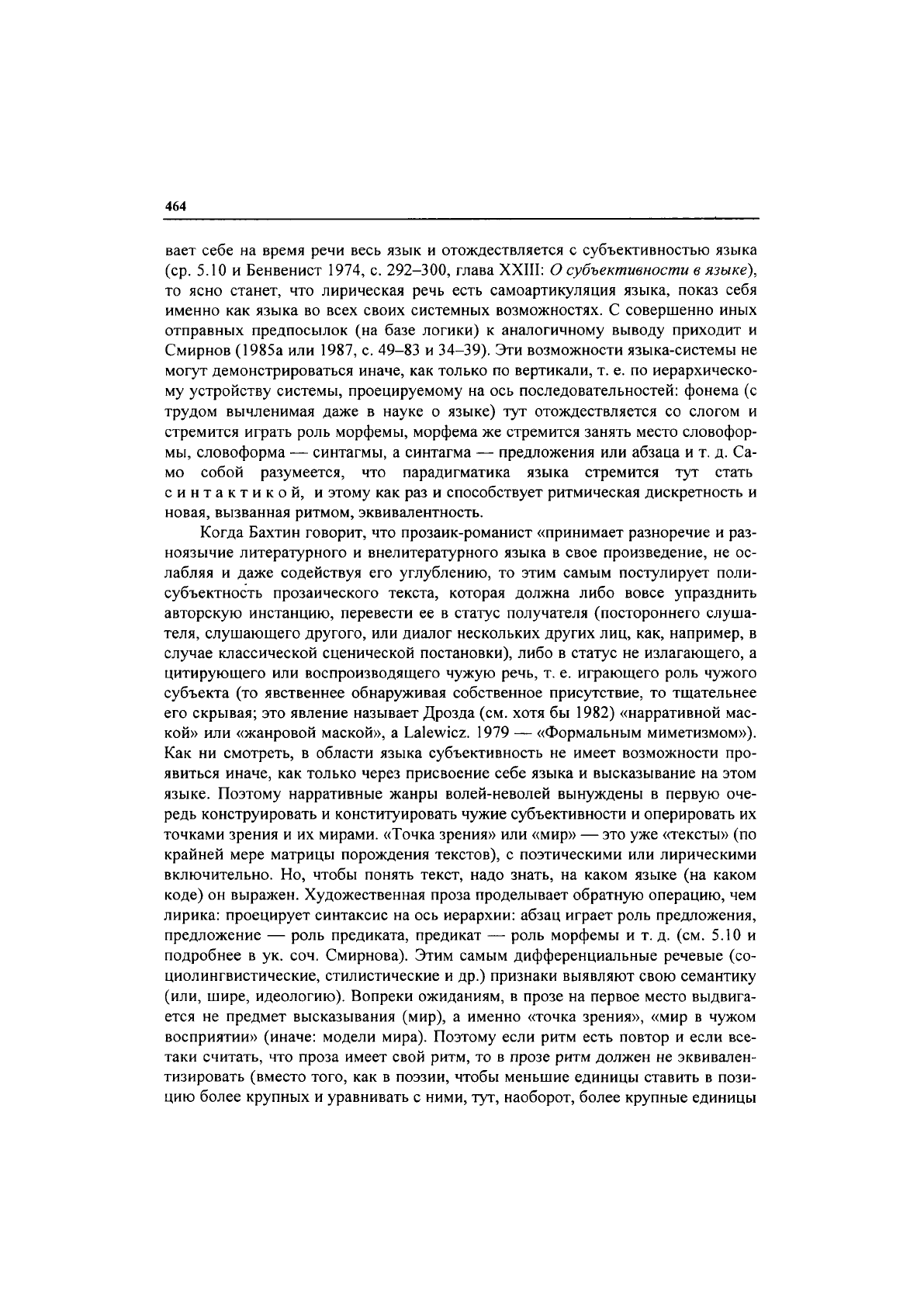
464
вает себе на время речи весь язык и отождествляется с субъективностью языка
(ср. 5.10 и Бенвенист 1974, с. 292-300, глава XXIII: О субъективности в языке),
то ясно станет, что лирическая речь есть самоартикуляция языка, показ себя
именно как языка во всех своих системных возможностях. С совершенно иных
отправных предпосылок (на базе логики) к аналогичному выводу приходит и
Смирнов (1985а или 1987, с. 49-83 и 34-39). Эти возможности языка-системы не
могут демонстрироваться иначе, как только по вертикали, т. е. по иерархическо-
му устройству системы, проецируемому на ось последовательностей: фонема (с
трудом вычленимая даже в науке о языке) тут отождествляется со слогом и
стремится играть роль морфемы, морфема же стремится занять место словофор-
мы, словоформа — синтагмы, а синтагма — предложения или абзаца и т. д. Са-
мо собой разумеется, что парадигматика языка стремится тут стать
синтактикой, и этому как раз и способствует ритмическая дискретность и
новая, вызванная ритмом, эквивалентность.
Когда Бахтин говорит, что прозаик-романист «принимает разноречие и раз-
ноязычие литературного и внелитературного языка в свое произведение, не ос-
лабляя и даже содействуя его углублению, то этим самым постулирует поли-
субъектность прозаического текста, которая должна либо вовсе упразднить
авторскую инстанцию, перевести ее в статус получателя (постороннего слуша-
теля, слушающего другого, или диалог нескольких других лиц, как, например, в
случае классической сценической постановки), либо в статус не излагающего, а
цитирующего или воспроизводящего чужую речь, т. е. играющего роль чужого
субъекта (то явственнее обнаруживая собственное присутствие, то тщательнее
его скрывая; это явление называет Дрозда (см. хотя бы 1982) «нарративной мас-
кой» или «жанровой маской», a Lalewicz. 1979 — «Формальным миметизмом»).
Как ни смотреть, в области языка субъективность не имеет возможности про-
явиться иначе, как только через присвоение себе языка и высказывание на этом
языке. Поэтому нарративные жанры волей-неволей вынуждены в первую оче-
редь конструировать и конституировать чужие субъективности и оперировать их
точками зрения и их мирами. «Точка зрения» или «мир» — это уже «тексты» (по
крайней мере матрицы порождения текстов), с поэтическими или лирическими
включительно. Но, чтобы понять текст, надо знать, на каком языке (на каком
коде) он выражен. Художественная проза проделывает обратную операцию, чем
лирика: проецирует синтаксис на ось иерархии: абзац играет роль предложения,
предложение — роль предиката, предикат — роль морфемы и т. д. (см. 5.10 и
подробнее в ук. соч. Смирнова). Этим самым дифференциальные речевые (со-
циолингвистические, стилистические и др.) признаки выявляют свою семантику
(или, шире, идеологию). Вопреки ожиданиям, в прозе на первое место выдвига-
ется не предмет высказывания (мир), а именно «точка зрения», «мир в чужом
восприятии» (иначе: модели мира). Поэтому если ритм есть повтор и если все-
таки считать, что проза имеет свой ритм, то в прозе ритм должен не эквивален-
тизировать (вместо того, как в поэзии, чтобы меньшие единицы ставить в пози-
цию более крупных и уравнивать с ними, тут, наоборот, более крупные единицы
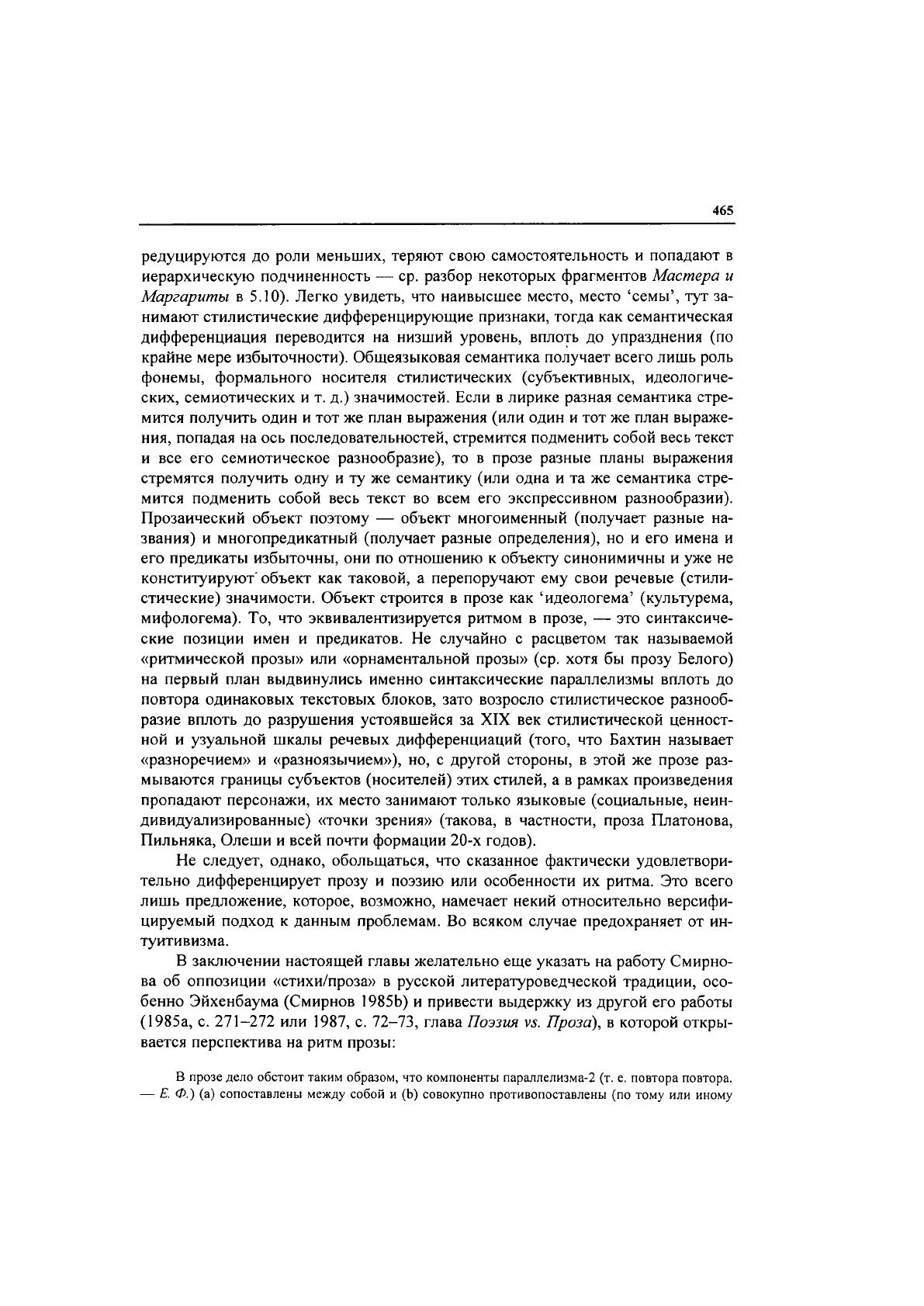
465
редуцируются до роли меньших, теряют свою самостоятельность и попадают в
иерархическую подчиненность — ср. разбор некоторых фрагментов Мастера и
Маргариты в 5.10). Легко увидеть, что наивысшее место, место 'семы', тут за-
нимают стилистические дифференцирующие признаки, тогда как семантическая
дифференциация переводится на низший уровень, вплоть до упразднения (по
крайне мере избыточности). Общеязыковая семантика получает всего лишь роль
фонемы, формального носителя стилистических (субъективных, идеологиче-
ских, семиотических и т. д.) значимостей. Если в лирике разная семантика стре-
мится получить один и тот же план выражения (или один и тот же план выраже-
ния, попадая на ось последовательностей, стремится подменить собой весь текст
и все его семиотическое разнообразие), то в прозе разные планы выражения
стремятся получить одну и ту же семантику (или одна и та же семантика стре-
мится подменить собой весь текст во всем его экспрессивном разнообразии).
Прозаический объект поэтому — объект многоименный (получает разные на-
звания) и многопредикатный (получает разные определения), но и его имена и
его предикаты избыточны, они по отношению к объекту синонимичны и уже не
конституируют" объект как таковой, а перепоручают ему свои речевые (стили-
стические) значимости. Объект строится в прозе как 'идеологема' (культурема,
мифологема). То, что эквивалентизируется ритмом в прозе, — это синтаксиче-
ские позиции имен и предикатов. Не случайно с расцветом так называемой
«ритмической прозы» или «орнаментальной прозы» (ср. хотя бы прозу Белого)
на первый план выдвинулись именно синтаксические параллелизмы вплоть до
повтора одинаковых текстовых блоков, зато возросло стилистическое разнооб-
разие вплоть до разрушения устоявшейся за XIX век стилистической ценност-
ной и узуальной шкалы речевых дифференциаций (того, что Бахтин называет
«разноречием» и «разноязычием»), но, с другой стороны, в этой же прозе раз-
мываются границы субъектов (носителей) этих стилей, а в рамках произведения
пропадают персонажи, их место занимают только языковые (социальные, неин-
дивидуализированные) «точки зрения» (такова, в частности, проза Платонова,
Пильняка, Олеши и всей почти формации 20-х годов).
Не следует, однако, обольщаться, что сказанное фактически удовлетвори-
тельно дифференцирует прозу и поэзию или особенности их ритма. Это всего
лишь предложение, которое, возможно, намечает некий относительно верифи-
цируемый подход к данным проблемам. Во всяком случае предохраняет от ин-
туитивизма.
В заключении настоящей главы желательно еще указать на работу Смирно-
ва об оппозиции «стихи/проза» в русской литературоведческой традиции, осо-
бенно Эйхенбаума (Смирнов 1985b) и привести выдержку из другой его работы
(1985а, с. 271-272 или 1987, с. 72-73, глава Поэзия vs. Проза), в которой откры-
вается перспектива на ритм прозы:
В прозе дело обстоит таким образом, что компоненты параллелизма-2 (т. е. повтора повтора.
— Е. Ф.) (а) сопоставлены между собой и (Ь) совокупно противопоставлены (по тому или иному
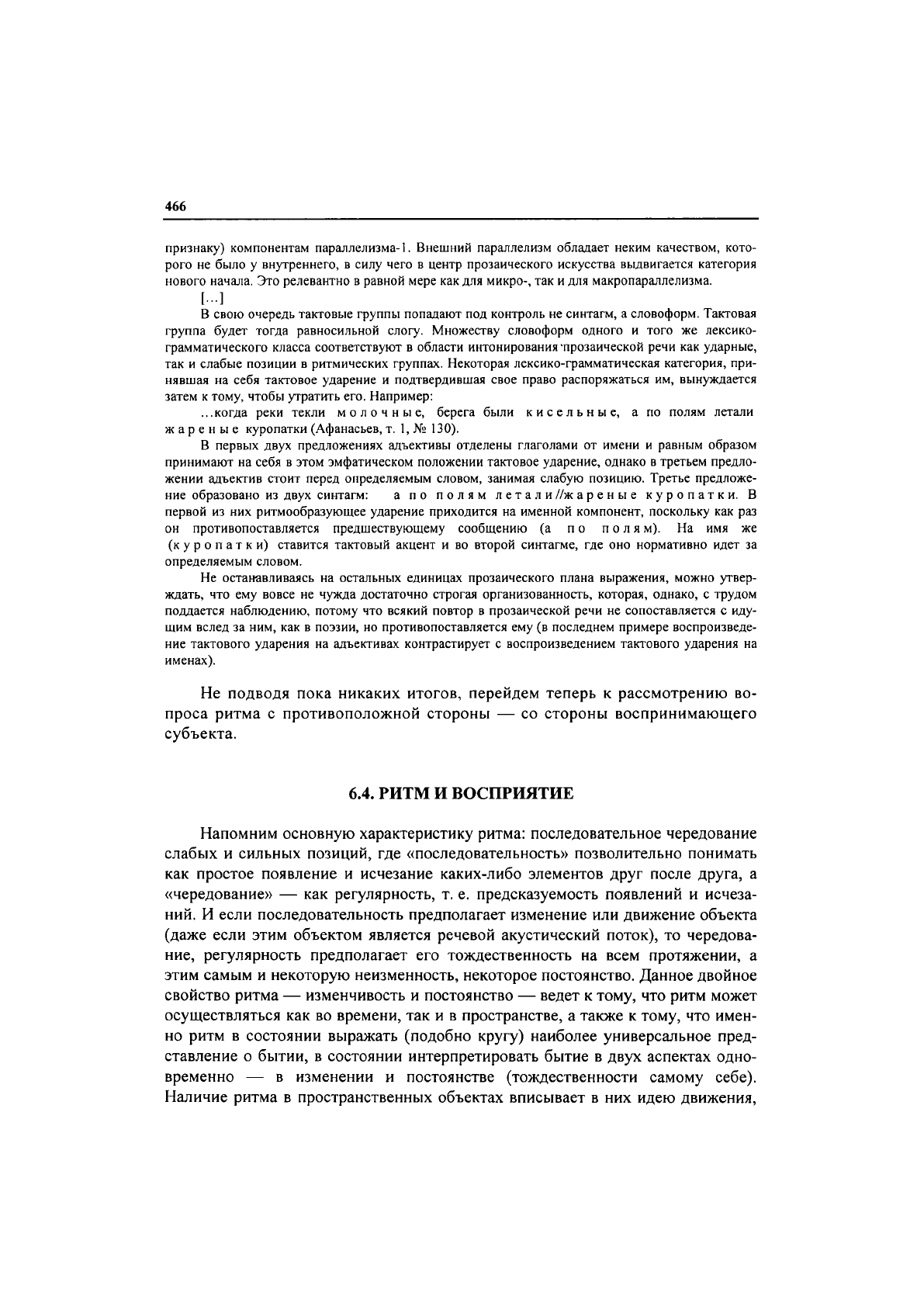
466
признаку) компонентам параллелизма-1. Внешний параллелизм обладает неким качеством, кото-
рого не было у внутреннего, в силу чего в центр прозаического искусства выдвигается категория
нового начала. Это релевантно в равной мере как для микро-, так и для макропараллелизма.
[...]
В свою очередь тактовые группы попадают под контроль не синтагм, а словоформ. Тактовая
группа будет тогда равносильной слогу. Множеству словоформ одного и того же лексико-
грамматического класса соответствуют в области интонирования 'прозаической речи как ударные,
так и слабые позиции в ритмических группах. Некоторая лексико-грамматическая категория, при-
нявшая на себя тактовое ударение и подтвердившая свое право распоряжаться им, вынуждается
затем к тому, чтобы утратить его. Например:
... когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали
жареные куропатки (Афанасьев, т. 1, № 130).
В первых двух предложениях адъективы отделены глаголами от имени и равным образом
принимают на себя в этом эмфатическом положении тактовое ударение, однако в третьем предло-
жении адъектив стоит перед определяемым словом, занимая слабую позицию. Третье предложе-
ние образовано из двух синтагм: а по полям летали//жареные куропатки. В
первой из них ритмообразующее ударение приходится на именной компонент, поскольку как раз
он противопоставляется предшествующему сообщению (а по полям). На имя же
(куропатки) ставится тактовый акцент и во второй синтагме, где оно нормативно идет за
определяемым словом.
Не останавливаясь на остальных единицах прозаического плана выражения, можно утвер-
ждать, что ему вовсе не чужда достаточно строгая организованность, которая, однако, с трудом
поддается наблюдению, потому что всякий повтор в прозаической речи не сопоставляется с иду-
щим вслед за ним, как в поэзии, но противопоставляется ему (в последнем примере воспроизведе-
ние тактового ударения на адъективах контрастирует с воспроизведением тактового ударения на
именах).
Не подводя пока никаких итогов, перейдем теперь к рассмотрению во-
проса ритма с противоположной стороны — со стороны воспринимающего
субъекта.
6.4. РИТМ И ВОСПРИЯТИЕ
Напомним основную характеристику ритма: последовательное чередование
слабых и сильных позиций, где «последовательность» позволительно понимать
как простое появление и исчезание каких-либо элементов друг после друга, а
«чередование» — как регулярность, т. е. предсказуемость появлений и исчеза-
ний. И если последовательность предполагает изменение или движение объекта
(даже если этим объектом является речевой акустический поток), то чередова-
ние, регулярность предполагает его тождественность на всем протяжении, а
этим самым и некоторую неизменность, некоторое постоянство. Данное двойное
свойство ритма — изменчивость и постоянство — ведет к тому, что ритм может
осуществляться как во времени, так и в пространстве, а также к тому, что имен-
но ритм в состоянии выражать (подобно кругу) наиболее универсальное пред-
ставление о бытии, в состоянии интерпретировать бытие в двух аспектах одно-
временно — в изменении и постоянстве (тождественности самому себе).
Наличие ритма в пространственных объектах вписывает в них идею движения,
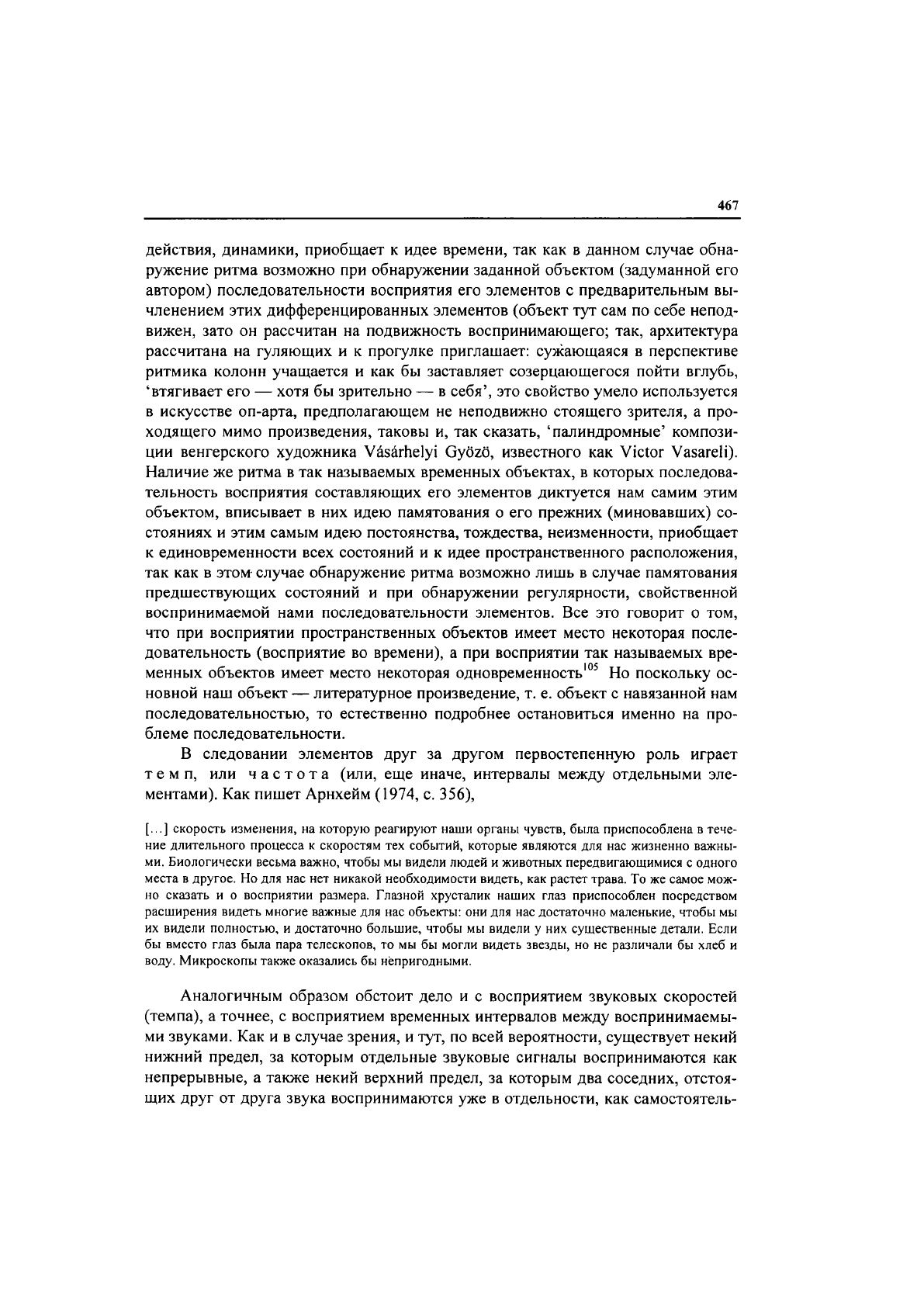
467
действия, динамики, приобщает к идее времени, так как в данном случае обна-
ружение ритма возможно при обнаружении заданной объектом (задуманной его
автором) последовательности восприятия его элементов с предварительным вы-
членением этих дифференцированных элементов (объект тут сам по себе непод-
вижен, зато он рассчитан на подвижность воспринимающего; так, архитектура
рассчитана на гуляющих и к прогулке приглашает: сужающаяся в перспективе
ритмика колонн учащается и как бы заставляет созерцающегося пойти вглубь,
'втягивает его — хотя бы зрительно — в себя', это свойство умело используется
в искусстве оп-арта, предполагающем не неподвижно стоящего зрителя, а про-
ходящего мимо произведения, таковы и, так сказать, 'палиндромные' компози-
ции венгерского художника Väsärhelyi Gyözö, известного как Victor Vasareli).
Наличие же ритма в так называемых временных объектах, в которых последова-
тельность восприятия составляющих его элементов диктуется нам самим этим
объектом, вписывает в них идею памятования о его прежних (миновавших) со-
стояниях и этим самым идею постоянства, тождества, неизменности, приобщает
к единовременности всех состояний и к идее пространственного расположения,
так как в этом- случае обнаружение ритма возможно лишь в случае памятования
предшествующих состояний и при обнаружении регулярности, свойственной
воспринимаемой нами последовательности элементов. Все это говорит о том,
что при восприятии пространственных объектов имеет место некоторая после-
довательность (восприятие во времени), а при восприятии так называемых вре-
менных объектов имеет место некоторая одновременность
105
Но поскольку ос-
новной наш объект — литературное произведение, т. е. объект с навязанной нам
последовательностью, то естественно подробнее остановиться именно на про-
блеме последовательности.
В следовании элементов друг за другом первостепенную роль играет
темп, или частота (или, еще иначе, интервалы между отдельными эле-
ментами). Как пишет Арнхейм (1974, с. 356),
[...] скорость изменения, на которую реагируют наши органы чувств, была приспособлена в тече-
ние длительного процесса к скоростям тех событий, которые являются для нас жизненно важны-
ми. Биологически весьма важно, чтобы мы видели людей и животных передвигающимися с одного
места в другое. Но для нас нет никакой необходимости видеть, как растет трава. То же самое мож-
но сказать и о восприятии размера. Глазной хрусталик наших глаз приспособлен посредством
расширения видеть многие важные для нас объекты: они для нас достаточно маленькие, чтобы мы
их видели полностью, и достаточно большие, чтобы мы видели у них существенные детали. Если
бы вместо глаз была пара телескопов, то мы бы могли видеть звезды, но не различали бы хлеб и
воду. Микроскопы также оказались бы непригодными.
Аналогичным образом обстоит дело и с восприятием звуковых скоростей
(темпа), а точнее, с восприятием временных интервалов между воспринимаемы-
ми звуками. Как и в случае зрения, и тут, по всей вероятности, существует некий
нижний предел, за которым отдельные звуковые сигналы воспринимаются как
непрерывные, а также некий верхний предел, за которым два соседних, отстоя-
щих друг от друга звука воспринимаются уже в отдельности, как самостоятель-
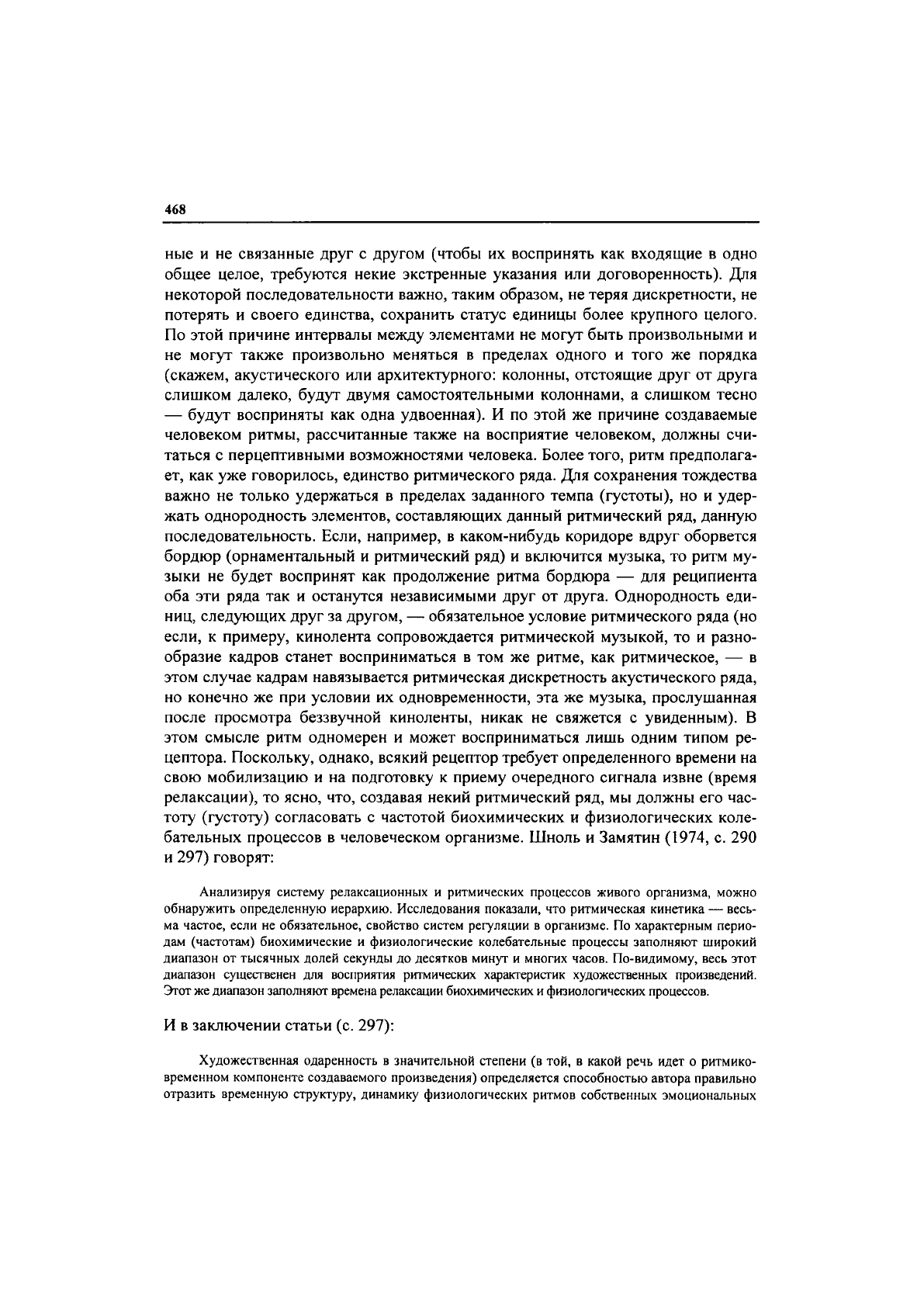
468
ные и не связанные друг с другом (чтобы их воспринять как входящие в одно
общее целое, требуются некие экстренные указания или договоренность). Для
некоторой последовательности важно, таким образом, не теряя дискретности, не
потерять и своего единства, сохранить статус единицы более крупного целого.
По этой причине интервалы между элементами не могут быть произвольными и
не могут также произвольно меняться в пределах одного и того же порядка
(скажем, акустического или архитектурного: колонны, отстоящие друг от друга
слишком далеко, будут двумя самостоятельными колоннами, а слишком тесно
— будут восприняты как одна удвоенная). И по этой же причине создаваемые
человеком ритмы, рассчитанные также на восприятие человеком, должны счи-
таться с перцептивными возможностями человека. Более того, ритм предполага-
ет, как уже говорилось, единство ритмического ряда. Для сохранения тождества
важно не только удержаться в пределах заданного темпа (густоты), но и удер-
жать однородность элементов, составляющих данный ритмический ряд, данную
последовательность. Если, например, в каком-нибудь коридоре вдруг оборвется
бордюр (орнаментальный и ритмический ряд) и включится музыка, то ритм му-
зыки не будет воспринят как продолжение ритма бордюра — для реципиента
оба эти ряда так и останутся независимыми друг от друга. Однородность еди-
ниц, следующих друг за другом, — обязательное условие ритмического ряда (но
если, к примеру, кинолента сопровождается ритмической музыкой, то и разно-
образие кадров станет восприниматься в том же ритме, как ритмическое, — в
этом случае кадрам навязывается ритмическая дискретность акустического ряда,
но конечно же при условии их одновременности, эта же музыка, прослушанная
после просмотра беззвучной киноленты, никак не свяжется с увиденным). В
этом смысле ритм одномерен и может восприниматься лишь одним типом ре-
цептора. Поскольку, однако, всякий рецептор требует определенного времени на
свою мобилизацию и на подготовку к приему очередного сигнала извне (время
релаксации), то ясно, что, создавая некий ритмический ряд, мы должны его час-
тоту (густоту) согласовать с частотой биохимических и физиологических коле-
бательных процессов в человеческом организме. Шноль и Замятин (1974, с. 290
и 297)говорят:
Анализируя систему релаксационных и ритмических процессов живого организма, можно
обнаружить определенную иерархию. Исследования показали, что ритмическая кинетика — весь-
ма частое, если не обязательное, свойство систем регуляции в организме. По характерным перио-
дам (частотам) биохимические и физиологические колебательные процессы заполняют широкий
диапазон от тысячных долей секунды до десятков минут и многих часов. По-видимому, весь этот
диапазон существенен для восприятия ритмических характеристик художественных произведений.
Этот же диапазон заполняют времена релаксации биохимических и физиологических процессов.
И в заключении статьи (с. 297):
Художественная одаренность в значительной степени (в той, в какой речь идет о ритмико-
временном компоненте создаваемого произведения) определяется способностью автора правильно
отразить временную структуру, динамику физиологических ритмов собственных эмоциональных
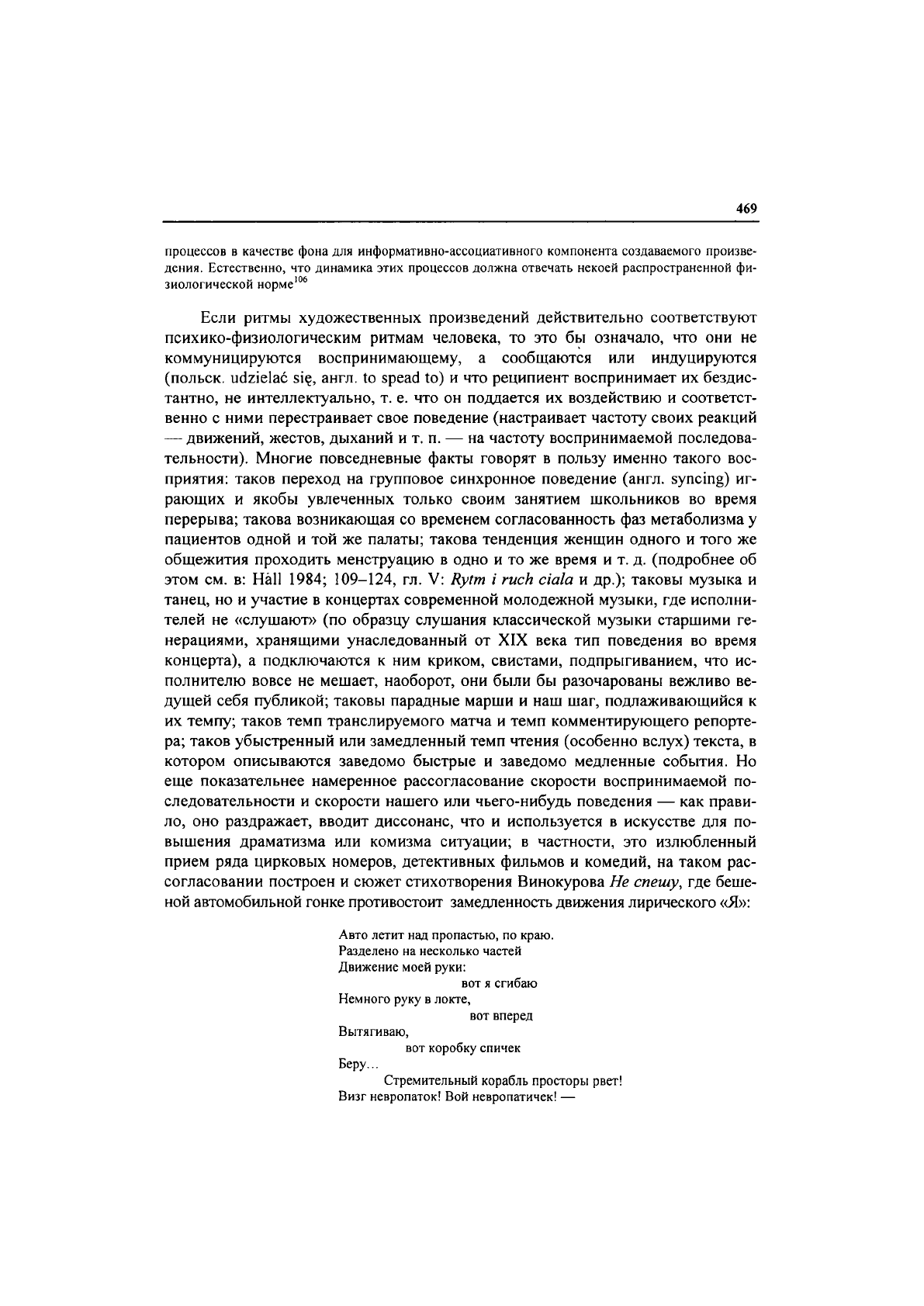
469
процессов в качестве фона для информативно-ассоциативного компонента создаваемого произве-
дения. Естественно, что динамика этих процессов должна отвечать некоей распространенной фи-
зиологической норме
106
Если ритмы художественных произведений действительно соответствуют
психико-физиологическим ритмам человека, то это бы означало, что они не
коммуницируются воспринимающему, а сообщаются или индуцируются
(польск. udzielać się, англ. to spead to) и что реципиент воспринимает их бездис-
тантно, не интеллектуально, т. е. что он поддается их воздействию и соответст-
венно с ними перестраивает свое поведение (настраивает частоту своих реакций
— движений, жестов, дыханий и т. п. — на частоту воспринимаемой последова-
тельности). Многие повседневные факты говорят в пользу именно такого вос-
приятия: таков переход на групповое синхронное поведение (англ. syncing) иг-
рающих и якобы увлеченных только своим занятием школьников во время
перерыва; такова возникающая со временем согласованность фаз метаболизма у
пациентов одной и той же палаты; такова тенденция женщин одного и того же
общежития проходить менструацию в одно и то же время и т. д. (подробнее об
этом см. в: Hall 1984; 109-124, гл. V: Rytm i ruch ciała и др.); таковы музыка и
танец, но и участие в концертах современной молодежной музыки, где исполни-
телей не «слушают» (по образцу слушания классической музыки старшими ге-
нерациями, хранящими унаследованный от XIX века тип поведения во время
концерта), а подключаются к ним криком, свистами, подпрыгиванием, что ис-
полнителю вовсе не мешает, наоборот, они были бы разочарованы вежливо ве-
дущей себя публикой; таковы парадные марши и наш шаг, подлаживающийся к
их темпу; таков темп транслируемого матча и темп комментирующего репорте-
ра; таков убыстренный или замедленный темп чтения (особенно вслух) текста, в
котором описываются заведомо быстрые и заведомо медленные события. Но
еще показательнее намеренное рассогласование скорости воспринимаемой по-
следовательности и скорости нашего или чьего-нибудь поведения — как прави-
ло, оно раздражает, вводит диссонанс, что и используется в искусстве для по-
вышения драматизма или комизма ситуации; в частности, это излюбленный
прием ряда цирковых номеров, детективных фильмов и комедий, на таком рас-
согласовании построен и сюжет стихотворения Винокурова Не спешу, где беше-
ной автомобильной гонке противостоит замедленность движения лирического «Я»:
Авто летит над пропастью, по краю.
Разделено на несколько частей
Движение моей руки:
вот я сгибаю
Немного руку в локте,
вот вперед
Вытягиваю,
вот коробку спичек
Беру...
Стремительный корабль просторы рвет!
Визг невропаток! Вой невропатичек! —
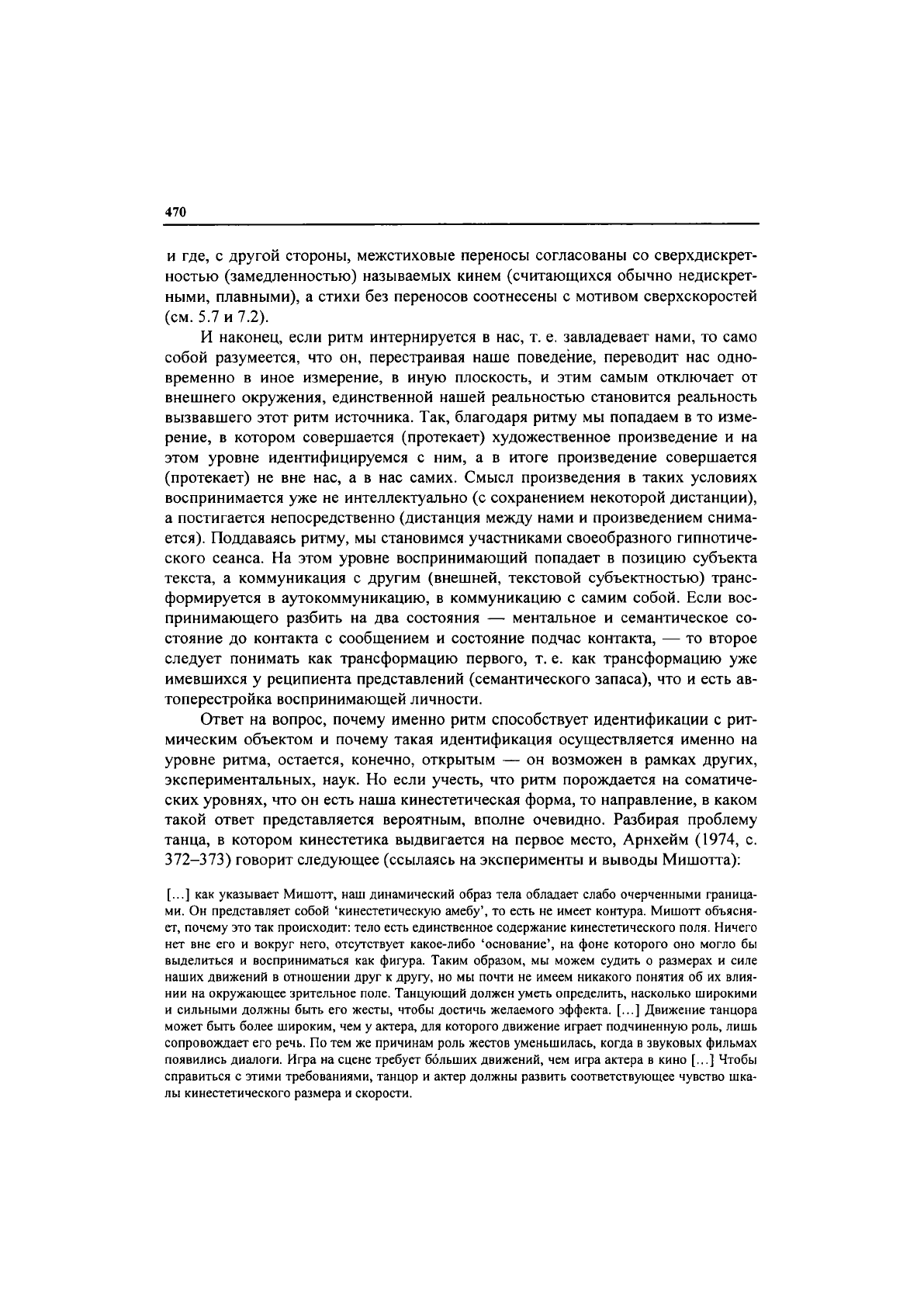
470
и где, с другой стороны, межстиховые переносы согласованы со сверхдискрет-
ностью (замедленностью) называемых кинем (считающихся обычно недискрет-
ными, плавными), а стихи без переносов соотнесены с мотивом сверхскоростей
(см. 5.7 и 7.2).
И наконец, если ритм интернируется в нас, т. е. завладевает нами, то само
собой разумеется, что он, перестраивая наше поведение, переводит нас одно-
временно в иное измерение, в иную плоскость, и этим самым отключает от
внешнего окружения, единственной нашей реальностью становится реальность
вызвавшего этот ритм источника. Так, благодаря ритму мы попадаем в то изме-
рение, в котором совершается (протекает) художественное произведение и на
этом уровне идентифицируемся с ним, а в итоге произведение совершается
(протекает) не вне нас, а в нас самих. Смысл произведения в таких условиях
воспринимается уже не интеллектуально (с сохранением некоторой дистанции),
а постигается непосредственно (дистанция между нами и произведением снима-
ется). Поддаваясь ритму, мы становимся участниками своеобразного гипнотиче-
ского сеанса. На этом уровне воспринимающий попадает в позицию субъекта
текста, а коммуникация с другим (внешней, текстовой субъектностью) транс-
формируется в аутокоммуникацию, в коммуникацию с самим собой. Если вос-
принимающего разбить на два состояния — ментальное и семантическое со-
стояние до контакта с сообщением и состояние подчас контакта, — то второе
следует понимать как трансформацию первого, т. е. как трансформацию уже
имевшихся у реципиента представлений (семантического запаса), что и есть ав-
топерестройка воспринимающей личности.
Ответ на вопрос, почему именно ритм способствует идентификации с рит-
мическим объектом и почему такая идентификация осуществляется именно на
уровне ритма, остается, конечно, открытым — он возможен в рамках других,
экспериментальных, наук. Но если учесть, что ритм порождается на соматиче-
ских уровнях, что он есть наша кинестетическая форма, то направление, в каком
такой ответ представляется вероятным, вполне очевидно. Разбирая проблему
танца, в котором кинестетика выдвигается на первое место, Арнхейм (1974, с.
372-373) говорит следующее (ссылаясь на эксперименты и выводы Мишотта):
[...] как указывает Мишотт, наш динамический образ тела обладает слабо очерченными граница-
ми. Он представляет собой 'кинестетическую амебу', то есть не имеет контура. Мишотт объясня-
ет, почему это так происходит: тело есть единственное содержание кинестетического поля. Ничего
нет вне его и вокруг него, отсутствует какое-либо 'основание', на фоне которого оно могло бы
выделиться и восприниматься как фигура. Таким образом, мы можем судить о размерах и силе
наших движений в отношении друг к другу, но мы почти не имеем никакого понятия об их влия-
нии на окружающее зрительное поле. Танцующий должен уметь определить, насколько широкими
и сильными должны быть его жесты, чтобы достичь желаемого эффекта. [...] Движение танцора
может быть более широким, чем у актера, для которого движение играет подчиненную роль, лишь
сопровождает его речь. По тем же причинам роль жестов уменьшилась, когда в звуковых фильмах
появились диалоги. Игра на сцене требует больших движений, чем игра актера в кино [...] Чтобы
справиться с этими требованиями, танцор и актер должны развить соответствующее чувство шка-
лы кинестетического размера и скорости.
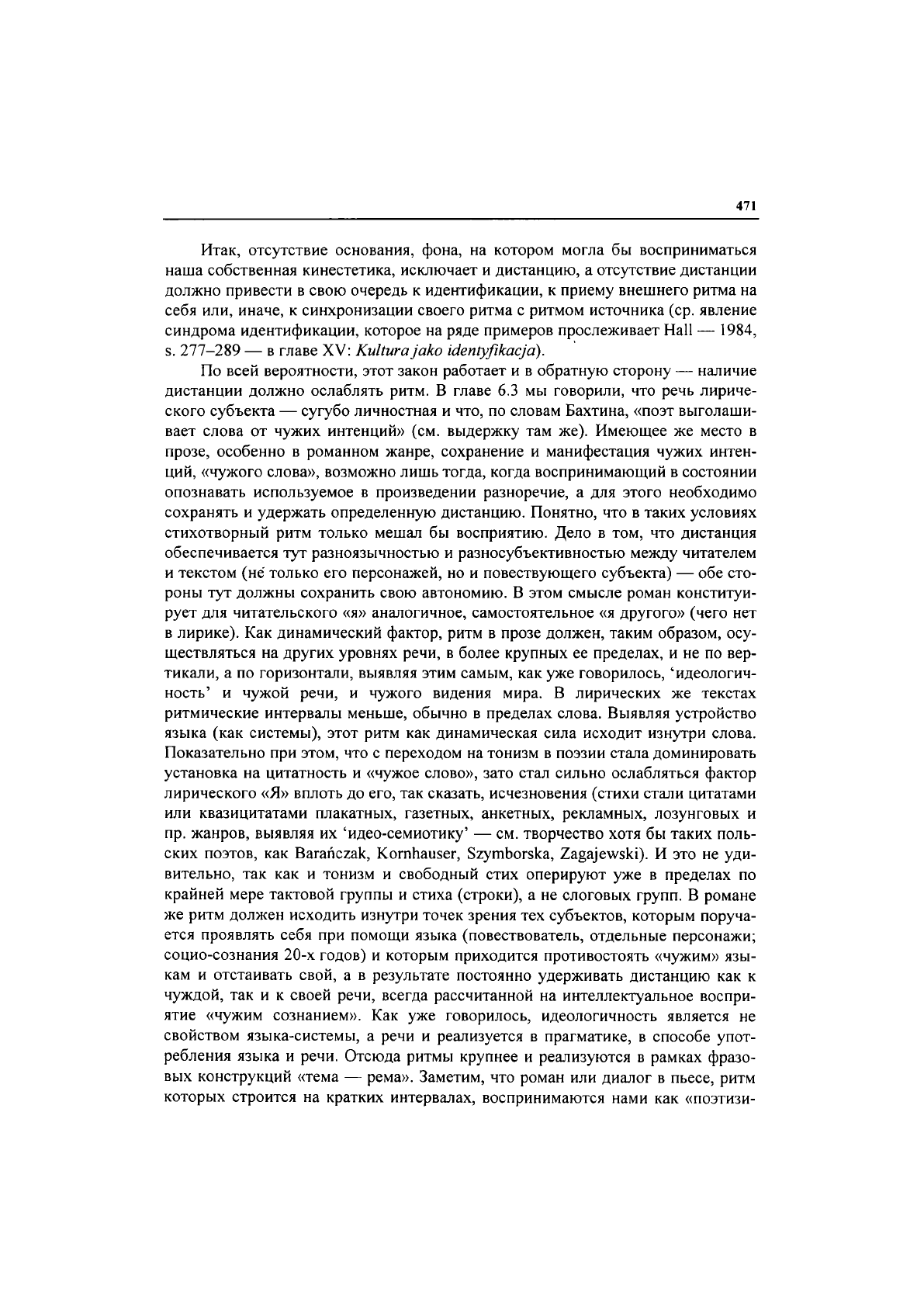
471
Итак, отсутствие основания, фона, на котором могла бы восприниматься
наша собственная кинестетика, исключает и дистанцию, а отсутствие дистанции
должно привести в свою очередь к идентификации, к приему внешнего ритма на
себя или, иначе, к синхронизации своего ритма с ритмом источника (ср. явление
синдрома идентификации, которое на ряде примеров прослеживает Hall — 1984,
s. 277-289 — в главе XV: Kultura jako identyfikacja).
По всей вероятности, этот закон работает и в обратную сторону — наличие
дистанции должно ослаблять ритм. В главе 6.3 мы говорили, что речь лириче-
ского субъекта — сугубо личностная и что, по словам Бахтина, «поэт выголаши-
вает слова от чужих интенций» (см. выдержку там же). Имеющее же место в
прозе, особенно в романном жанре, сохранение и манифестация чужих интен-
ций, «чужого слова», возможно лишь тогда, когда воспринимающий в состоянии
опознавать используемое в произведении разноречие, а для этого необходимо
сохранять и удержать определенную дистанцию. Понятно, что в таких условиях
стихотворный ритм только мешал бы восприятию. Дело в том, что дистанция
обеспечивается тут разноязычностью и разносубъективностью между читателем
и текстом (не только его персонажей, но и повествующего субъекта) — обе сто-
роны тут должны сохранить свою автономию. В этом смысле роман конституи-
рует для читательского «я» аналогичное, самостоятельное «я другого» (чего нет
в лирике). Как динамический фактор, ритм в прозе должен, таким образом, осу-
ществляться на других уровнях речи, в более крупных ее пределах, и не по вер-
тикали, а по горизонтали, выявляя этим самым, как уже говорилось, 'идеологич-
ность' и чужой речи, и чужого видения мира. В лирических же текстах
ритмические интервалы меньше, обычно в пределах слова. Выявляя устройство
языка (как системы), этот ритм как динамическая сила исходит изнутри слова.
Показательно при этом, что с переходом на тонизм в поэзии стала доминировать
установка на цитатность и «чужое слово», зато стал сильно ослабляться фактор
лирического «Я» вплоть до его, так сказать, исчезновения (стихи стали цитатами
или квазицитатами плакатных, газетных, анкетных, рекламных, лозунговых и
пр. жанров, выявляя их 'идео-семиотику' — см. творчество хотя бы таких поль-
ских поэтов, как Barańczak, Kornhauser, Szymborska, Zagajewski). И это не уди-
вительно, так как и тонизм и свободный стих оперируют уже в пределах по
крайней мере тактовой группы и стиха (строки), а не слоговых групп. В романе
же ритм должен исходить изнутри точек зрения тех субъектов, которым поруча-
ется проявлять себя при помощи языка (повествователь, отдельные персонажи;
социо-сознания 20-х годов) и которым приходится противостоять «чужим» язы-
кам и отстаивать свой, а в результате постоянно удерживать дистанцию как к
чуждой, так и к своей речи, всегда рассчитанной на интеллектуальное воспри-
ятие «чужим сознанием». Как уже говорилось, идеологичность является не
свойством языка-системы, а речи и реализуется в прагматике, в способе упот-
ребления языка и речи. Отсюда ритмы крупнее и реализуются в рамках фразо-
вых конструкций «тема — рема». Заметим, что роман или диалог в пьесе, ритм
которых строится на кратких интервалах, воспринимаются нами как «поэтизи-
