Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

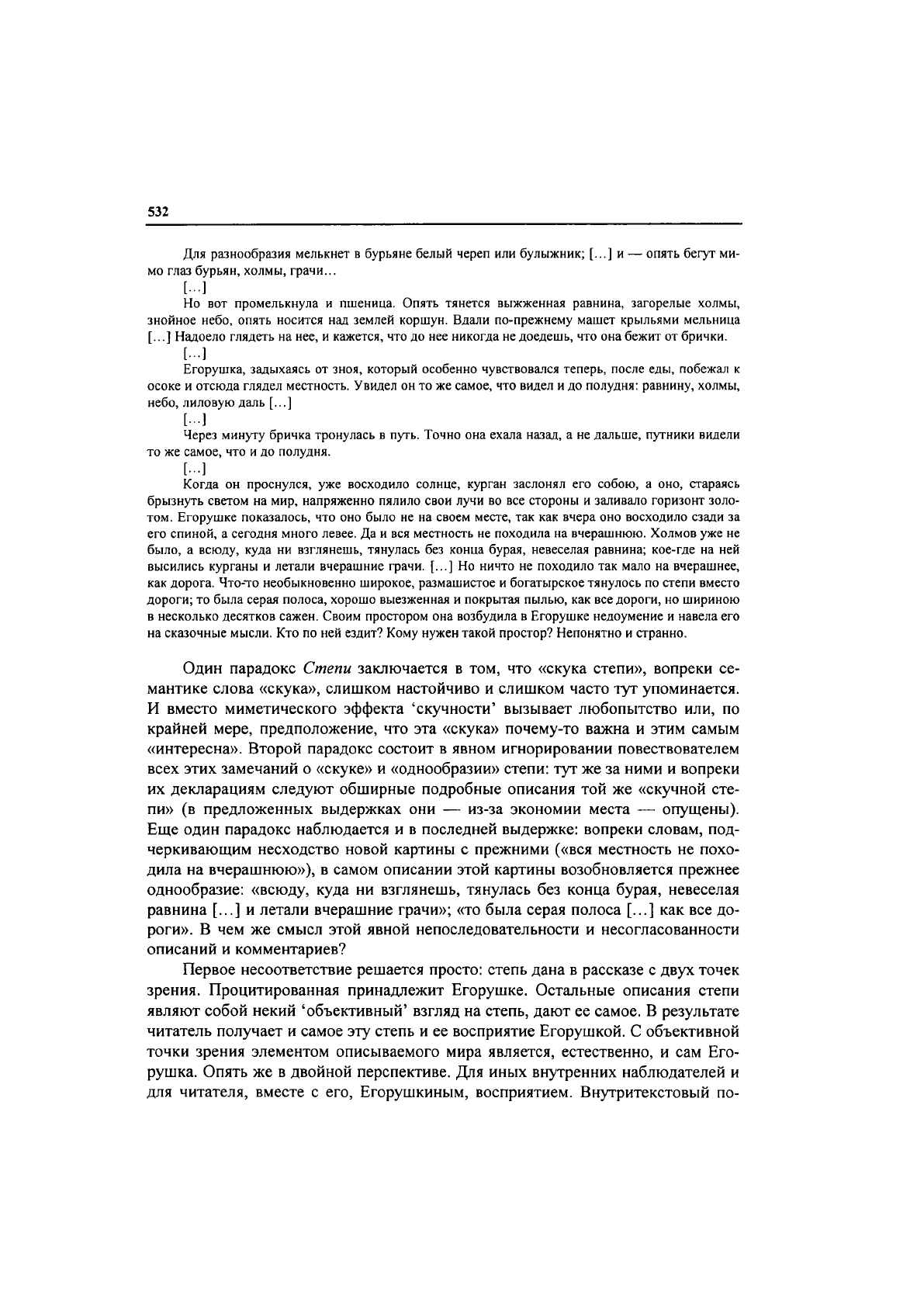
532
Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; [...] и — опять бегут ми-
мо глаз бурьян, холмы, грачи...
[...]
Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы,
знойное небо, опять носится над землей коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница
[...] Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.
[•..]
Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь, после еды, побежал к
осоке и отсюда глядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы,
небо, лиловую даль [...]
[...]
Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели
то же самое, что и до полудня.
[».]
Когда он проснулся, уже восходило солнце, курган заслонял его собою, а оно, стараясь
брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золо-
том. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за
его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не
было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней
высились курганы и летали вчерашние грачи. [...] Но ничто не походило так мало на вчерашнее,
как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо
дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною
в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его
на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно.
Один парадокс Степи заключается в том, что «скука степи», вопреки се-
мантике слова «скука», слишком настойчиво и слишком часто тут упоминается.
И вместо миметического эффекта 'скучности' вызывает любопытство или, по
крайней мере, предположение, что эта «скука» почему-то важна и этим самым
«интересна». Второй парадокс состоит в явном игнорировании повествователем
всех этих замечаний о «скуке» и «однообразии» степи: тут же за ними и вопреки
их декларациям следуют обширные подробные описания той же «скучной сте-
пи» (в предложенных выдержках они — из-за экономии места — опущены).
Еще один парадокс наблюдается и в последней выдержке: вопреки словам, под-
черкивающим несходство новой картины с прежними («вся местность не похо-
дила на вчерашнюю»), в самом описании этой картины возобновляется прежнее
однообразие: «всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая
равнина [...] и летали вчерашние грачи»; «то была серая полоса [...] как все до-
роги». В чем же смысл этой явной непоследовательности и несогласованности
описаний и комментариев?
Первое несоответствие решается просто: степь дана в рассказе с двух точек
зрения. Процитированная принадлежит Егорушке. Остальные описания степи
являют собой некий 'объективный' взгляд на степь, дают ее самое. В результате
читатель получает и самое эту степь и ее восприятие Егорушкой. С объективной
точки зрения элементом описываемого мира является, естественно, и сам Его-
рушка. Опять же в двойной перспективе. Для иных внутренних наблюдателей и
для читателя, вместе с его, Егорушкиным, восприятием. Внутритекстовый по-
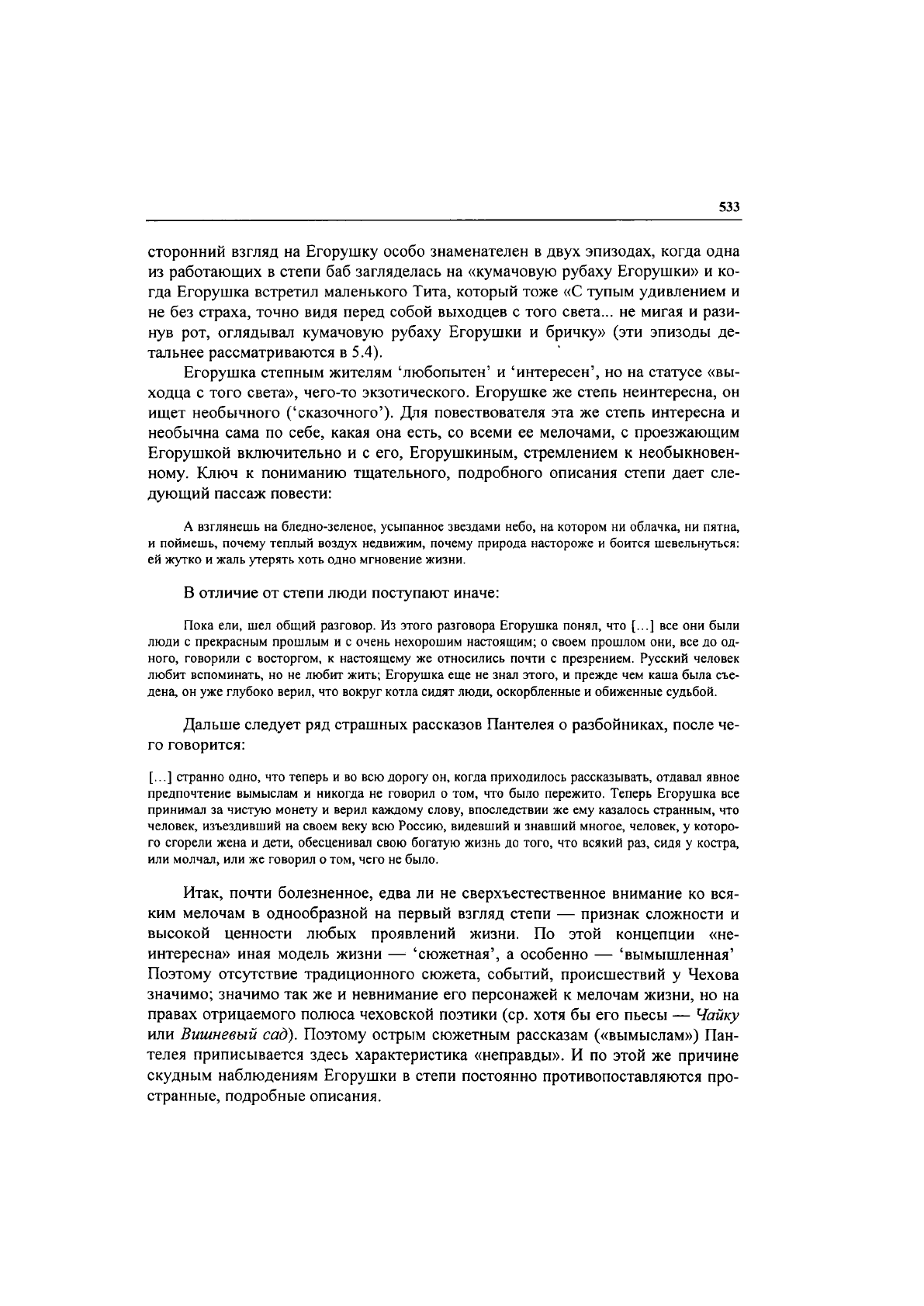
533
сторонний взгляд на Егорушку особо знаменателен в двух эпизодах, когда одна
из работающих в степи баб загляделась на «кумачовую рубаху Егорушки» и ко-
гда Егорушка встретил маленького Тита, который тоже «С тупым удивлением и
не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света... не мигая и рази-
нув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку» (эти эпизоды де-
тальнее рассматриваются в 5.4).
Егорушка степным жителям 'любопытен' и 'интересен', но на статусе «вы-
ходца с того света», чего-то экзотического. Егорушке же степь неинтересна, он
ищет необычного ('сказочного'). Для повествователя эта же степь интересна и
необычна сама по себе, какая она есть, со всеми ее мелочами, с проезжающим
Егорушкой включительно и с его, Егорушкиным, стремлением к необыкновен-
ному. Ключ к пониманию тщательного, подробного описания степи дает сле-
дующий пассаж повести:
А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна,
и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться:
ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни.
В отличие от степи люди поступают иначе:
Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что [...] все они были
люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до од-
ного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек
любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съе-
дена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой.
Дальше следует ряд страшных рассказов Пантелея о разбойниках, после че-
го говорится:
[...] странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное
предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все
принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что
человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которо-
го сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра,
или молчал, или же говорил о том, чего не было.
Итак, почти болезненное, едва ли не сверхъестественное внимание ко вся-
ким мелочам в однообразной на первый взгляд степи — признак сложности и
высокой ценности любых проявлений жизни. По этой концепции «не-
интересна» иная модель жизни — 'сюжетная', а особенно — 'вымышленная'
Поэтому отсутствие традиционного сюжета, событий, происшествий у Чехова
значимо; значимо так же и невнимание его персонажей к мелочам жизни, но на
правах отрицаемого полюса чеховской поэтики (ср. хотя бы его пьесы — Чайку
или Вишневый сад). Поэтому острым сюжетным рассказам («вымыслам») Пан-
телея приписывается здесь характеристика «неправды». И по этой же причине
скудным наблюдениям Егорушки в степи постоянно противопоставляются про-
странные, подробные описания.
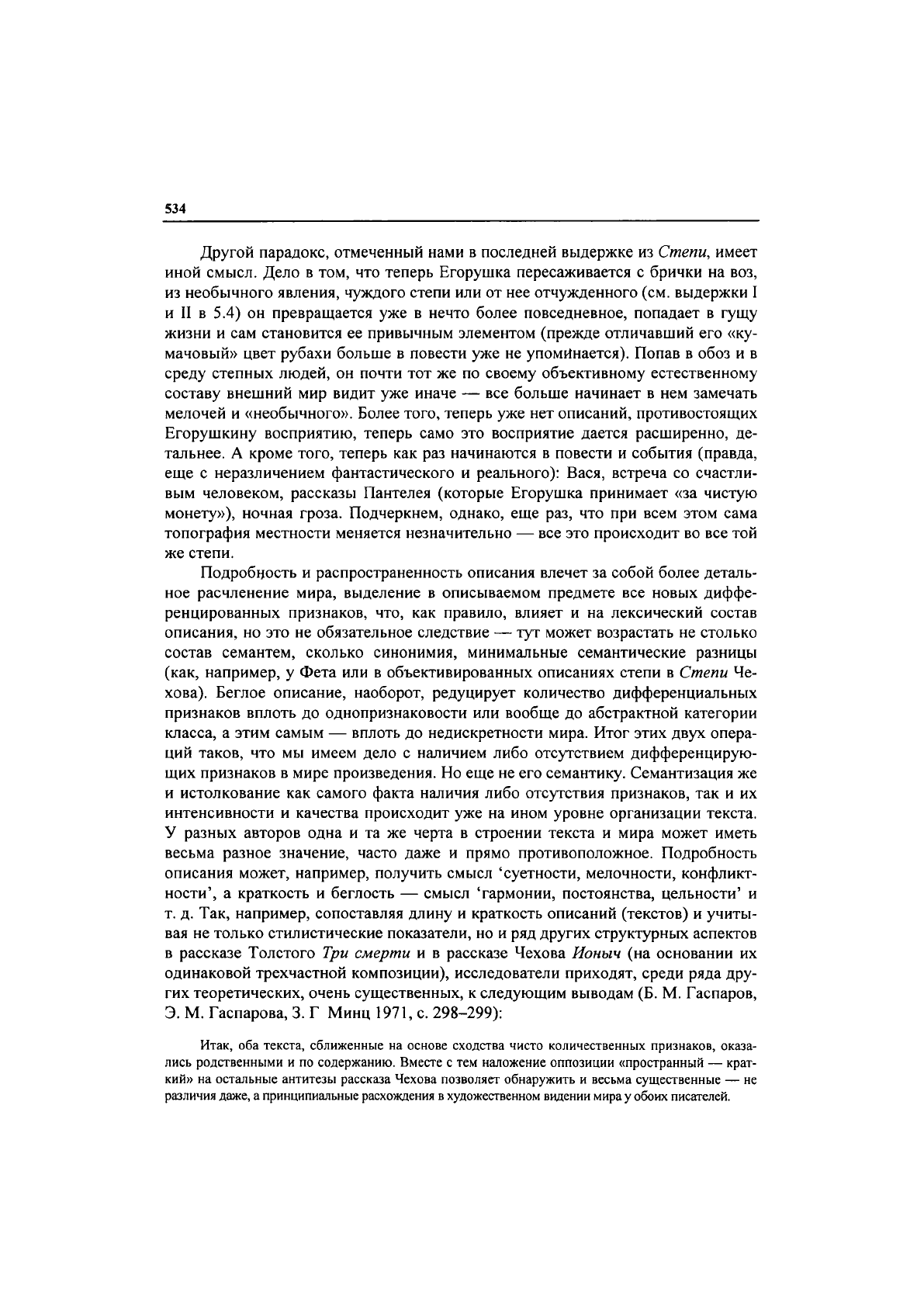
534
Другой парадокс, отмеченный нами в последней выдержке из Степи, имеет
иной смысл. Дело в том, что теперь Егорушка пересаживается с брички на воз,
из необычного явления, чуждого степи или от нее отчужденного (см. выдержки I
и II в 5.4) он превращается уже в нечто более повседневное, попадает в гущу
жизни и сам становится ее привычным элементом (прежде отличавший его «ку-
мачовый» цвет рубахи больше в повести уже не упоминается). Попав в обоз и в
среду степных людей, он почти тот же по своему объективному естественному
составу внешний мир видит уже иначе — все больше начинает в нем замечать
мелочей и «необычного». Более того, теперь уже нет описаний, противостоящих
Егорушкину восприятию, теперь само это восприятие дается расширенно, де-
тальнее. А кроме того, теперь как раз начинаются в повести и события (правда,
еще с неразличением фантастического и реального): Вася, встреча со счастли-
вым человеком, рассказы Пантелея (которые Егорушка принимает «за чистую
монету»), ночная гроза. Подчеркнем, однако, еще раз, что при всем этом сама
топография местности меняется незначительно — все это происходит во все той
же степи.
Подробность и распространенность описания влечет за собой более деталь-
ное расчленение мира, выделение в описываемом предмете все новых диффе-
ренцированных признаков, что, как правило, влияет и на лексический состав
описания, но это не обязательное следствие — тут может возрастать не столько
состав семантем, сколько синонимия, минимальные семантические разницы
(как, например, у Фета или в объективированных описаниях степи в Степи Че-
хова). Беглое описание, наоборот, редуцирует количество дифференциальных
признаков вплоть до однопризнаковости или вообще до абстрактной категории
класса, а этим самым — вплоть до недискретности мира. Итог этих двух опера-
ций таков, что мы имеем дело с наличием либо отсутствием дифференцирую-
щих признаков в мире произведения. Но еще не его семантику. Семантизация же
и истолкование как самого факта наличия либо отсутствия признаков, так и их
интенсивности и качества происходит уже на ином уровне организации текста.
У разных авторов одна и та же черта в строении текста и мира может иметь
весьма разное значение, часто даже и прямо противоположное. Подробность
описания может, например, получить смысл 'суетности, мелочности, конфликт-
ности', а краткость и беглость — смысл 'гармонии, постоянства, цельности' и
т. д. Так, например, сопоставляя длину и краткость описаний (текстов) и учиты-
вая не только стилистические показатели, но и ряд других структурных аспектов
в рассказе Толстого Три смерти и в рассказе Чехова Ионыч (на основании их
одинаковой трехчастной композиции), исследователи приходят, среди ряда дру-
гих теоретических, очень существенных, к следующим выводам (Б. М. Гаспаров,
Э. М. Гаспарова, 3. Г Минц 1971, с. 298-299):
Итак, оба текста, сближенные на основе сходства чисто количественных признаков, оказа-
лись родственными и по содержанию. Вместе с тем наложение оппозиции «пространный — крат-
кий» на остальные антитезы рассказа Чехова позволяет обнаружить и весьма существенные — не
различия даже, а принципиальные расхождения в художественном видении мира у обоих писателей.
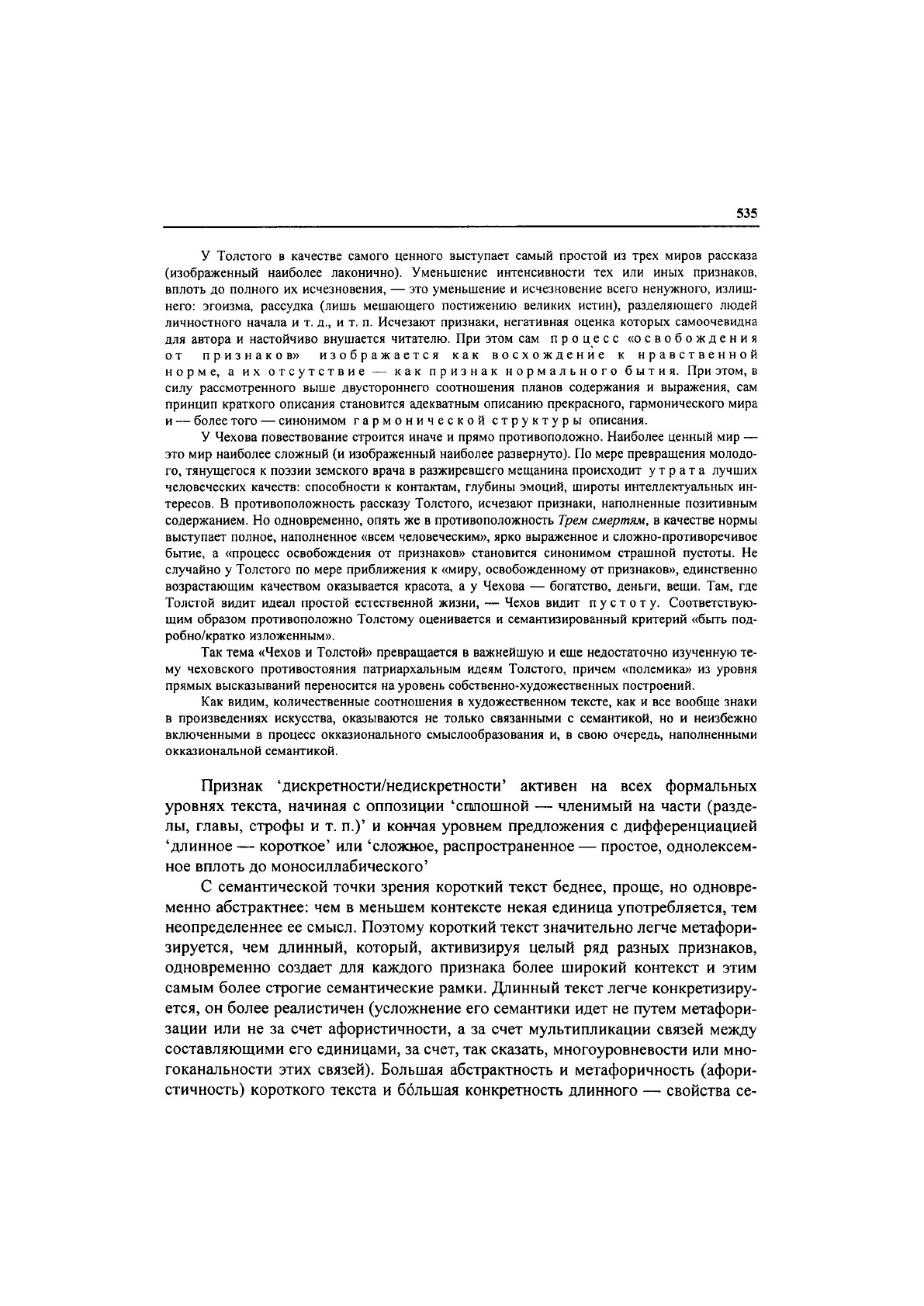
535
У Толстого в качестве самого ценного выступает самый простой из трех миров рассказа
(изображенный наиболее лаконично). Уменьшение интенсивности тех или иных признаков,
вплоть до полного их исчезновения, — это уменьшение и исчезновение всего ненужного, излиш-
него: эгоизма, рассудка (лишь мешающего постижению великих истин), разделяющего людей
личностного начала и т. д., и т. п. Исчезают признаки, негативная оценка которых самоочевидна
для автора и настойчиво внушается читателю. При этом сам процесс «освобождения
от признаков» изображается как восхождение к нравственной
норме, а их отсутствие — как признак нормального бытия. При этом, в
силу рассмотренного выше двустороннего соотношения планов содержания и выражения, сам
принцип краткого описания становится адекватным описанию прекрасного, гармонического мира
и — более того — синонимом гармонической структуры описания.
У Чехова повествование строится иначе и прямо противоположно. Наиболее ценный мир —
это мир наиболее сложный (и изображенный наиболее развернуто). По мере превращения молодо-
го, тянущегося к поэзии земского врача в разжиревшего мещанина происходит утрата лучших
человеческих качеств: способности к контактам, глубины эмоций, широты интеллектуальных ин-
тересов. В противоположность рассказу Толстого, исчезают признаки, наполненные позитивным
содержанием. Но одновременно, опять же в противоположность Трем смертям, в качестве нормы
выступает полное, наполненное «всем человеческим», ярко выраженное и сложно-противоречивое
бытие, а «процесс освобождения от признаков» становится синонимом страшной пустоты. Не
случайно у Толстого по мере приближения к «миру, освобожденному от признаков», единственно
возрастающим качеством оказывается красота, а у Чехова — богатство, деньги, вещи. Там, где
Толстой видит идеал простой естественной жизни, — Чехов видит пустоту. Соответствую-
щим образом противоположно Толстому оценивается и семантизированный критерий «быть под-
робно/кратко изложенным».
Так тема «Чехов и Толстой» превращается в важнейшую и еще недостаточно изученную те-
му чеховского противостояния патриархальным идеям Толстого, причем «полемика» из уровня
прямых высказываний переносится на уровень собственно-художественных построений.
Как видим, количественные соотношения в художественном тексте, как и все вообще знаки
в произведениях искусства, оказываются не только связанными с семантикой, но и неизбежно
включенными в процесс окказионального смыслообразования и, в свою очередь, наполненными
окказиональной семантикой.
Признак 'дискретности/недискретности' активен на всех формальных
уровнях текста, начиная с оппозиции 'сплошной — членимый на части (разде-
лы, главы, строфы и т. п.)' и кончая уровнем предложения с дифференциацией
'длинное — короткое' или 'сложное, распространенное — простое, однолексем-
ное вплоть до моносиллабического'
С семантической точки зрения короткий текст беднее, проще, но одновре-
менно абстрактнее: чем в меньшем контексте некая единица употребляется, тем
неопределеннее ее смысл. Поэтому короткий текст значительно легче метафори-
зируется, чем длинный, который, активизируя целый ряд разных признаков,
одновременно создает для каждого признака более широкий контекст и этим
самым более строгие семантические рамки. Длинный текст легче конкретизиру-
ется, он более реалистичен (усложнение его семантики идет не путем метафори-
зации или не за счет афористичности, а за счет мультипликации связей между
составляющими его единицами, за счет, так сказать, многоуровневости или мно-
гоканальное™ этих связей). Большая абстрактность и метафоричность (афори-
стичность) короткого текста и большая конкретность длинного — свойства се-
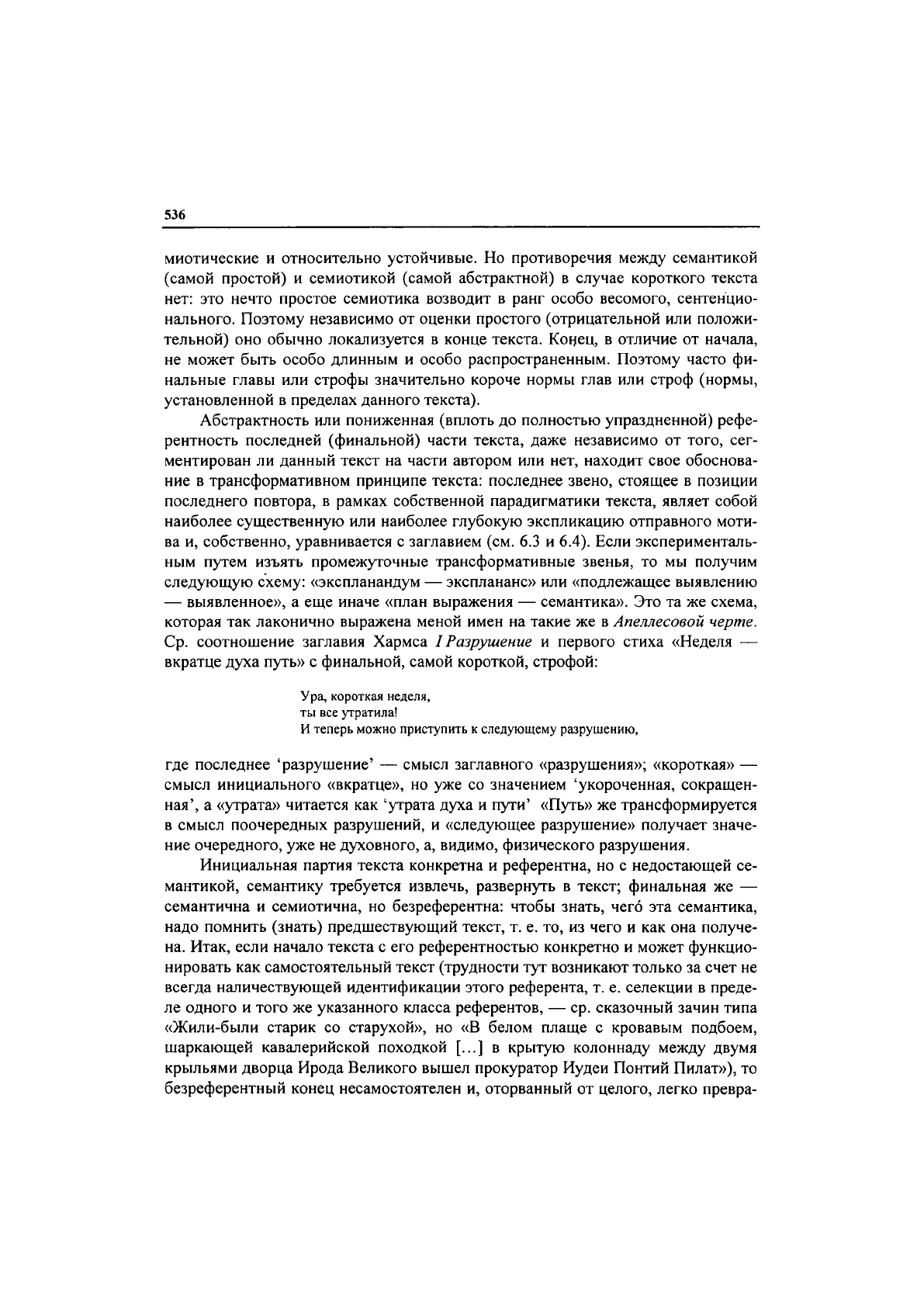
536
миотические и относительно устойчивые. Но противоречия между семантикой
(самой простой) и семиотикой (самой абстрактной) в случае короткого текста
нет: это нечто простое семиотика возводит в ранг особо весомого, сентенцио-
нального. Поэтому независимо от оценки простого (отрицательной или положи-
тельной) оно обычно локализуется в конце текста. Конец, в отличие от начала,
не может быть особо длинным и особо распространенным. Поэтому часто фи-
нальные главы или строфы значительно короче нормы глав или строф (нормы,
установленной в пределах данного текста).
Абстрактность или пониженная (вплоть до полностью упраздненной) рефе-
рентность последней (финальной) части текста, даже независимо от того, сег-
ментирован ли данный текст на части автором или нет, находит свое обоснова-
ние в трансформативном принципе текста: последнее звено, стоящее в позиции
последнего повтора, в рамках собственной парадигматики текста, являет собой
наиболее существенную или наиболее глубокую экспликацию отправного моти-
ва и, собственно, уравнивается с заглавием (см. 6.3 и 6.4). Если эксперименталь-
ным путем изъять промежуточные трансформативные звенья, то мы получим
следующую схему: «экспланандум — эксплананс» или «подлежащее выявлению
— выявленное», а еще иначе «план выражения — семантика». Это та же схема,
которая так лаконично выражена меной имен на такие же в Апеллесовой черте.
Ср. соотношение заглавия Хармса I Разрушение и первого стиха «Неделя —
вкратце духа путь» с финальной, самой короткой, строфой:
Ура, короткая неделя,
ты все утратила!
И теперь можно приступить к следующему разрушению,
где последнее 'разрушение' — смысл заглавного «разрушения»; «короткая» —
смысл инициального «вкратце», но уже со значением 'укороченная, сокращен-
ная', а «утрата» читается как 'утрата духа и пути' «Путь» же трансформируется
в смысл поочередных разрушений, и «следующее разрушение» получает значе-
ние очередного, уже не духовного, а, видимо, физического разрушения.
Инициальная партия текста конкретна и референтна, но с недостающей се-
мантикой, семантику требуется извлечь, развернуть в текст; финальная же —
семантична и семиотична, но безреферентна: чтобы знать, чего эта семантика,
надо помнить (знать) предшествующий текст, т. е. то, из чего и как она получе-
на. Итак, если начало текста с его референтностью конкретно и может функцио-
нировать как самостоятельный текст (трудности тут возникают только за счет не
всегда наличествующей идентификации этого референта, т. е. селекции в преде-
ле одного и того же указанного класса референтов, — ср. сказочный зачин типа
«Жили-были старик со старухой», но «В белом плаще с кровавым подбоем,
шаркающей кавалерийской походкой [...] в крытую колоннаду между двумя
крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат»), то
безреферентный конец несамостоятелен и, оторванный от целого, легко превра-

537
щается в метафору или афоризм со свободной референтной областью, которую
читатель может выкраивать по-разному.
Конечный сегмент текста несамостоятелен и еще иначе. В свете структуры
произведения каждый его элемент многократно связан с предшествующими на
разных уровнях (мотивных, формальных, семантических) и требует памятования
о всех его предыдущих вхождениях в текстовые парадигмы. Будучи «памятью»
о прежних состояниях текста и мира, он куммулирует в себе все порожденные
раньше смыслы. Таково, в частности, финальное имя «Маргарита» в сонете
Иванова Есть мощный звук: немолчною волной... (см. 1.1 и 6.3-6.4), которое да-
же своим формальным звуковым составом становится эквивалентом целого тек-
ста (по принципу анаграммы), не говоря уже о семантике. То же самое наблюда-
ется и при трансформативном подходе: последняя часть — не только повтор
предшествующей, но и повтор всех повторов. В этом плане она — эквивалент
целого. Тем не менее — не самостоятельна. Ее смысл не в ней самой. Ее смысл
проще всего определяется вопросом «Что куммулируется?/Что повторено?» Не
зная этого «что», мы можем избранное звено текста понять только в очень узком
плане (общелингвистически) и, даже вникая в структуру этого звена, понять его
превратно. Поэтому, читая любой художественный текст, необходимо задавать-
ся не только вопросом «В какую парадигму входит данный элемент или признак
текста и его мира?», но и вопросом «Чего он трансформацией является и во что
он сам трансформируется?» (элементарнее: «Откуда взялся и куда девался?»).
Уровень предложения, пожалуй, самый сложный изо всех уровней текста.
Как единица — предложение не самостоятельно, хотя внутренне чаще всего оно
строго организовано и замкнуто. Предложение — не текст, а часть текста, его
дискретная единица. Конечно, возможны предложения со статусом текста, но
тогда они не тождественны самим себе: структура предложения трансформиру-
ется в структуру текста и своими признаками и свойствами выполняет совер-
шенно иную функцию (ср. Bogusławski 1983 и примечания 104, 108).
Предложение само по себе — структура синтаксическая, распределяющая
соответствующие роли попадающим в него элементам языка. По отношению к
миру (референту) она — проект восприятия этого мира (референта) и отмечае-
мых в нем реляций. Вот эти реляции и становятся моделирующим материалом
литературы. Цель практических высказываний и практического синтаксиса —
передать эти реляции. В литературе передаваемые синтаксисом реляции — не
цель, а средство, цель же — значимости данных реляций. Факт, что нечто явля-
ется следствием или причиной чего-нибудь другого, факт, что нечто подчинено
чему-то, или факт, что нечто обладает неким признаком, хотя и нужны литера-
туре, но сообщаются не они, сообщается другое: значимость причинных, след-
ственных, подчиненных и пр. связей или значимость атрибуции (обладания или
не-обладания признаком). По своей природе синтаксис не членит, а, указывая на
реляции, как раз организует разрозненное. Проблема дискретности тут возника-
ет в другой плоскости — в плоскости 'длины/краткости' синтаксических конст-
рукций, а точнее, предложений. Входящее в одно предложение получает статус
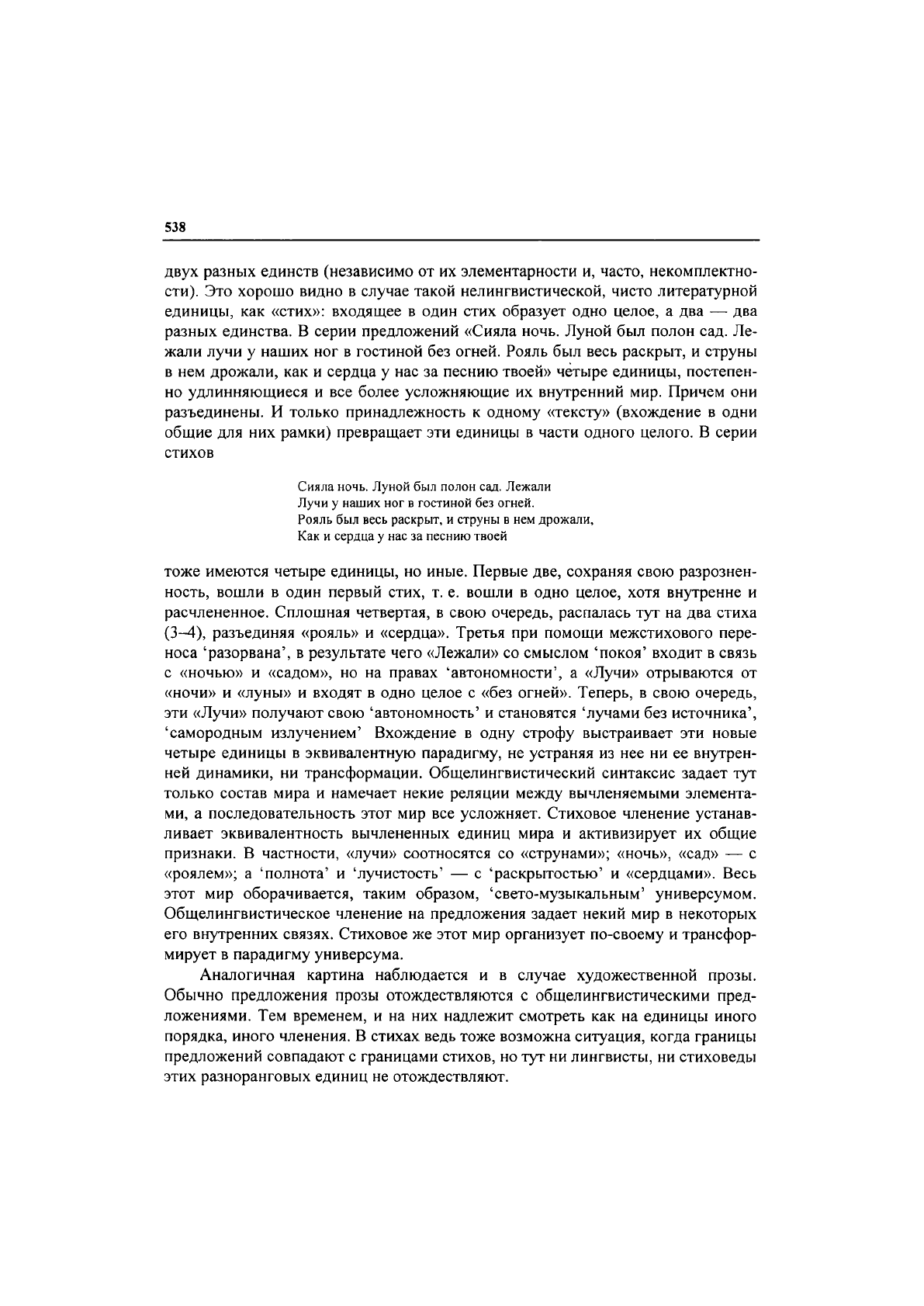
538
двух разных единств (независимо от их элементарности и, часто, некомплектно-
сти). Это хорошо видно в случае такой нелингвистической, чисто литературной
единицы, как «стих»: входящее в один стих образует одно целое, а два — два
разных единства. В серии предложений «Сияла ночь. Луной был полон сад. Ле-
жали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны
в нем дрожали, как и сердца у нас за песнию твоей» четыре единицы, постепен-
но удлинняющиеся и все более усложняющие их внутренний мир. Причем они
разъединены. И только принадлежность к одному «тексту» (вхождение в одни
общие для них рамки) превращает эти единицы в части одного целого. В серии
стихов
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей
тоже имеются четыре единицы, но иные. Первые две, сохраняя свою разрознен-
ность, вошли в один первый стих, т. е. вошли в одно целое, хотя внутренне и
расчлененное. Сплошная четвертая, в свою очередь, распалась тут на два стиха
(3-4), разъединяя «рояль» и «сердца». Третья при помощи межстихового пере-
носа 'разорвана', в результате чего «Лежали» со смыслом 'покоя' входит в связь
с «ночью» и «садом», но на правах 'автономности', а «Лучи» отрываются от
«ночи» и «луны» и входят в одно целое с «без огней». Теперь, в свою очередь,
эти «Лучи» получают свою 'автономность' и становятся 'лучами без источника',
'самородным излучением' Вхождение в одну строфу выстраивает эти новые
четыре единицы в эквивалентную парадигму, не устраняя из нее ни ее внутрен-
ней динамики, ни трансформации. Общелингвистический синтаксис задает тут
только состав мира и намечает некие реляции между вычленяемыми элемента-
ми, а последовательность этот мир все усложняет. Стиховое членение устанав-
ливает эквивалентность вычлененных единиц мира и активизирует их общие
признаки. В частности, «лучи» соотносятся со «струнами»; «ночь», «сад» — с
«роялем»; а 'полнота' и 'лучистость' — с 'раскрытостью' и «сердцами». Весь
этот мир оборачивается, таким образом, 'свето-музыкальным' универсумом.
Общелингвистическое членение на предложения задает некий мир в некоторых
его внутренних связях. Стиховое же этот мир организует по-своему и трансфор-
мирует в парадигму универсума.
Аналогичная картина наблюдается и в случае художественной прозы.
Обычно предложения прозы отождествляются с общелингвистическими пред-
ложениями. Тем временем, и на них надлежит смотреть как на единицы иного
порядка, иного членения. В стихах ведь тоже возможна ситуация, когда границы
предложений совпадают с границами стихов, но тут ни лингвисты, ни стиховеды
этих разноранговых единиц не отождествляют.
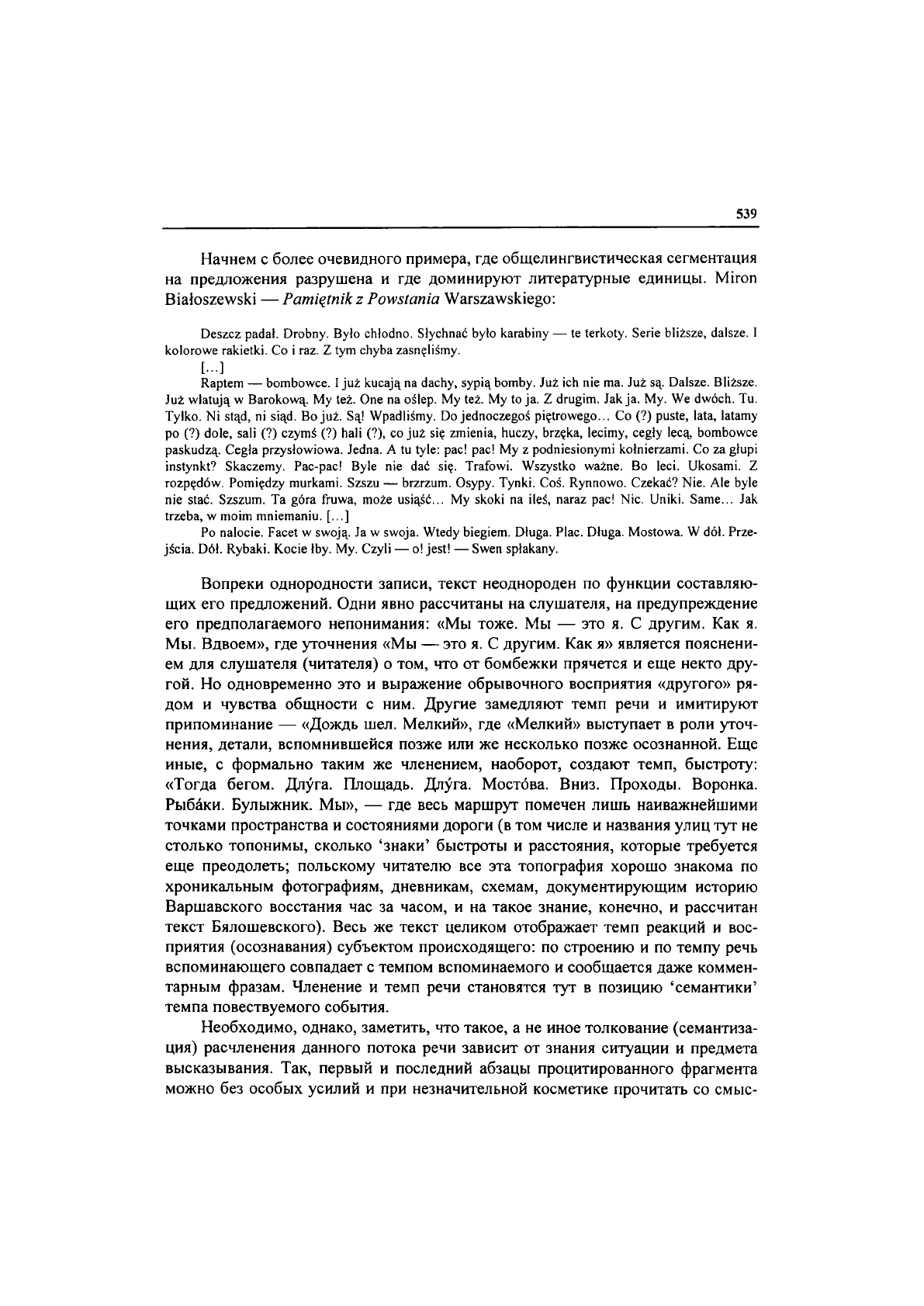
539
Начнем с более очевидного примера, где общелингвистическая сегментация
на предложения разрушена и где доминируют литературные единицы. Miron
Białoszewski — Pamiętnik z Powstania Warszawskiego:
Deszcz padał. Drobny. Było chłodno. Słychnać było karabiny — te terkoty. Serie bliższe, dalsze. I
kolorowe rakietki. Co i raz. Z tym chyba zasnęliśmy.
[...]
Raptem — bombowce. I już kucają na dachy, sypią bomby. Już ich nie ma. Już są. Dalsze. Bliższe.
Już wlatują w Barokową. My też. One na oślep. My też. My to ja. Z drugim. Jak ja. My. We dwóch. Tu.
Tylko. Ni stąd, ni siąd. Bo już. Są! Wpadliśmy. Do jednoczegoś piętrowego... Co (?) puste, lata, latamy
po (?) dole, sali (?) czymś (?) hali (?), co już się zmienia, huczy, brzęka, lecimy, cegły lecą, bombowce
paskudzą. Cegła przysłowiowa. Jedna. A tu tyle: pac! pac! My z podniesionymi kołnierzami. Co za głupi
instynkt? Skaczemy. Рас-рас! Byle nie dać się. Trafowi. Wszystko ważne. Bo leci. Ukosami. Z
rozpędów. Pomiędzy murkami. Szszu — brzrzum. Osypy. Tynki. Coś. Rynnowo. Czekać? Nie. Ale byle
nie stać. Szszum. Ta góra fruwa, może usiąść... My skoki na ileś, naraz pac! Nic. Uniki. Same... Jak
trzeba, w moim mniemaniu. [...]
Po nalocie. Facet w swoją. Ja w swoja. Wtedy biegiem. Długa. Plac. Długa. Mostowa. W dół. Prze-
jścia. Dół. Rybaki. Kocie łby. My. Czyli — o! jest! — Swen spłakany.
Вопреки однородности записи, текст неоднороден по функции составляю-
щих его предложений. Одни явно рассчитаны на слушателя, на предупреждение
его предполагаемого непонимания: «Мы тоже. Мы — это я. С другим. Как я.
Мы. Вдвоем», где уточнения «Мы — это я. С другим. Как я» является пояснени-
ем для слушателя (читателя) о том, что от бомбежки прячется и еще некто дру-
гой. Но одновременно это и выражение обрывочного восприятия «другого» ря-
дом и чувства общности с ним. Другие замедляют темп речи и имитируют
припоминание — «Дождь шел. Мелкий», где «Мелкий» выступает в роли уточ-
нения, детали, вспомнившейся позже или же несколько позже осознанной. Еще
иные, с формально таким же членением, наоборот, создают темп, быстроту:
«Тогда бегом. Длуга. Площадь. Длуга. Мостова. Вниз. Проходы. Воронка.
Рыбаки. Булыжник. Мы», — где весь маршрут помечен лишь наиважнейшими
точками пространства и состояниями дороги (в том числе и названия улиц тут не
столько топонимы, сколько 'знаки' быстроты и расстояния, которые требуется
еще преодолеть; польскому читателю все эта топография хорошо знакома по
хроникальным фотографиям, дневникам, схемам, документирующим историю
Варшавского восстания час за часом, и на такое знание, конечно, и рассчитан
текст Бялошевского). Весь же текст целиком отображает темп реакций и вос-
приятия (осознавания) субъектом происходящего: по строению и по темпу речь
вспоминающего совпадает с темпом вспоминаемого и сообщается даже коммен-
тарным фразам. Членение и темп речи становятся тут в позицию 'семантики'
темпа повествуемого события.
Необходимо, однако, заметить, что такое, а не иное толкование (семантиза-
ция) расчленения данного потока речи зависит от знания ситуации и предмета
высказывания. Так, первый и последний абзацы процитированного фрагмента
можно без особых усилий и при незначительной косметике прочитать со смыс-
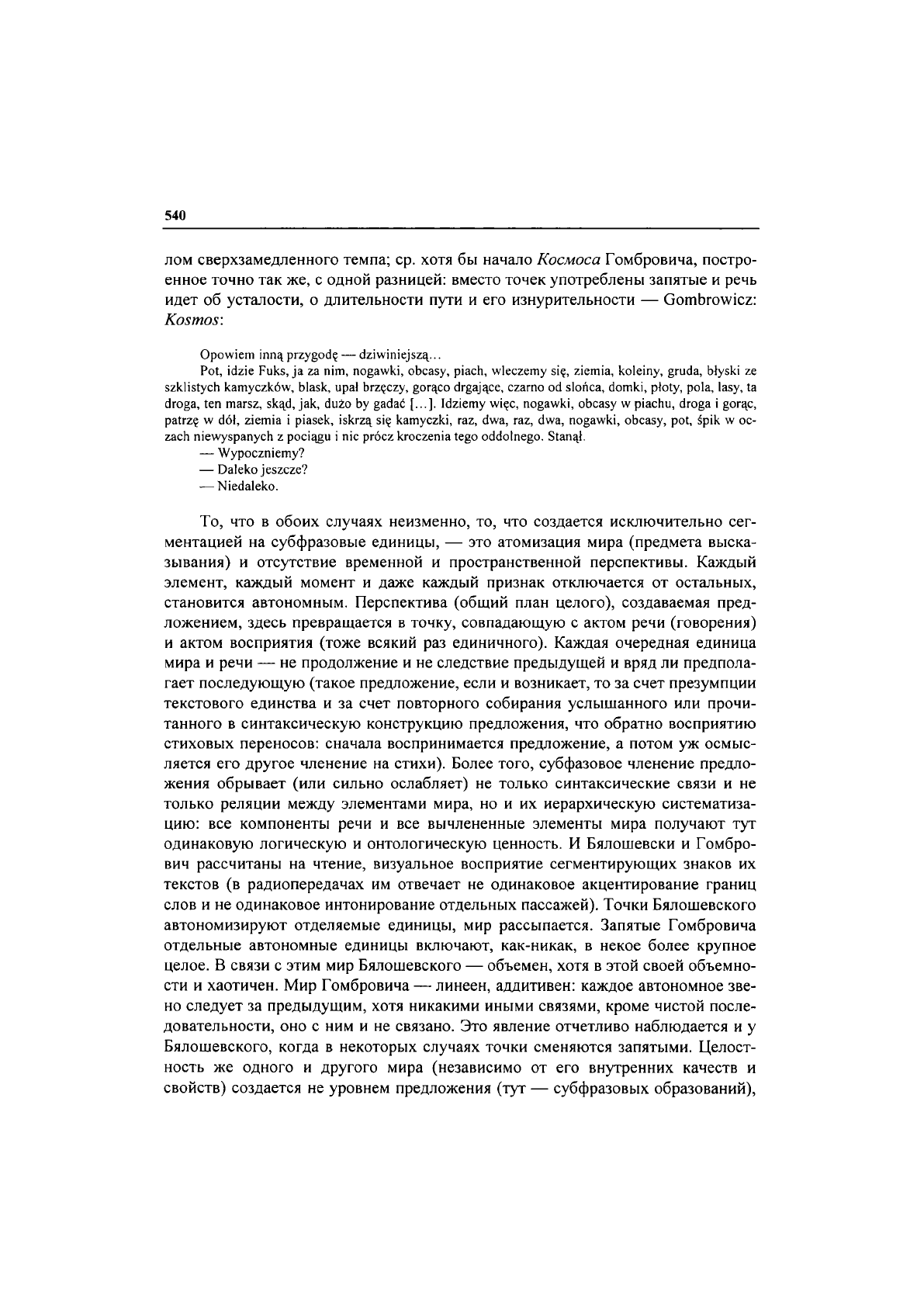
540
лом сверхзамедленного темпа; ср. хотя бы начало Космоса Гомбровича, постро-
енное точно так же, с одной разницей: вместо точек употреблены запятые и речь
идет об усталости, о длительности пути и его изнурительности — Gombrowicz:
Kosmos:
Opowiem inną przygodę — dziwiniejszą...
Pot, idzie Fuks, ja za nim, nogawki, obcasy, piach, wleczemy się, ziemia, koleiny, gruda, błyski ze
szklistych kamyczków, blask, upał brzęczy, gorąco drgające, czarno od słońca, domki, płoty, pola, lasy, ta
droga, ten marsz, skąd, jak, dużo by gadać [...]. Idziemy więc, nogawki, obcasy w piachu, droga i gorąc,
patrzę w dół, ziemia i piasek, iskrzą się kamyczki, raz, dwa, raz, dwa, nogawki, obcasy, pot, śpik w oc-
zach niewyspanych z pociągu i nic prócz kroczenia tego oddolnego. Stanął.
— Wypoczniemy?
— Daleko jeszcze?
— Niedaleko.
То, что в обоих случаях неизменно, то, что создается исключительно сег-
ментацией на субфразовые единицы, — это атомизация мира (предмета выска-
зывания) и отсутствие временной и пространственной перспективы. Каждый
элемент, каждый момент и даже каждый признак отключается от остальных,
становится автономным. Перспектива (общий план целого), создаваемая пред-
ложением, здесь превращается в точку, совпадающую с актом речи (говорения)
и актом восприятия (тоже всякий раз единичного). Каждая очередная единица
мира и речи — не продолжение и не следствие предыдущей и вряд ли предпола-
гает последующую (такое предложение, если и возникает, то за счет презумпции
текстового единства и за счет повторного собирания услышанного или прочи-
танного в синтаксическую конструкцию предложения, что обратно восприятию
стиховых переносов: сначала воспринимается предложение, а потом уж осмыс-
ляется его другое членение на стихи). Более того, субфазовое членение предло-
жения обрывает (или сильно ослабляет) не только синтаксические связи и не
только реляции между элементами мира, но и их иерархическую систематиза-
цию: все компоненты речи и все вычлененные элементы мира получают тут
одинаковую логическую и онтологическую ценность. И Бялошевски и Гомбро-
вич рассчитаны на чтение, визуальное восприятие сегментирующих знаков их
текстов (в радиопередачах им отвечает не одинаковое акцентирование границ
слов и не одинаковое интонирование отдельных пассажей). Точки Бялошевского
автономизируют отделяемые единицы, мир рассыпается. Запятые Гомбровича
отдельные автономные единицы включают, как-никак, в некое более крупное
целое. В связи с этим мир Бялошевского — объемен, хотя в этой своей объемно-
сти и хаотичен. Мир Гомбровича — линеен, аддитивен: каждое автономное зве-
но следует за предыдущим, хотя никакими иными связями, кроме чистой после-
довательности, оно с ним и не связано. Это явление отчетливо наблюдается и у
Бялошевского, когда в некоторых случаях точки сменяются запятыми. Целост-
ность же одного и другого мира (независимо от его внутренних качеств и
свойств) создается не уровнем предложения (тут — субфразовых образований),
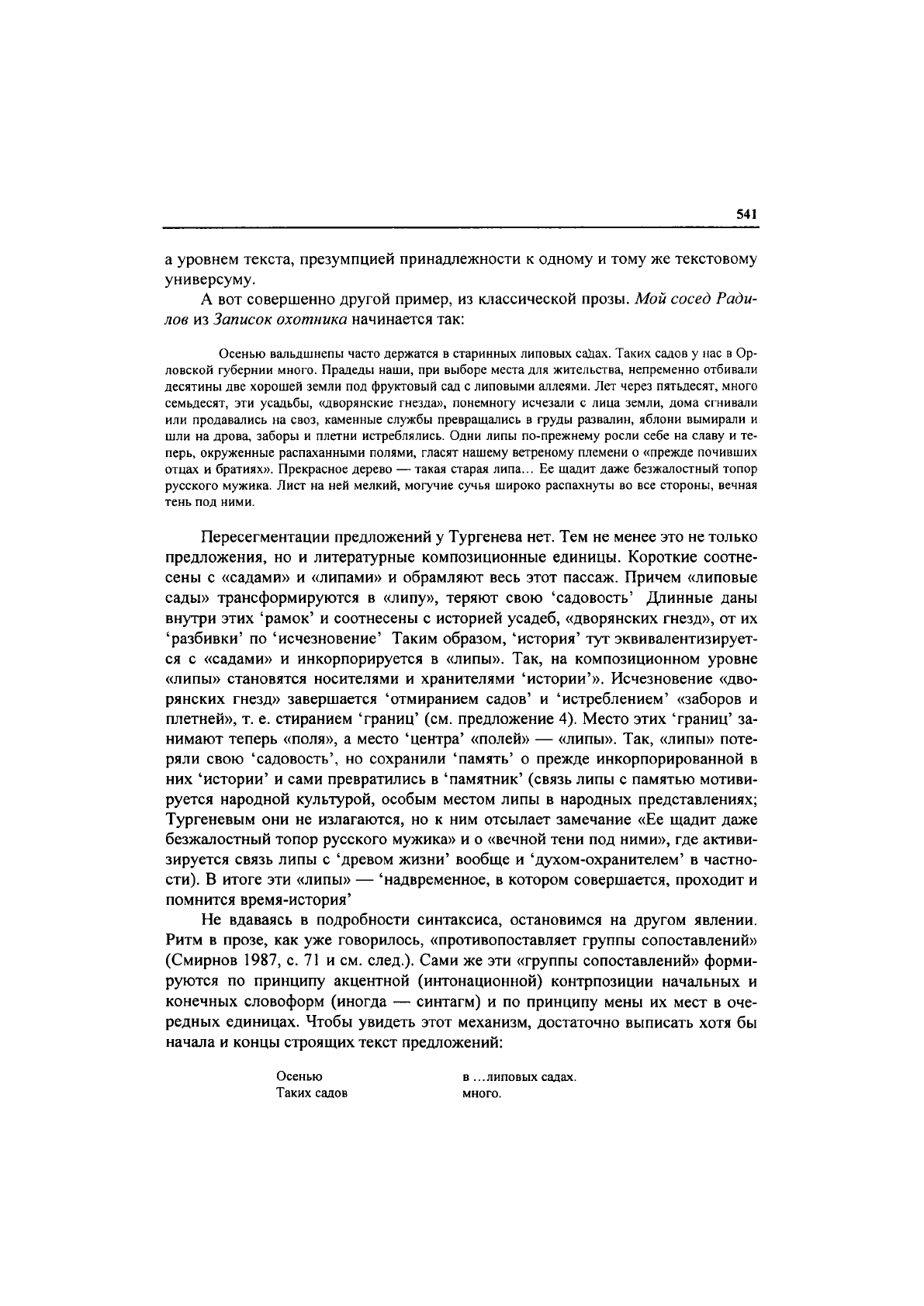
541
а уровнем текста, презумпцией принадлежности к одному и тому же текстовому
универсуму.
А вот совершенно другой пример, из классической прозы. Мой сосед Ради-
лов из Записок охотника начинается так:
Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых сайах. Таких садов у нас в Ор-
ловской губернии много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали
десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много
семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали
или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и
шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и те-
перь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших
отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа... Ее щадит даже безжалостный топор
русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко распахнуты во все стороны, вечная
тень под ними.
Пересегментации предложений у Тургенева нет. Тем не менее это не только
предложения, но и литературные композиционные единицы. Короткие соотне-
сены с «садами» и «липами» и обрамляют весь этот пассаж. Причем «липовые
сады» трансформируются в «липу», теряют свою 'садовость' Длинные даны
внутри этих 'рамок' и соотнесены с историей усадеб, «дворянских гнезд», от их
'разбивки' по 'исчезновение' Таким образом, 'история' тут эквивалентизирует-
ся с «садами» и инкорпорируется в «липы». Так, на композиционном уровне
«липы» становятся носителями и хранителями 'истории'». Исчезновение «дво-
рянских гнезд» завершается 'отмиранием садов' и 'истреблением' «заборов и
плетней», т. е. стиранием 'границ' (см. предложение 4). Место этих 'границ' за-
нимают теперь «поля», а место 'центра' «полей» — «липы». Так, «липы» поте-
ряли свою 'садовость', но сохранили 'память' о прежде инкорпорированной в
них 'истории' и сами превратились в 'памятник' (связь липы с памятью мотиви-
руется народной культурой, особым местом липы в народных представлениях;
Тургеневым они не излагаются, но к ним отсылает замечание «Ее щадит даже
безжалостный топор русского мужика» и о «вечной тени под ними», где активи-
зируется связь липы с 'древом жизни' вообще и 'духом-охранителем' в частно-
сти). В итоге эти «липы» — 'надвременное, в котором совершается, проходит и
помнится время-история'
Не вдаваясь в подробности синтаксиса, остановимся на другом явлении.
Ритм в прозе, как уже говорилось, «противопоставляет группы сопоставлений»
(Смирнов 1987, с. 71 и см. след.). Сами же эти «группы сопоставлений» форми-
руются по принципу акцентной (интонационной) контрпозиции начальных и
конечных словоформ (иногда — синтагм) и по принципу мены их мест в оче-
редных единицах. Чтобы увидеть этот механизм, достаточно выписать хотя бы
начала и концы строящих текст предложений:
Осенью
Таких садов
в ...липовых садах,
много.
