Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

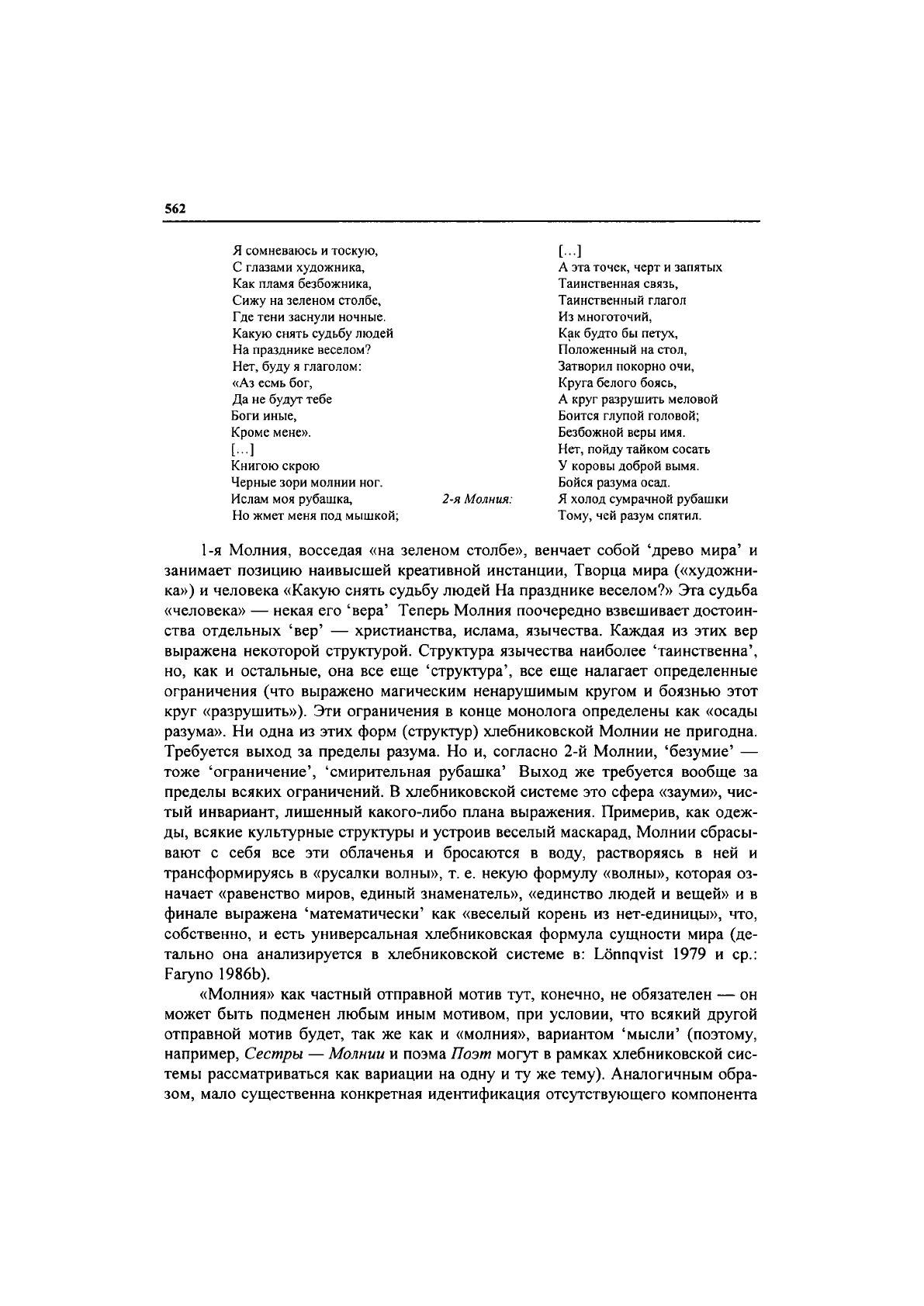
562
Я сомневаюсь и тоскую,
С глазами художника,
Как пламя безбожника,
Сижу на зеленом столбе,
Где тени заснули ночные.
Какую снять судьбу людей
На празднике веселом?
Нет, буду я глаголом:
«Аз есмь бог,
Да не будут тебе
Боги иные,
Кроме мене».
А эта точек, черт и запятых
Таинственная связь,
Таинственный глагол
Из многоточий,
Как будто бы петух,
Положенный на стол,
Затворил покорно очи,
Круга белого боясь,
А круг разрушить меловой
Боится глупой головой;
Безбожной веры имя.
Нет, пойду тайком сосать
У коровы доброй вымя.
Бойся разума осад.
[...]
[...]
Книгою скрою
Черные зори молнии ног.
Ислам моя рубашка,
Но жмет меня под мышкой;
2-я Молния: Я холод сумрачной рубашки
Тому, чей разум спятил.
1-я Молния, восседая «на зеленом столбе», венчает собой 'древо мира' и
занимает позицию наивысшей креативной инстанции, Творца мира («художни-
ка») и человека «Какую снять судьбу людей На празднике веселом?» Эта судьба
«человека» — некая его 'вера' Теперь Молния поочередно взвешивает достоин-
ства отдельных 'вер' — христианства, ислама, язычества. Каждая из этих вер
выражена некоторой структурой. Структура язычества наиболее 'таинственна',
но, как и остальные, она все еще 'структура', все еще налагает определенные
ограничения (что выражено магическим ненарушимым кругом и боязнью этот
круг «разрушить»). Эти ограничения в конце монолога определены как «осады
разума». Ни одна из этих форм (структур) хлебниковской Молнии не пригодна.
Требуется выход за пределы разума. Но и, согласно 2-й Молнии, 'безумие' —
тоже 'ограничение', 'смирительная рубашка' Выход же требуется вообще за
пределы всяких ограничений. В хлебниковской системе это сфера «зауми», чис-
тый инвариант, лишенный какого-либо плана выражения. Примерив, как одеж-
ды, всякие культурные структуры и устроив веселый маскарад, Молнии сбрасы-
вают с себя все эти облаченья и бросаются в воду, растворяясь в ней и
трансформируясь в «русалки волны», т. е. некую формулу «волны», которая оз-
начает «равенство миров, единый знаменатель», «единство людей и вещей» и в
финале выражена 'математически' как «веселый корень из нет-единицы», что,
собственно, и есть универсальная хлебниковская формула сущности мира (де-
тально она анализируется в хлебниковской системе в: Lönnqvist 1979 и ср.:
Faryno 1986b).
«Молния» как частный отправной мотив тут, конечно, не обязателен — он
может быть подменен любым иным мотивом, при условии, что всякий другой
отправной мотив будет, так же как и «молния», вариантом 'мысли' (поэтому,
например, Сестры — Молнии и поэма Поэт могут в рамках хлебниковской сис-
темы рассматриваться как вариации на одну и ту же тему). Аналогичным обра-
зом, мало существенна конкретная идентификация отсутствующего компонента
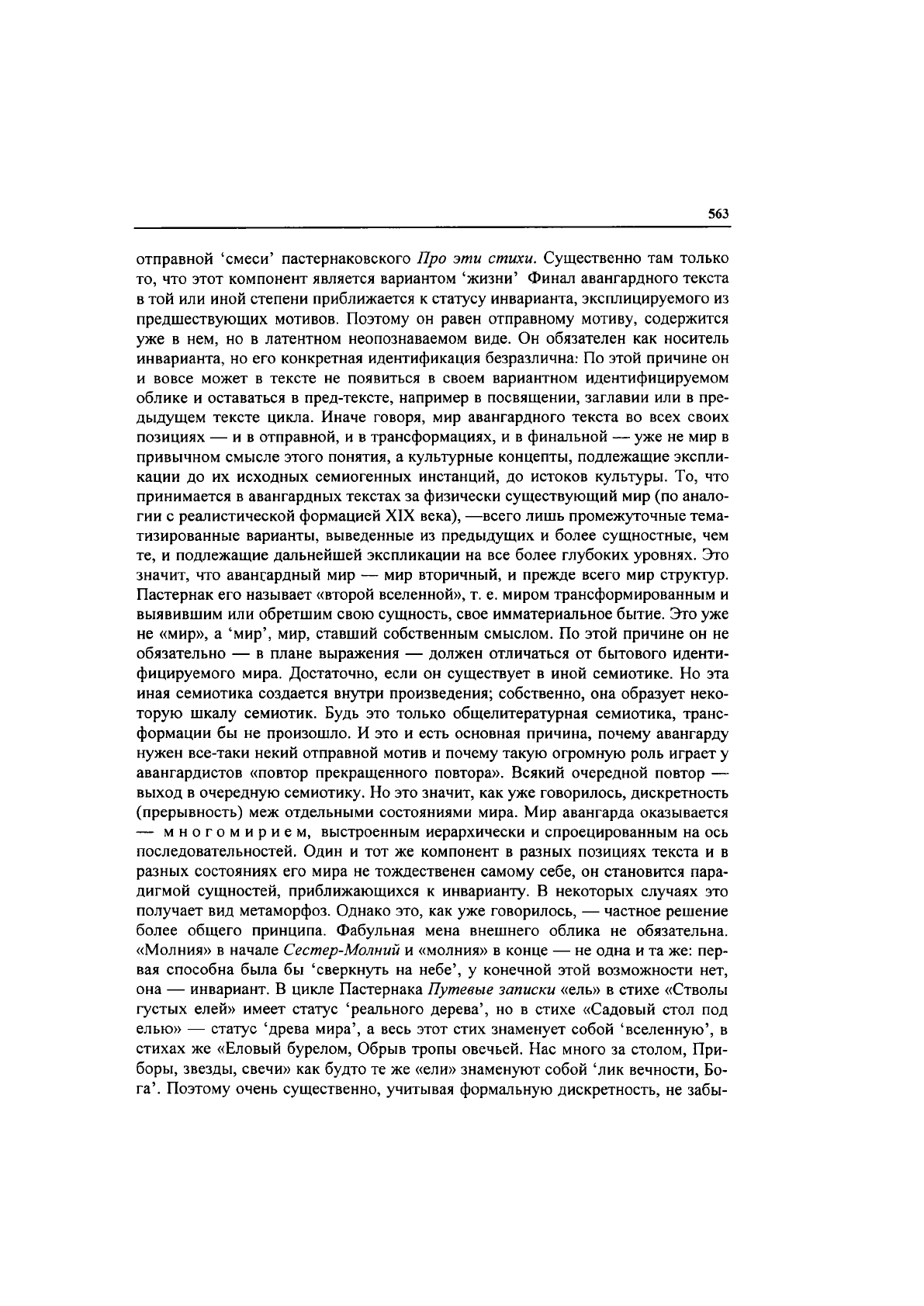
563
отправной 'смеси' пастернаковского Про эти стихи. Существенно там только
то, что этот компонент является вариантом 'жизни' Финал авангардного текста
в той или иной степени приближается к статусу инварианта, эксплицируемого из
предшествующих мотивов. Поэтому он равен отправному мотиву, содержится
уже в нем, но в латентном неопознаваемом виде. Он обязателен как носитель
инварианта, но его конкретная идентификация безразлична: По этой причине он
и вовсе может в тексте не появиться в своем вариантном идентифицируемом
облике и оставаться в пред-тексте, например в посвящении, заглавии или в пре-
дыдущем тексте цикла. Иначе говоря, мир авангардного текста во всех своих
позициях — ив отправной, и в трансформациях, и в финальной — уже не мир в
привычном смысле этого понятия, а культурные концепты, подлежащие экспли-
кации до их исходных семиогенных инстанций, до истоков культуры. То, что
принимается в авангардных текстах за физически существующий мир (по анало-
гии с реалистической формацией XIX века), —всего лишь промежуточные тема-
тизированные варианты, выведенные из предыдущих и более сущностные, чем
те, и подлежащие дальнейшей экспликации на все более глубоких уровнях. Это
значит, что авангардный мир — мир вторичный, и прежде всего мир структур.
Пастернак его называет «второй вселенной», т. е. миром трансформированным и
выявившим или обретшим свою сущность, свое имматериальное бытие. Это уже
не «мир», а 'мир', мир, ставший собственным смыслом. По этой причине он не
обязательно — в плане выражения — должен отличаться от бытового иденти-
фицируемого мира. Достаточно, если он существует в иной семиотике. Но эта
иная семиотика создается внутри произведения; собственно, она образует неко-
торую шкалу семиотик. Будь это только общелитературная семиотика, транс-
формации бы не произошло. И это и есть основная причина, почему авангарду
нужен все-таки некий отправной мотив и почему такую огромную роль играет у
авангардистов «повтор прекращенного повтора». Всякий очередной повтор —
выход в очередную семиотику. Но это значит, как уже говорилось, дискретность
(прерывность) меж отдельными состояниями мира. Мир авангарда оказывается
— многомирием, выстроенным иерархически и спроецированным на ось
последовательностей. Один и тот же компонент в разных позициях текста и в
разных состояниях его мира не тождественен самому себе, он становится пара-
дигмой сущностей, приближающихся к инварианту. В некоторых случаях это
получает вид метаморфоз. Однако это, как уже говорилось, — частное решение
более общего принципа. Фабульная мена внешнего облика не обязательна.
«Молния» в начале Сестер-Молний и «молния» в конце — не одна и та же: пер-
вая способна была бы 'сверкнуть на небе', у конечной этой возможности нет,
она — инвариант. В цикле Пастернака Путевые записки «ель» в стихе «Стволы
густых елей» имеет статус 'реального дерева', но в стихе «Садовый стол под
елью» — статус 'древа мира', а весь этот стих знаменует собой 'вселенную', в
стихах же «Еловый бурелом, Обрыв тропы овечьей. Нас много за столом, При-
боры, звезды, свечи» как будто те же «ели» знаменуют собой 'лик вечности, Бо-
га'. Поэтому очень существенно, учитывая формальную дискретность, не забы-
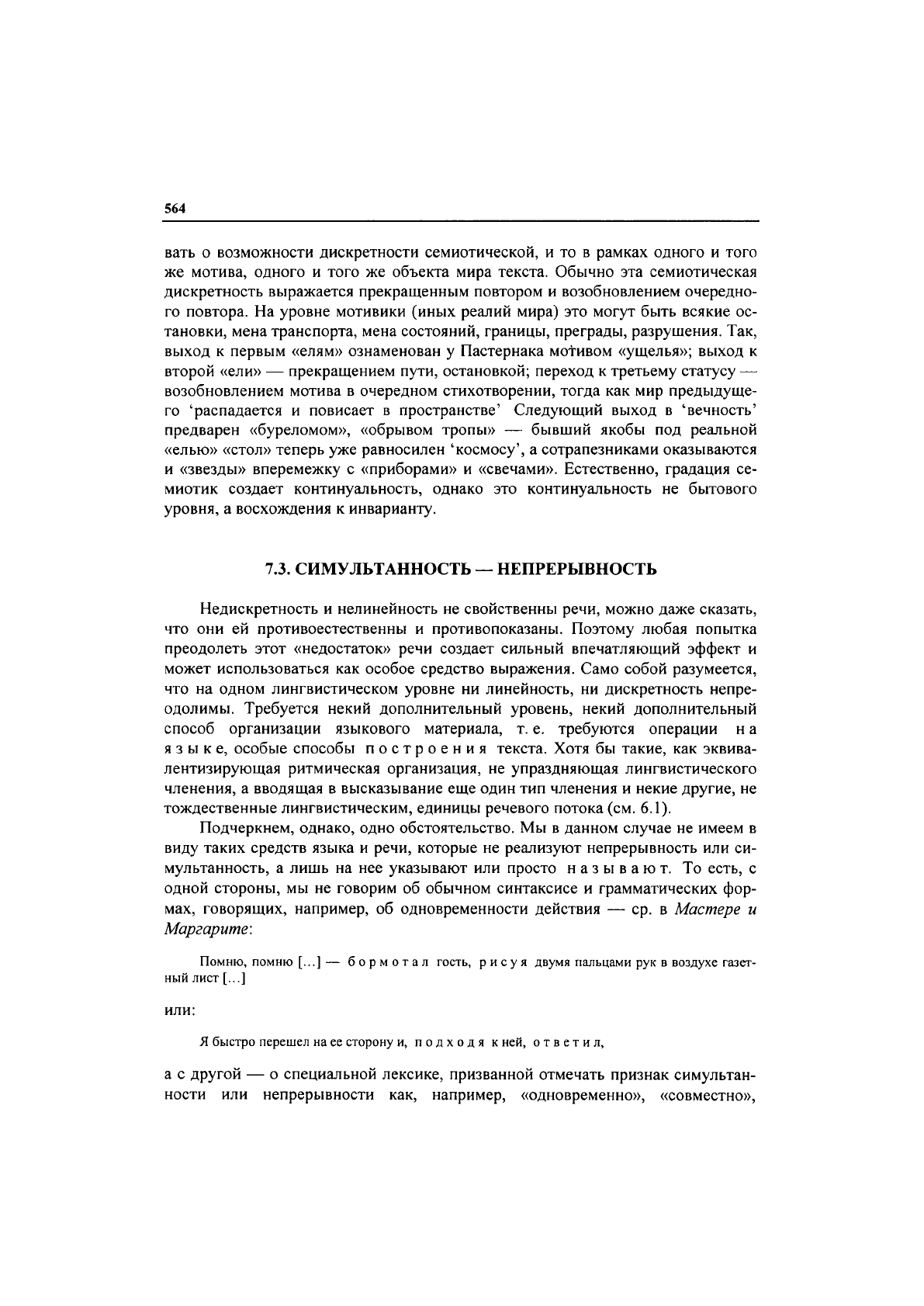
564
вать о возможности дискретности семиотической, и то в рамках одного и того
же мотива, одного и того же объекта мира текста. Обычно эта семиотическая
дискретность выражается прекращенным повтором и возобновлением очередно-
го повтора. На уровне мотивики (иных реалий мира) это могут быть всякие ос-
тановки, мена транспорта, мена состояний, границы, преграды, разрушения. Так,
выход к первым «елям» ознаменован у Пастернака мотивом «ущелья»; выход к
второй «ели» — прекращением пути, остановкой; переход к третьему статусу —
возобновлением мотива в очередном стихотворении, тогда как мир предыдуще-
го 'распадается и повисает в пространстве' Следующий выход в 'вечность'
предварен «буреломом», «обрывом тропы» — бывший якобы под реальной
«елью» «стол» теперь уже равносилен 'космосу', а сотрапезниками оказываются
и «звезды» вперемежку с «приборами» и «свечами». Естественно, градация се-
миотик создает континуальность, однако это континуальность не бытового
уровня, а восхождения к инварианту.
7.3. СИМУЛЬТАННОСТЬ — НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Недискретность и нелинейность не свойственны речи, можно даже сказать,
что они ей противоестественны и противопоказаны. Поэтому любая попытка
преодолеть этот «недостаток» речи создает сильный впечатляющий эффект и
может использоваться как особое средство выражения. Само собой разумеется,
что на одном лингвистическом уровне ни линейность, ни дискретность непре-
одолимы. Требуется некий дополнительный уровень, некий дополнительный
способ организации языкового материала, т. е. требуются операции н а
языке, особые способы построения текста. Хотя бы такие, как эквива-
лентизирующая ритмическая организация, не упраздняющая лингвистического
членения, а вводящая в высказывание еще один тип членения и некие другие, не
тождественные лингвистическим, единицы речевого потока (см. 6.1).
Подчеркнем, однако, одно обстоятельство. Мы в данном случае не имеем в
виду таких средств языка и речи, которые не реализуют непрерывность или си-
мультанность, а лишь на нее указывают или просто называют. То есть, с
одной стороны, мы не говорим об обычном синтаксисе и грамматических фор-
мах, говорящих, например, об одновременности действия — ср. в Мастере и
Маргарите:
Помню, помню [...] — бормотал гость, рисуя двумя пальцами рук в воздухе газет-
ный лист [...]
или:
Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил,
а с другой — о специальной лексике, призванной отмечать признак симультан-
ности или непрерывности как, например, «одновременно», «совместно»,
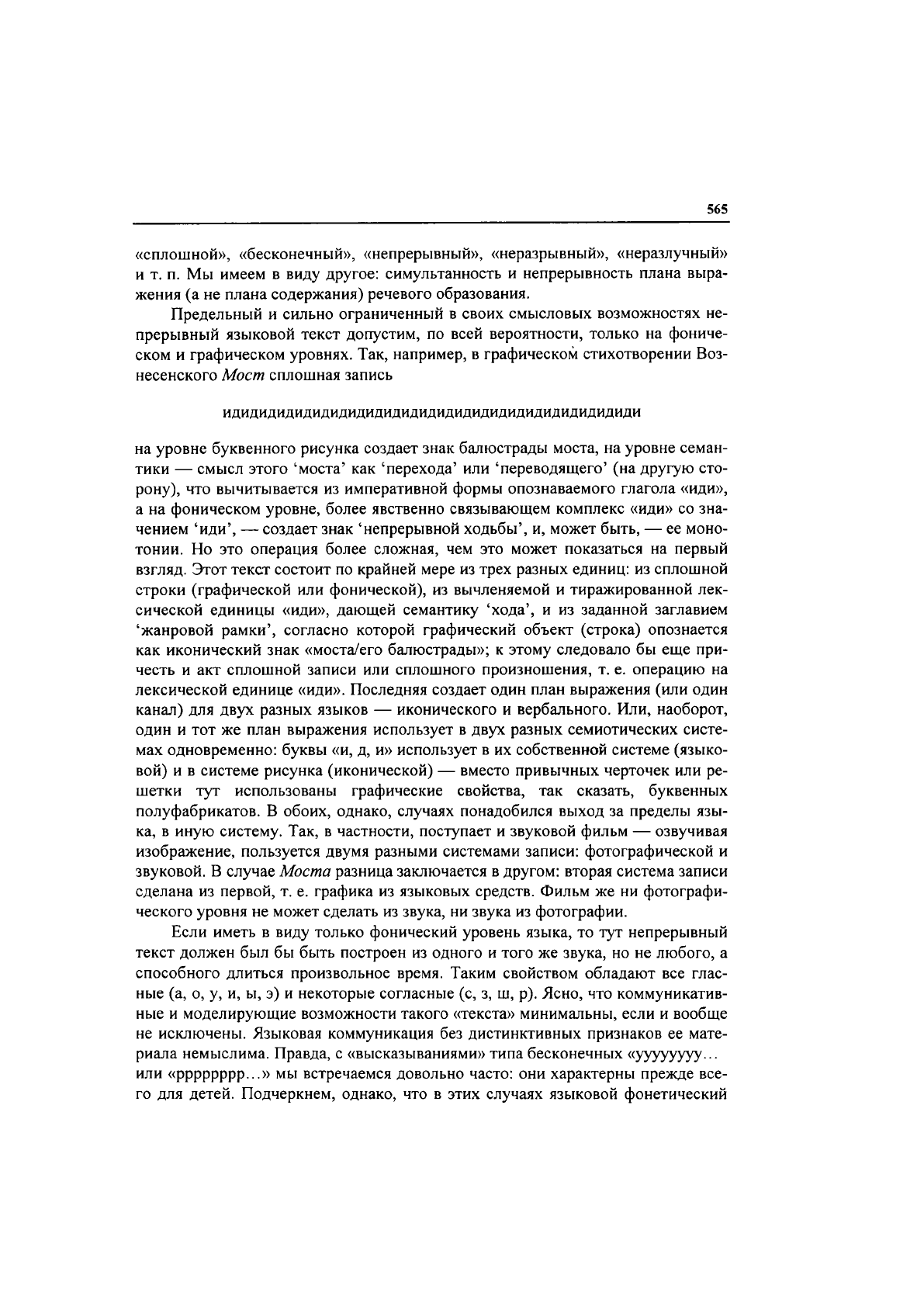
565
«сплошной», «бесконечный», «непрерывный», «неразрывный», «неразлучный»
и т. п. Мы имеем в виду другое: симультанность и непрерывность плана выра-
жения (а не плана содержания) речевого образования.
Предельный и сильно ограниченный в своих смысловых возможностях не-
прерывный языковой текст допустим, по всей вероятности, только на фониче-
ском и графическом уровнях. Так, например, в графическом стихотворении Воз-
несенского Мост сплошная запись
идидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидиди
на уровне буквенного рисунка создает знак балюстрады моста, на уровне семан-
тики — смысл этого 'моста' как 'перехода' или 'переводящего' (на другую сто-
рону), что вычитывается из императивной формы опознаваемого глагола «иди»,
а на фоническом уровне, более явственно связывающем комплекс «иди» со зна-
чением 'иди', — создает знак 'непрерывной ходьбы', и, может быть, — ее моно-
тонии. Но это операция более сложная, чем это может показаться на первый
взгляд. Этот текст состоит по крайней мере из трех разных единиц: из сплошной
строки (графической или фонической), из вычленяемой и тиражированной лек-
сической единицы «иди», дающей семантику 'хода', и из заданной заглавием
'жанровой рамки', согласно которой графический объект (строка) опознается
как иконический знак «моста/его балюстрады»; к этому следовало бы еще при-
честь и акт сплошной записи или сплошного произношения, т. е. операцию на
лексической единице «иди». Последняя создает один план выражения (или один
канал) для двух разных языков — иконического и вербального. Или, наоборот,
один и тот же план выражения использует в двух разных семиотических систе-
мах одновременно: буквы «и, д, и» использует в их собственной системе (языко-
вой) и в системе рисунка (иконической) — вместо привычных черточек или ре-
шетки тут использованы графические свойства, так сказать, буквенных
полуфабрикатов. В обоих, однако, случаях понадобился выход за пределы язы-
ка, в иную систему. Так, в частности, поступает и звуковой фильм — озвучивая
изображение, пользуется двумя разными системами записи: фотографической и
звуковой. В случае Моста разница заключается в другом: вторая система записи
сделана из первой, т. е. графика из языковых средств. Фильм же ни фотографи-
ческого уровня не может сделать из звука, ни звука из фотографии.
Если иметь в виду только фонический уровень языка, то тут непрерывный
текст должен был бы быть построен из одного и того же звука, но не любого, а
способного длиться произвольное время. Таким свойством обладают все глас-
ные (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (с, з, ш, р). Ясно, что коммуникатив-
ные и моделирующие возможности такого «текста» минимальны, если и вообще
не исключены. Языковая коммуникация без дистинктивных признаков ее мате-
риала немыслима. Правда, с «высказываниями» типа бесконечных «уууууууу...
или «рррррррр...» мы встречаемся довольно часто: они характерны прежде все-
го для детей. Подчеркнем, однако, что в этих случаях языковой фонетический
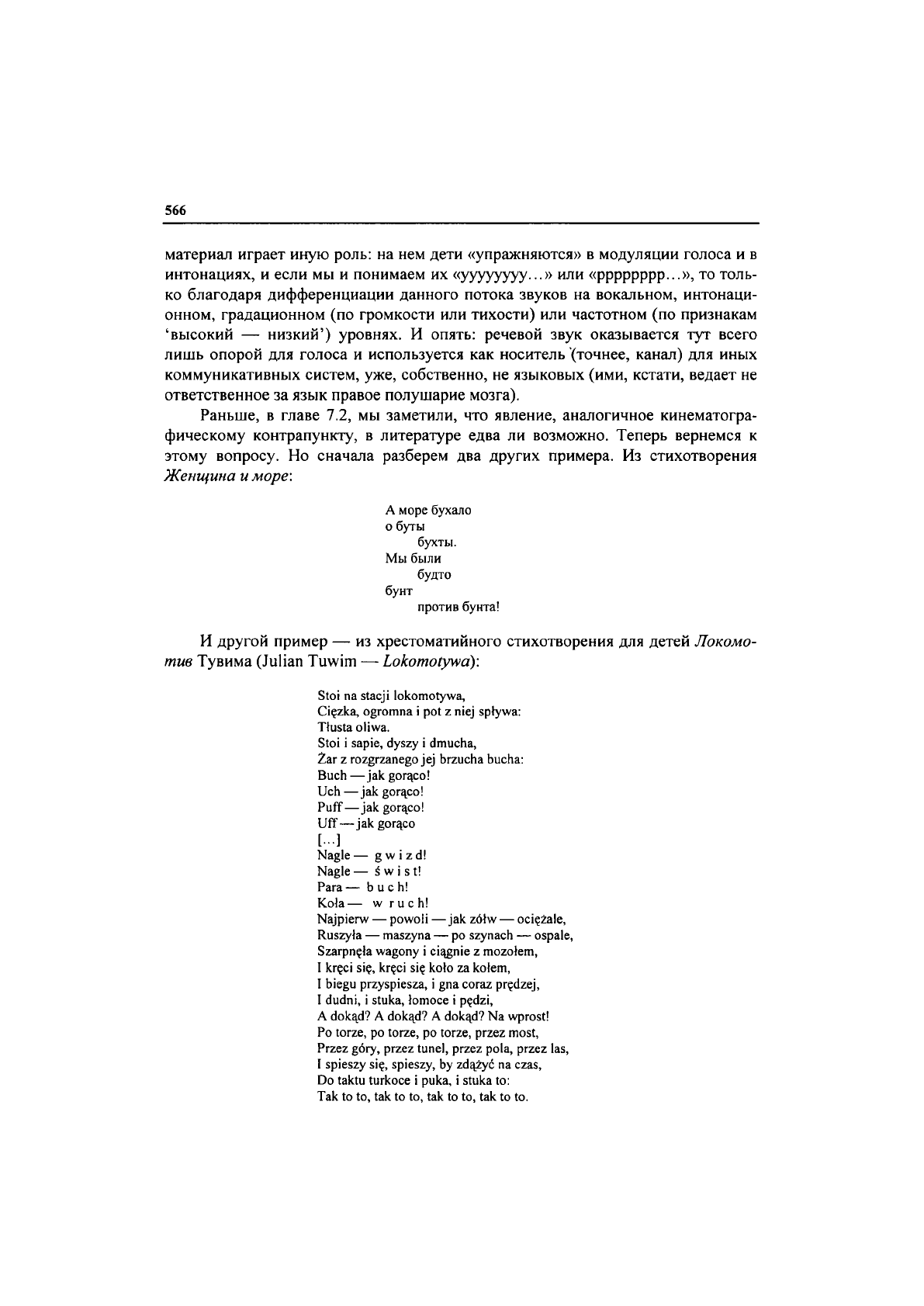
566
материал играет иную роль: на нем дети «упражняются» в модуляции голоса и в
интонациях, и если мы и понимаем их «уууууууу. •» или «рррррррр...», то толь-
ко благодаря дифференциации данного потока звуков на вокальном, интонаци-
онном, градационном (по громкости или тихости) или частотном (по признакам
'высокий — низкий') уровнях. И опять: речевой звук оказывается тут всего
лишь опорой для голоса и используется как носитель (точнее, канал) для иных
коммуникативных систем, уже, собственно, не языковых (ими, кстати, ведает не
ответственное за язык правое полушарие мозга).
Раньше, в главе 7.2, мы заметили, что явление, аналогичное кинематогра-
фическому контрапункту, в литературе едва ли возможно. Теперь вернемся к
этому вопросу. Но сначала разберем два других примера. Из стихотворения
Женщина и море:
А море бухало
о буты
бухты.
Мы были
будто
бунт
против бунта!
И другой пример — из хрестоматийного стихотворения для детей Локомо-
тив Тувима (Julian Tuwim —
Lokomotywa)'.
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch —jak gorąco!
Uch —jak gorąco!
Puff—jak gorąco!
Uff—jak gorąco
[...]
Nagle— gwizd!
Nagle — świst!
Para— buch!
Koła— w ruch!
Najpierw — powoli —jak żółw — ociężale,
Ruszyła — maszyna — po szynach — ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.
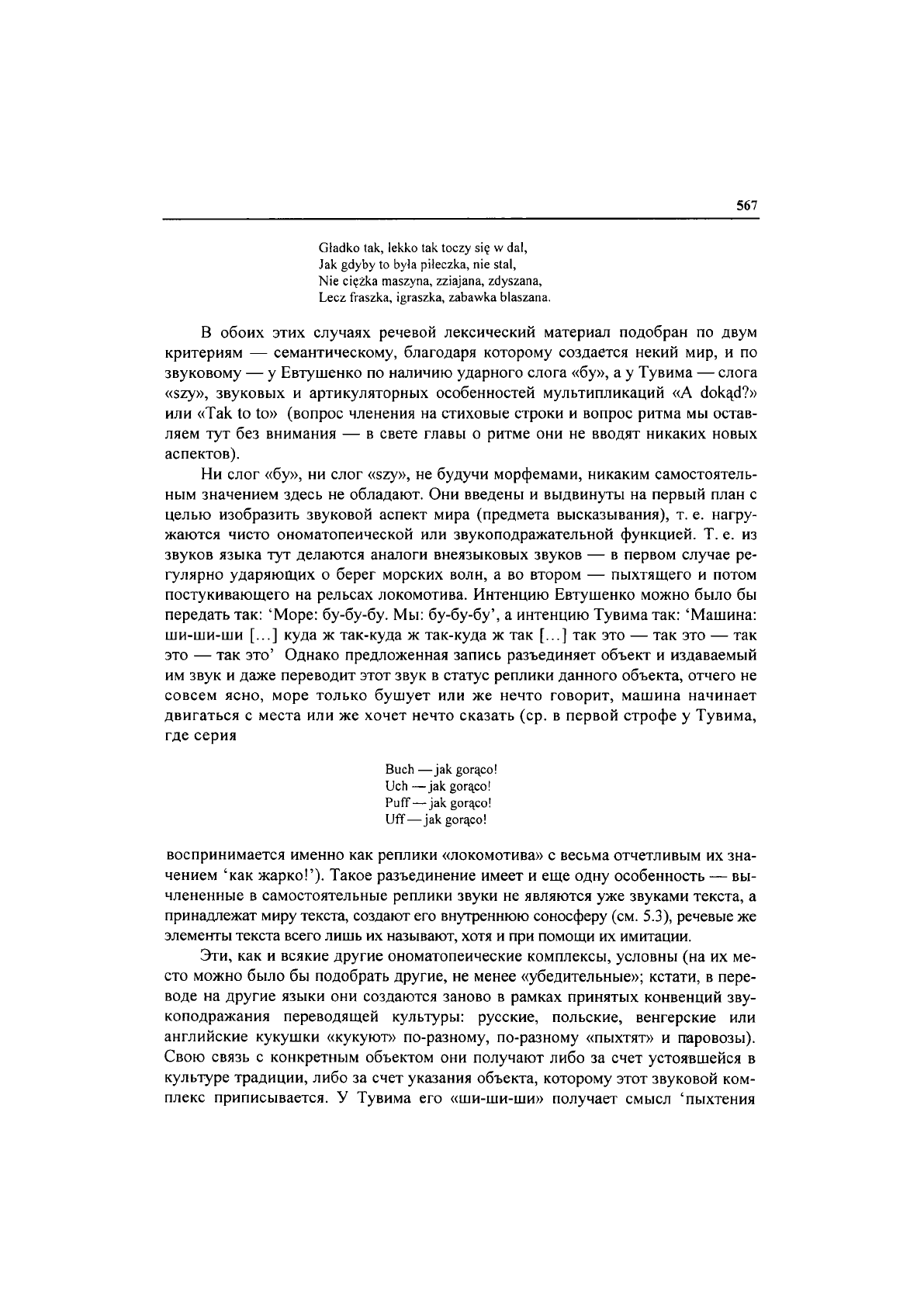
567
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.
В обоих этих случаях речевой лексический материал подобран по двум
критериям — семантическому, благодаря которому создается некий мир, и по
звуковому — у Евтушенко по наличию ударного слога «бу», а у Тувима — слога
«szy», звуковых и артикуляторных особенностей мультипликаций «А dokąd?»
или «Так to to» (вопрос членения на стиховые строки и вопрос ритма мы остав-
ляем тут без внимания — в свете главы о ритме они не вводят никаких новых
аспектов).
Ни слог «бу», ни слог «szy», не будучи морфемами, никаким самостоятель-
ным значением здесь не обладают. Они введены и выдвинуты на первый план с
целью изобразить звуковой аспект мира (предмета высказывания), т. е. нагру-
жаются чисто ономатопеической или звукоподражательной функцией. Т. е. из
звуков языка тут делаются аналоги внеязыковых звуков — в первом случае ре-
гулярно ударяющих о берег морских волн, а во втором — пыхтящего и потом
постукивающего на рельсах локомотива. Интенцию Евтушенко можно было бы
передать так: 'Море: бу-бу-бу. Мы: бу-бу-бу', а интенцию Тувима так: 'Машина:
ши-ши-ши [...] куда ж так-куда ж так-куда ж так [...] так это — так это — так
это — так это' Однако предложенная запись разъединяет объект и издаваемый
им звук и даже переводит этот звук в статус реплики данного объекта, отчего не
совсем ясно, море только бушует или же нечто говорит, машина начинает
двигаться с места или же хочет нечто сказать (ср. в первой строфе у Тувима,
где серия
Buch —jak gorąco!
Uch —jak gorąco!
Puff—jak gorąco!
Uff—jak gorąco!
воспринимается именно как реплики «локомотива» с весьма отчетливым их зна-
чением 'как жарко!'). Такое разъединение имеет и еще одну особенность — вы-
члененные в самостоятельные реплики звуки не являются уже звуками текста, а
принадлежат миру текста, создают его внутреннюю соносферу (см. 5.3), речевые же
элементы текста всего лишь их называют, хотя и при помощи их имитации.
Эти, как и всякие другие ономатопеические комплексы, условны (на их ме-
сто можно было бы подобрать другие, не менее «убедительные»; кстати, в пере-
воде на другие языки они создаются заново в рамках принятых конвенций зву-
коподражания переводящей культуры: русские, польские, венгерские или
английские кукушки «кукуют» по-разному, по-разному «пыхтят» и паровозы).
Свою связь с конкретным объектом они получают либо за счет устоявшейся в
культуре традиции, либо за счет указания объекта, которому этот звуковой ком-
плекс приписывается. У Тувима его «ши-ши-ши» получает смысл 'пыхтения
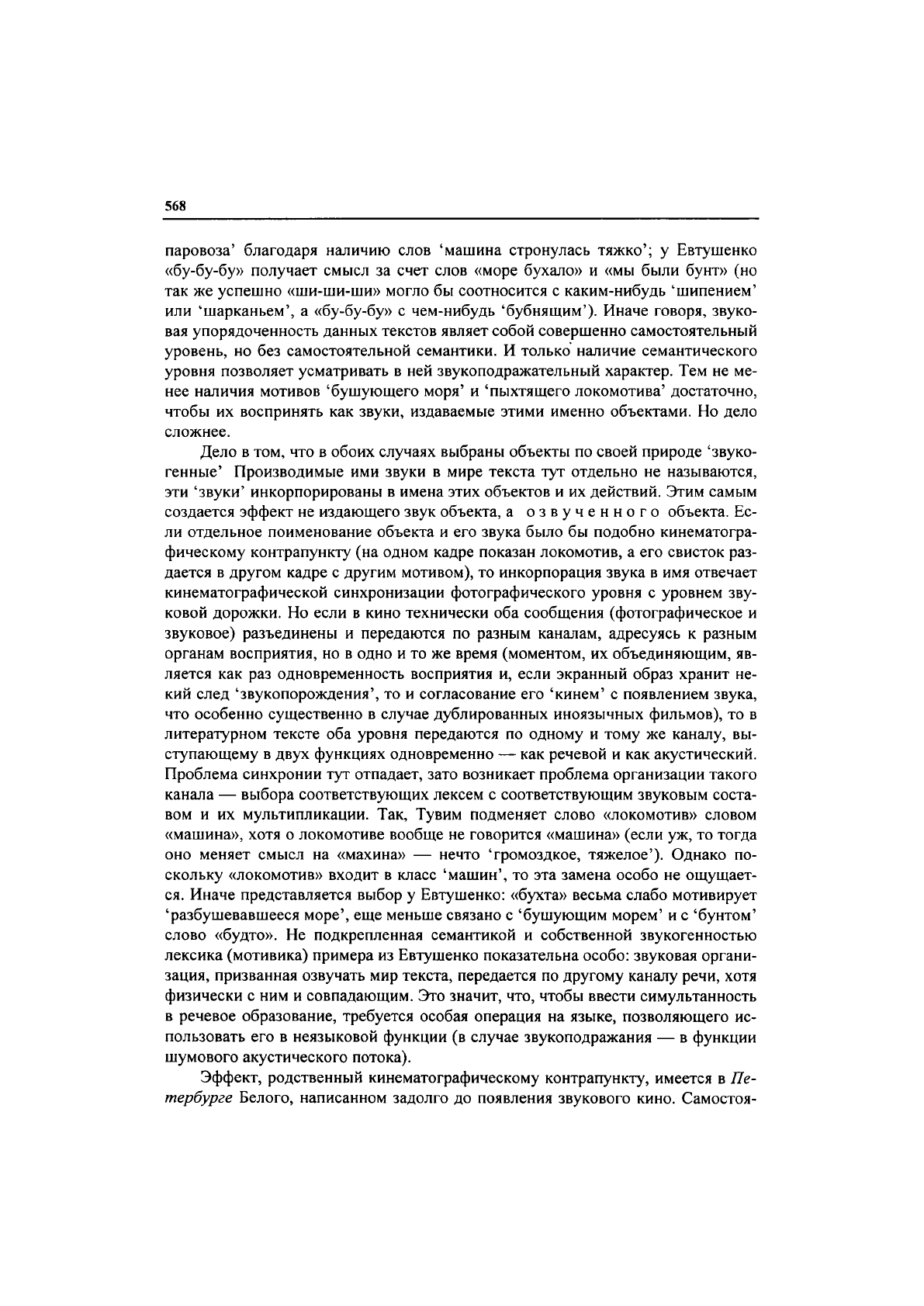
568
паровоза' благодаря наличию слов 'машина стронулась тяжко'; у Евтушенко
«бу-бу-бу» получает смысл за счет слов «море бухало» и «мы были бунт» (но
так же успешно «ши-ши-ши» могло бы соотносится с каким-нибудь 'шипением'
или 'шарканьем', а «бу-бу-бу» с чем-нибудь 'бубнящим'). Иначе говоря, звуко-
вая упорядоченность данных текстов являет собой совершенно самостоятельный
уровень, но без самостоятельной семантики. И только наличие семантического
уровня позволяет усматривать в ней звукоподражательный характер. Тем не ме-
нее наличия мотивов 'бушующего моря' и 'пыхтящего локомотива' достаточно,
чтобы их воспринять как звуки, издаваемые этими именно объектами. Но дело
сложнее.
Дело в том, что в обоих случаях выбраны объекты по своей природе 'звуко-
генные' Производимые ими звуки в мире текста тут отдельно не называются,
эти 'звуки' инкорпорированы в имена этих объектов и их действий. Этим самым
создается эффект не издающего звук объекта, а озвученного объекта. Ес-
ли отдельное поименование объекта и его звука было бы подобно кинематогра-
фическому контрапункту (на одном кадре показан локомотив, а его свисток раз-
дается в другом кадре с другим мотивом), то инкорпорация звука в имя отвечает
кинематографической синхронизации фотографического уровня с уровнем зву-
ковой дорожки. Но если в кино технически оба сообщения (фотографическое и
звуковое) разъединены и передаются по разным каналам, адресуясь к разным
органам восприятия, но в одно и то же время (моментом, их объединяющим, яв-
ляется как раз одновременность восприятия и, если экранный образ хранит не-
кий след 'звукопорождения', то и согласование его 'кинем' с появлением звука,
что особенно существенно в случае дублированных иноязычных фильмов), то в
литературном тексте оба уровня передаются по одному и тому же каналу, вы-
ступающему в двух функциях одновременно — как речевой и как акустический.
Проблема синхронии тут отпадает, зато возникает проблема организации такого
канала — выбора соответствующих лексем с соответствующим звуковым соста-
вом и их мультипликации. Так, Тувим подменяет слово «локомотив» словом
«машина», хотя о локомотиве вообще не говорится «машина» (если уж, то тогда
оно меняет смысл на «махина» — нечто 'громоздкое, тяжелое'). Однако по-
скольку «локомотив» входит в класс 'машин', то эта замена особо не ощущает-
ся. Иначе представляется выбор у Евтушенко: «бухта» весьма слабо мотивирует
'разбушевавшееся море', еще меньше связано с 'бушующим морем' и с 'бунтом'
слово «будто». Не подкрепленная семантикой и собственной звукогенностью
лексика (мотивика) примера из Евтушенко показательна особо: звуковая органи-
зация, призванная озвучать мир текста, передается по другому каналу речи, хотя
физически с ним и совпадающим. Это значит, что, чтобы ввести симультанность
в речевое образование, требуется особая операция на языке, позволяющего ис-
пользовать его в неязыковой функции (в случае звукоподражания — в функции
шумового акустического потока).
Эффект, родственный кинематографическому контрапункту, имеется в Пе-
тербурге Белого, написанном задолго до появления звукового кино. Самостоя-
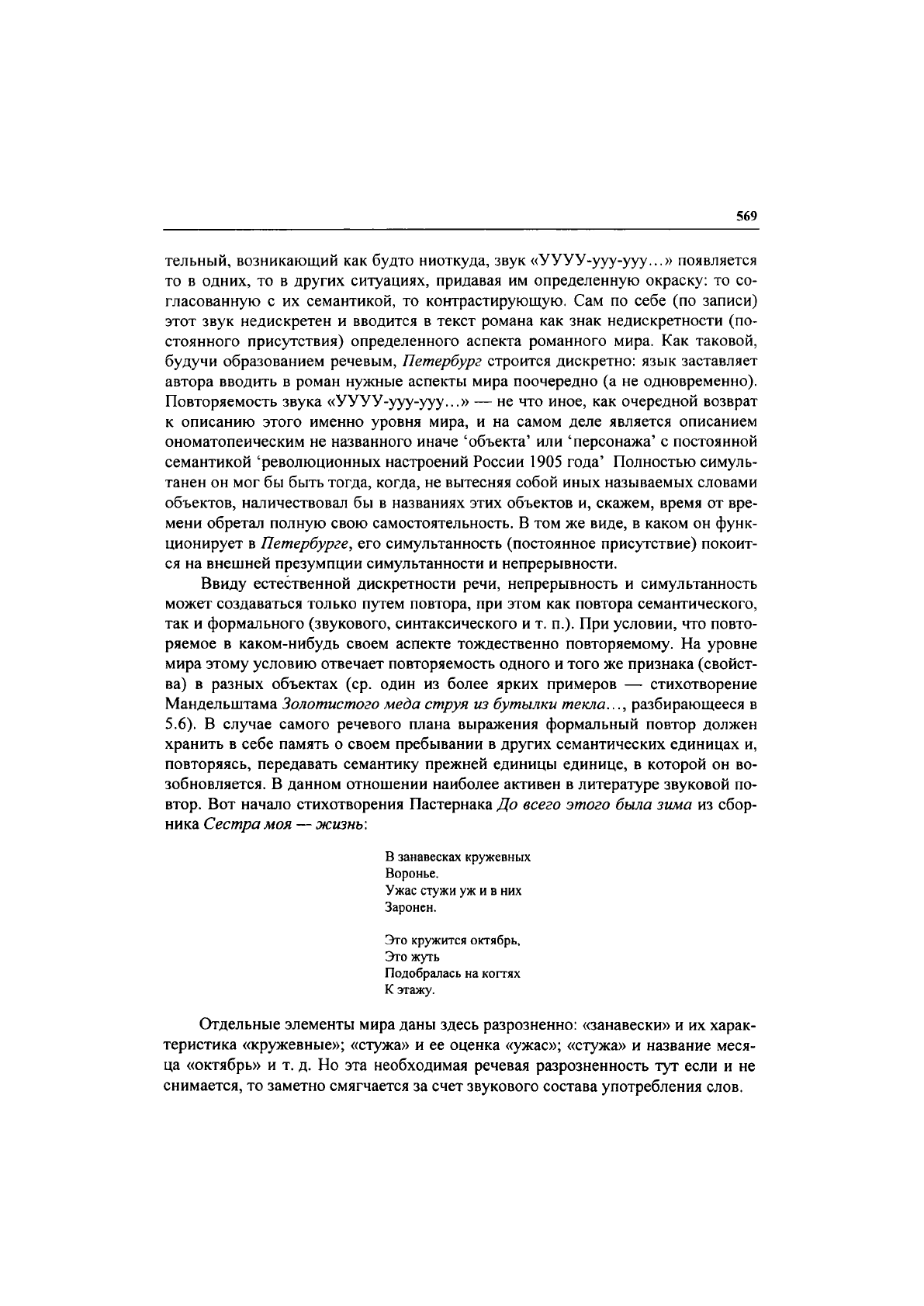
569
тельный, возникающий как будто ниоткуда, звук «УУУУ-ууу-ууу...» появляется
то в одних, то в других ситуациях, придавая им определенную окраску: то со-
гласованную с их семантикой, то контрастирующую. Сам по себе (по записи)
этот звук недискретен и вводится в текст романа как знак недискретности (по-
стоянного присутствия) определенного аспекта романного мира. Как таковой,
будучи образованием речевым, Петербург строится дискретно: язык заставляет
автора вводить в роман нужные аспекты мира поочередно (а не одновременно).
Повторяемость звука «УУУУ-ууу-ууу...» — не что иное, как очередной возврат
к описанию этого именно уровня мира, и на самом деле является описанием
ономатопеическим не названного иначе 'объекта' или 'персонажа' с постоянной
семантикой 'революционных настроений России 1905 года' Полностью симуль-
танен он мог бы быть тогда, когда, не вытесняя собой иных называемых словами
объектов, наличествовал бы в названиях этих объектов и, скажем, время от вре-
мени обретал полную свою самостоятельность. В том же виде, в каком он функ-
ционирует в Петербурге, его симультанность (постоянное присутствие) покоит-
ся на внешней презумпции симультанности и непрерывности.
Ввиду естественной дискретности речи, непрерывность и симультанность
может создаваться только путем повтора, при этом как повтора семантического,
так и формального (звукового, синтаксического и т. п.). При условии, что повто-
ряемое в каком-нибудь своем аспекте тождественно повторяемому. На уровне
мира этому условию отвечает повторяемость одного и того же признака (свойст-
ва) в разных объектах (ср. один из более ярких примеров — стихотворение
Мандельштама Золотистого меда струя из бутылки текла..., разбирающееся в
5.6). В случае самого речевого плана выражения формальный повтор должен
хранить в себе память о своем пребывании в других семантических единицах и,
повторяясь, передавать семантику прежней единицы единице, в которой он во-
зобновляется. В данном отношении наиболее активен в литературе звуковой по-
втор. Вот начало стихотворения Пастернака До всего этого была зима из сбор-
ника Сестра моя — жизнь:
В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.
Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.
Отдельные элементы мира даны здесь разрозненно: «занавески» и их харак-
теристика «кружевные»; «стужа» и ее оценка «ужас»; «стужа» и название меся-
ца «октябрь» и т. д. Но эта необходимая речевая разрозненность тут если и не
снимается, то заметно смягчается за счет звукового состава употребления слов.
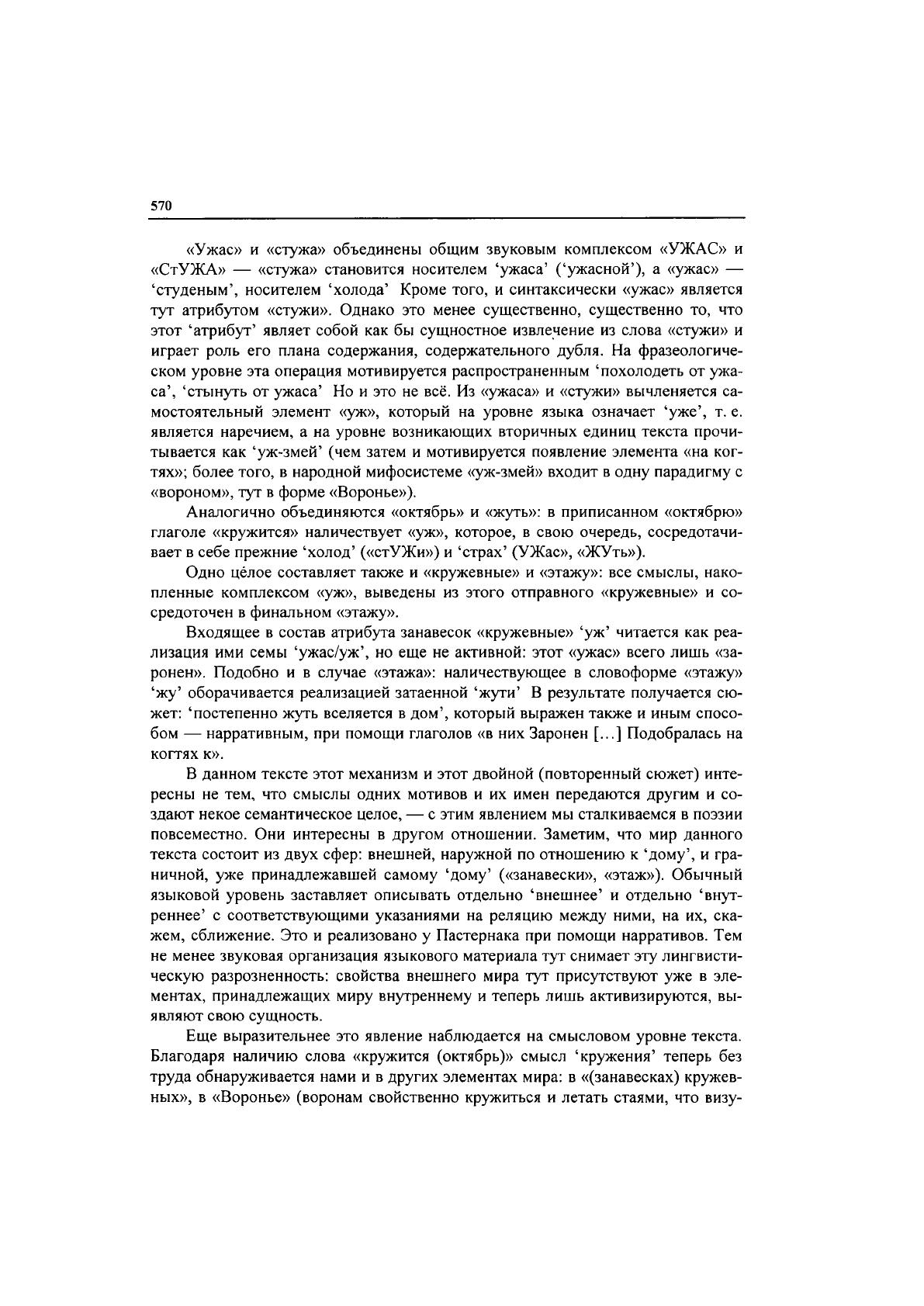
570
«Ужас» и «стужа» объединены общим звуковым комплексом «УЖАС» и
«СтУЖА» — «стужа» становится носителем 'ужаса' ('ужасной'), а «ужас» —
'студеным', носителем 'холода' Кроме того, и синтаксически «ужас» является
тут атрибутом «стужи». Однако это менее существенно, существенно то, что
этот 'атрибут' являет собой как бы сущностное извлечение из слова «стужи» и
играет роль его плана содержания, содержательного дубля. На фразеологиче-
ском уровне эта операция мотивируется распространенным 'похолодеть от ужа-
са', 'стынуть от ужаса' Но и это не всё. Из «ужаса» и «стужи» вычленяется са-
мостоятельный элемент «уж», который на уровне языка означает 'уже', т. е.
является наречием, а на уровне возникающих вторичных единиц текста прочи-
тывается как 'уж-змей' (чем затем и мотивируется появление элемента «на ког-
тях»; более того, в народной мифосистеме «уж-змей» входит в одну парадигму с
«вороном», тут в форме «Воронье»).
Аналогично объединяются «октябрь» и «жуть»: в приписанном «октябрю»
глаголе «кружится» наличествует «уж», которое, в свою очередь, сосредотачи-
вает в себе прежние 'холод' («стУЖи») и 'страх' (УЖас», «ЖУть»).
Одно целое составляет также и «кружевные» и «этажу»: все смыслы, нако-
пленные комплексом «уж», выведены из этого отправного «кружевные» и со-
средоточен в финальном «этажу».
Входящее в состав атрибута занавесок «кружевные» 'уж' читается как реа-
лизация ими семы 'ужас/уж', но еще не активной: этот «ужас» всего лишь «за-
ронен». Подобно и в случае «этажа»: наличествующее в словоформе «этажу»
'жу' оборачивается реализацией затаенной 'жути' В результате получается сю-
жет: 'постепенно жуть вселяется в дом', который выражен также и иным спосо-
бом — нарративным, при помощи глаголов «в них Заронен [...] Подобралась на
когтях к».
В данном тексте этот механизм и этот двойной (повторенный сюжет) инте-
ресны не тем, что смыслы одних мотивов и их имен передаются другим и со-
здают некое семантическое целое, — с этим явлением мы сталкиваемся в поэзии
повсеместно. Они интересны в другом отношении. Заметим, что мир данного
текста состоит из двух сфер: внешней, наружной по отношению к 'дому', и гра-
ничной, уже принадлежавшей самому 'дому' («занавески», «этаж»). Обычный
языковой уровень заставляет описывать отдельно 'внешнее' и отдельно 'внут-
реннее' с соответствующими указаниями на реляцию между ними, на их, ска-
жем, сближение. Это и реализовано у Пастернака при помощи нарративов. Тем
не менее звуковая организация языкового материала тут снимает эту лингвисти-
ческую разрозненность: свойства внешнего мира тут присутствуют уже в эле-
ментах, принадлежащих миру внутреннему и теперь лишь активизируются, вы-
являют свою сущность.
Еще выразительнее это явление наблюдается на смысловом уровне текста.
Благодаря наличию слова «кружится (октябрь)» смысл 'кружения' теперь без
труда обнаруживается нами и в других элементах мира: в «(занавесках) кружев-
ных», в «Воронье» (воронам свойственно кружиться и летать стаями, что визу-
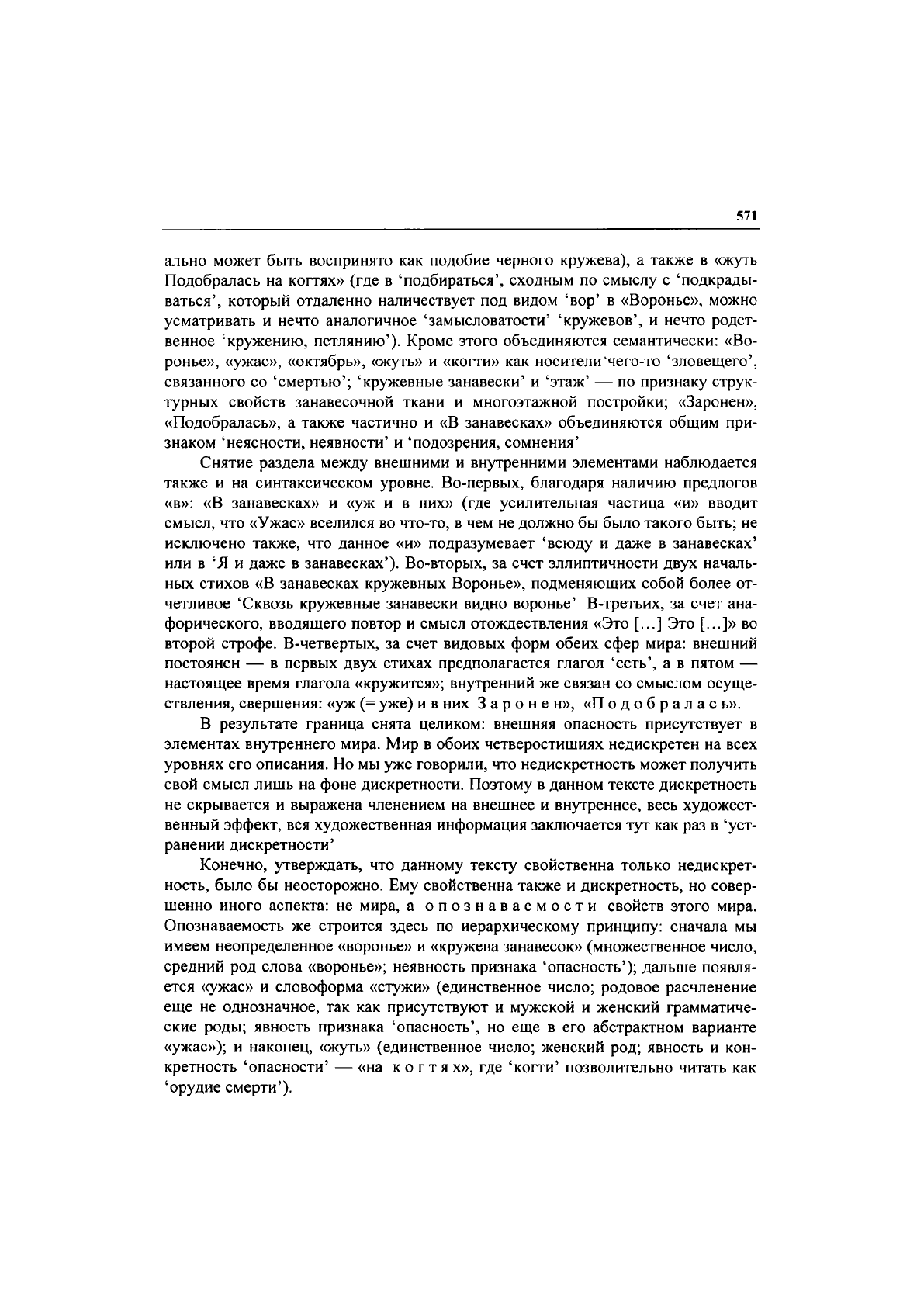
571
ально может быть воспринято как подобие черного кружева), а также в «жуть
Подобралась на когтях» (где в 'подбираться', сходным по смыслу с 'подкрады-
ваться', который отдаленно наличествует под видом 'вор' в «Воронье», можно
усматривать и нечто аналогичное 'замысловатости' 'кружевов', и нечто родст-
венное 'кружению, петлянию'). Кроме этого объединяются семантически: «Во-
ронье», «ужас», «октябрь», «жуть» и «когти» как носители чего-то 'зловещего',
связанного со 'смертью'; 'кружевные занавески' и 'этаж' — по признаку струк-
турных свойств занавесочной ткани и многоэтажной постройки; «Заронен»,
«Подобралась», а также частично и «В занавесках» объединяются общим при-
знаком 'неясности, неявности' и 'подозрения, сомнения'
Снятие раздела между внешними и внутренними элементами наблюдается
также и на синтаксическом уровне. Во-первых, благодаря наличию предлогов
«в»: «В занавесках» и «уж и в них» (где усилительная частица «и» вводит
смысл, что «Ужас» вселился во что-то, в чем не должно бы было такого быть; не
исключено также, что данное «и» подразумевает 'всюду и даже в занавесках'
или в 'Я и даже в занавесках'). Во-вторых, за счет эллиптичности двух началь-
ных стихов «В занавесках кружевных Воронье», подменяющих собой более от-
четливое 'Сквозь кружевные занавески видно воронье' В-третьих, за счет ана-
форического, вводящего повтор и смысл отождествления «Это [...] Это [...]» во
второй строфе. В-четвертых, за счет видовых форм обеих сфер мира: внешний
постоянен — в первых двух стихах предполагается глагол 'есть', а в пятом —
настоящее время глагола «кружится»; внутренний же связан со смыслом осуще-
ствления, свершения: «уж (= уже) и в них 3 а р о н е н», «Подобралас ь».
В результате граница снята целиком: внешняя опасность присутствует в
элементах внутреннего мира. Мир в обоих четверостишиях недискретен на всех
уровнях его описания. Но мы уже говорили, что недискретность может получить
свой смысл лишь на фоне дискретности. Поэтому в данном тексте дискретность
не скрывается и выражена членением на внешнее и внутреннее, весь художест-
венный эффект, вся художественная информация заключается тут как раз в 'уст-
ранении дискретности'
Конечно, утверждать, что данному тексту свойственна только недискрет-
ность, было бы неосторожно. Ему свойственна также и дискретность, но совер-
шенно иного аспекта: не мира, а опознаваемости свойств этого мира.
Опознаваемость же строится здесь по иерархическому принципу: сначала мы
имеем неопределенное «воронье» и «кружева занавесок» (множественное число,
средний род слова «воронье»; неявность признака 'опасность'); дальше появля-
ется «ужас» и словоформа «стужи» (единственное число; родовое расчленение
еще не однозначное, так как присутствуют и мужской и женский грамматиче-
ские роды; явность признака 'опасность', но еще в его абстрактном варианте
«ужас»); и наконец, «жуть» (единственное число; женский род; явность и кон-
кретность 'опасности' — «на когтях», где 'когти' позволительно читать как
'орудие смерти').
