Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

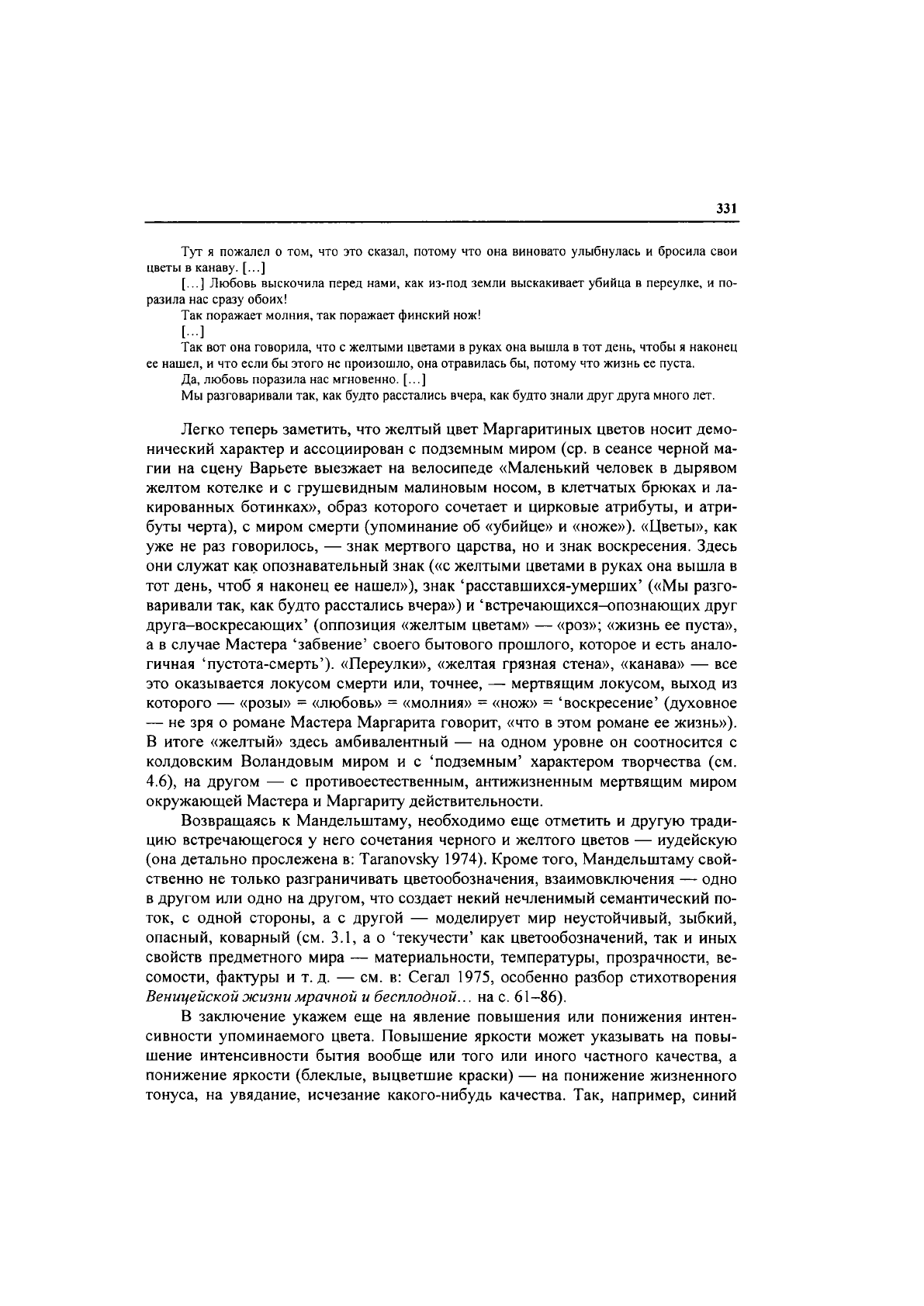
331
Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои
цветы в канаву. [...]
[...] Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и по-
разила нас сразу обоих!
Так поражает молния, так поражает финский нож!
[-]
Так вот она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец
ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста.
Да, любовь поразила нас мгновенно. [...]
Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет.
Легко теперь заметить, что желтый цвет Маргаритиных цветов носит демо-
нический характер и ассоциирован с подземным миром (ср. в сеансе черной ма-
гии на сцену Варьете выезжает на велосипеде «Маленький человек в дырявом
желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и ла-
кированных ботинках», образ которого сочетает и цирковые атрибуты, и атри-
буты черта), с миром смерти (упоминание об «убийце» и «ноже»). «Цветы», как
уже не раз говорилось, — знак мертвого царства, но и знак воскресения. Здесь
они служат как опознавательный знак («с желтыми цветами в руках она вышла в
тот день, чтоб я наконец ее нашел»), знак 'расставшихся-умерших' («Мы разго-
варивали так, как будто расстались вчера») и 'встречающихся-опознающих друг
друга-воскресающих' (оппозиция «желтым цветам» — «роз»; «жизнь ее пуста»,
а в случае Мастера 'забвение' своего бытового прошлого, которое и есть анало-
гичная 'пустота-смерть'). «Переулки», «желтая грязная стена», «канава» — все
это оказывается локусом смерти или, точнее, — мертвящим локусом, выход из
которого — «розы» = «любовь» = «молния» = «нож» = 'воскресение' (духовное
— не зря о романе Мастера Маргарита говорит, «что в этом романе ее жизнь»).
В итоге «желтый» здесь амбивалентный — на одном уровне он соотносится с
колдовским Воландовым миром и с 'подземным' характером творчества (см.
4.6), на другом — с противоестественным, антижизненным мертвящим миром
окружающей Мастера и Маргариту действительности.
Возвращаясь к Мандельштаму, необходимо еще отметить и другую тради-
цию встречающегося у него сочетания черного и желтого цветов — иудейскую
(она детально прослежена в: Taranovsky 1974). Кроме того, Мандельштаму свой-
ственно не только разграничивать цветообозначения, взаимовключения — одно
в другом или одно на другом, что создает некий нечленимый семантический по-
ток, с одной стороны, а с другой — моделирует мир неустойчивый, зыбкий,
опасный, коварный (см. 3.1, а о 'текучести' как цветообозначений, так и иных
свойств предметного мира — материальности, температуры, прозрачности, ве-
сомости, фактуры и т. д. — см. в: Сегал 1975, особенно разбор стихотворения
Веницейской жизни мрачной и бесплодной... на с. 61-86).
В заключение укажем еще на явление повышения или понижения интен-
сивности упоминаемого цвета. Повышение яркости может указывать на повы-
шение интенсивности бытия вообще или того или иного частного качества, а
понижение яркости (блеклые, выцветшие краски) — на понижение жизненного
тонуса, на увядание, исчезание какого-нибудь качества. Так, например, синий
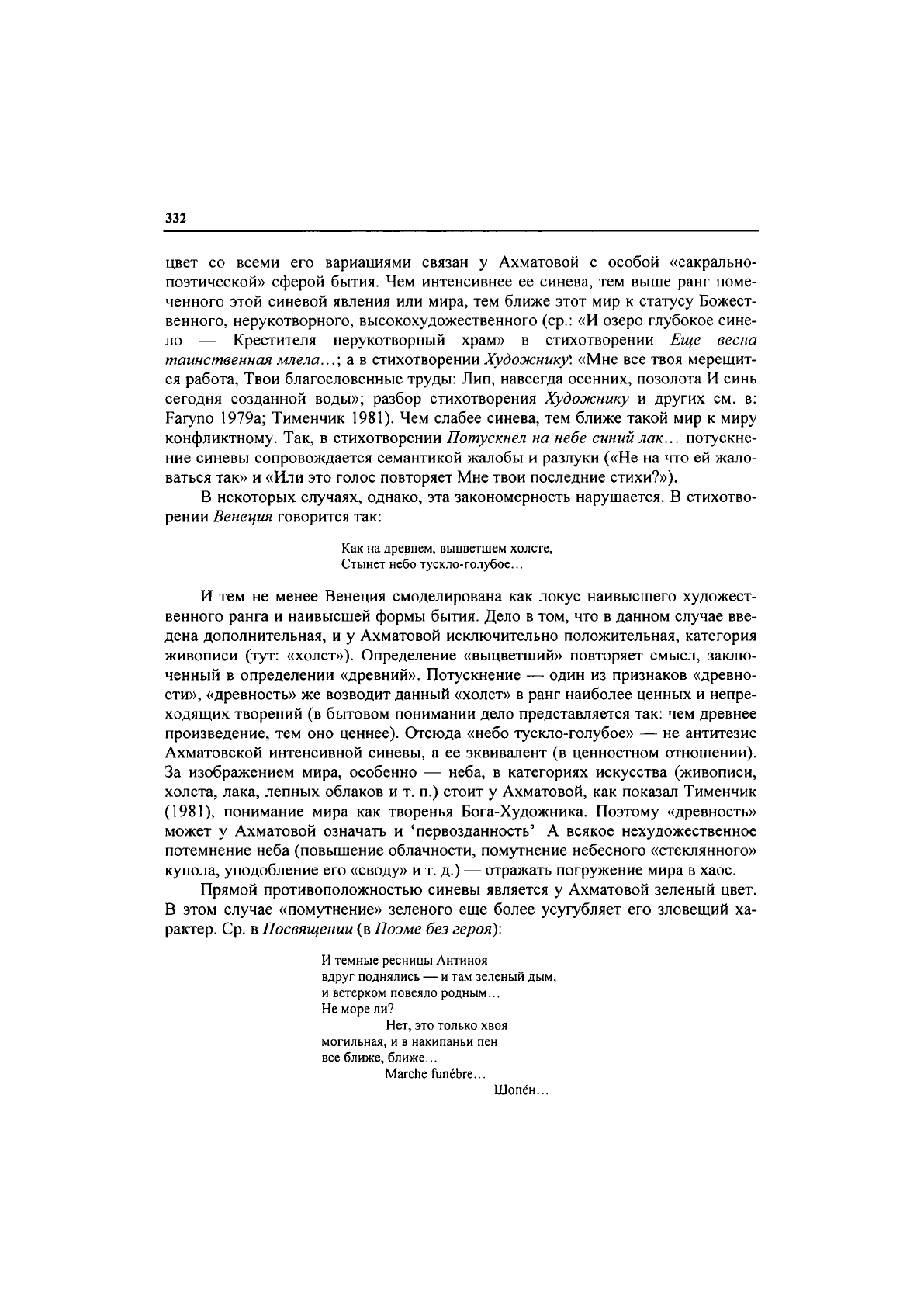
332
цвет со всеми его вариациями связан у Ахматовой с особой «сакрально-
поэтической» сферой бытия. Чем интенсивнее ее синева, тем выше ранг поме-
ченного этой синевой явления или мира, тем ближе этот мир к статусу Божест-
венного, нерукотворного, высокохудожественного (ср.: «И озеро глубокое сине-
ло — Крестителя нерукотворный храм» в стихотворении Еще весна
таинственная млела...; а в стихотворении Художнику". «Мне все твоя мерещит-
ся работа, Твои благословенные труды: Лип, навсегда осенних, позолота И синь
сегодня созданной воды»; разбор стихотворения Художнику и других см. в:
Faryno 1979а; Тименчик 1981). Чем слабее синева, тем ближе такой мир к миру
конфликтному. Так, в стихотворении Потускнел на небе синий лак... потускне-
ние синевы сопровождается семантикой жалобы и разлуки («Не на что ей жало-
ваться так» и «Или это голос повторяет Мне твои последние стихи?»).
В некоторых случаях, однако, эта закономерность нарушается. В стихотво-
рении Венеция говорится так:
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
И тем не менее Венеция смоделирована как локус наивысшего художест-
венного ранга и наивысшей формы бытия. Дело в том, что в данном случае вве-
дена дополнительная, и у Ахматовой исключительно положительная, категория
живописи (тут: «холст»). Определение «выцветший» повторяет смысл, заклю-
ченный в определении «древний». Потускнение — один из признаков «древно-
сти», «древность» же возводит данный «холст» в ранг наиболее ценных и непре-
ходящих творений (в бытовом понимании дело представляется так: чем древнее
произведение, тем оно ценнее). Отсюда «небо тускло-голубое» — не антитезис
Ахматовской интенсивной синевы, а ее эквивалент (в ценностном отношении).
За изображением мира, особенно — неба, в категориях искусства (живописи,
холста, лака, лепных облаков и т. п.) стоит у Ахматовой, как показал Тименчик
(1981), понимание мира как творенья Бога-Художника. Поэтому «древность»
может у Ахматовой означать и 'первозданность' А всякое нехудожественное
потемнение неба (повышение облачности, помутнение небесного «стеклянного»
купола, уподобление его «своду» и т. д.) — отражать погружение мира в хаос.
Прямой противоположностью синевы является у Ахматовой зеленый цвет.
В этом случае «помутнение» зеленого еще более усугубляет его зловещий ха-
рактер. Ср. в Посвящении (в Поэме без героя):
И темные ресницы Антиноя
вдруг поднялись — и там зеленый дым,
и ветерком повеяло родным...
Не море ли?
Нет, это только хвоя
могильная, и в накипаньи пен
все ближе, ближе...
Marche funebre...
Шопен...
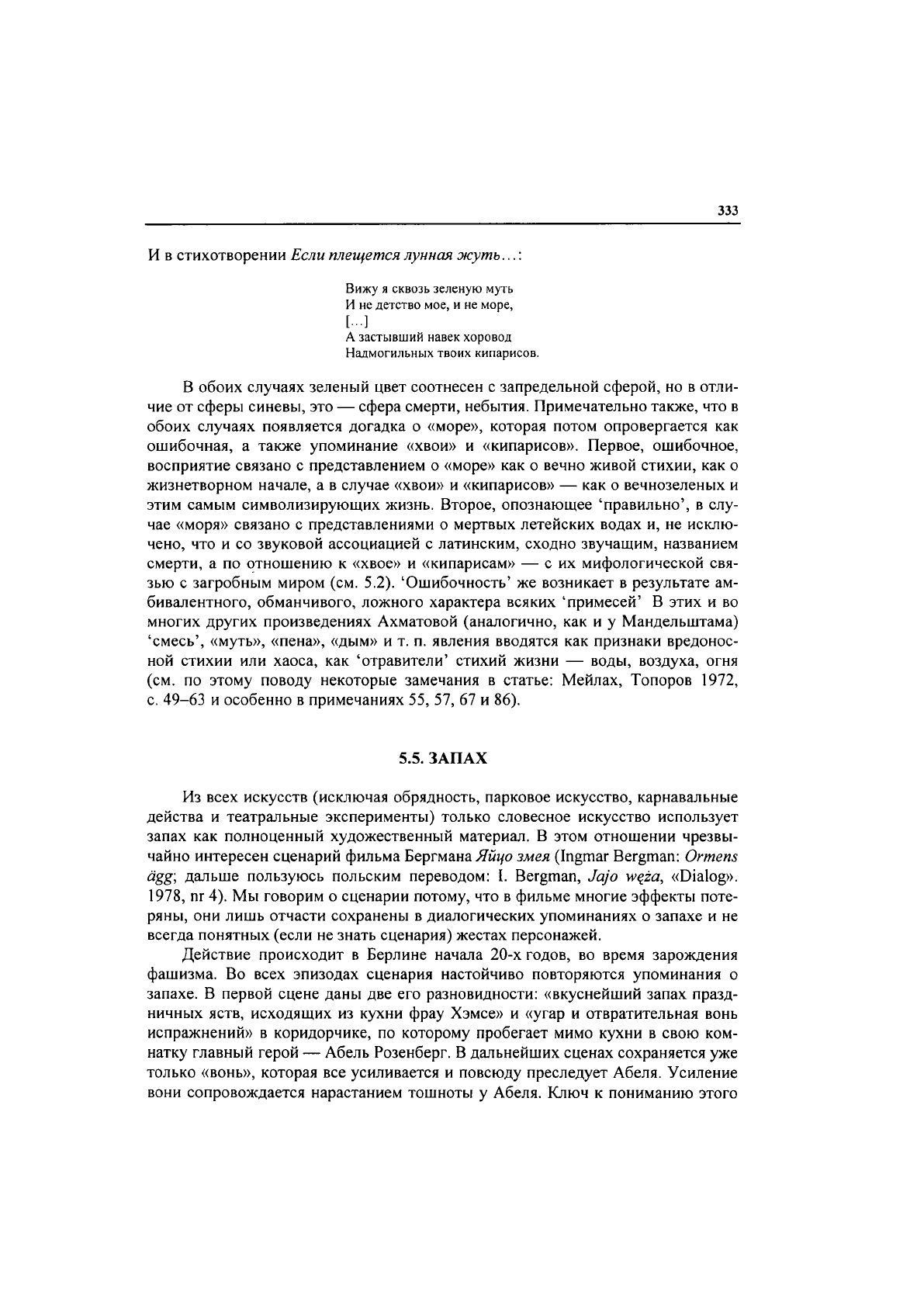
333
И в стихотворении Если плещется лунная жуть...:
Вижу я сквозь зеленую муть
И не детство мое, и не море,
[...]
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.
В обоих случаях зеленый цвет соотнесен с запредельной сферой, но в отли-
чие от сферы синевы, это — сфера смерти, небытия. Примечательно также, что в
обоих случаях появляется догадка о «море», которая потом опровергается как
ошибочная, а также упоминание «хвои» и «кипарисов». Первое, ошибочное,
восприятие связано с представлением о «море» как о вечно живой стихии, как о
жизнетворном начале, а в случае «хвои» и «кипарисов» — как о вечнозеленых и
этим самым символизирующих жизнь. Второе, опознающее 'правильно', в слу-
чае «моря» связано с представлениями о мертвых летейских водах и, не исклю-
чено, что и со звуковой ассоциацией с латинским, сходно звучащим, названием
смерти, а по отношению к «хвое» и «кипарисам» — с их мифологической свя-
зью с загробным миром (см. 5.2). 'Ошибочность' же возникает в результате ам-
бивалентного, обманчивого, ложного характера всяких 'примесей' В этих и во
многих других произведениях Ахматовой (аналогично, как и у Мандельштама)
'смесь', «муть», «пена», «дым» и т. п. явления вводятся как признаки вредонос-
ной стихии или хаоса, как 'отравители' стихий жизни — воды, воздуха, огня
(см. по этому поводу некоторые замечания в статье: Мейлах, Топоров 1972,
с. 49-63 и особенно в примечаниях 55, 57, 67 и 86).
5.5. ЗАПАХ
Из всех искусств (исключая обрядность, парковое искусство, карнавальные
действа и театральные эксперименты) только словесное искусство использует
запах как полноценный художественный материал. В этом отношении чрезвы-
чайно интересен сценарий фильма Бергмана Яйцо змея (Ingmar Bergman: Ormens
ägg; дальше пользуюсь польским переводом: I. Bergman, Jajo węża, «Dialog».
1978, nr 4). Мы говорим о сценарии потому, что в фильме многие эффекты поте-
ряны, они лишь отчасти сохранены в диалогических упоминаниях о запахе и не
всегда понятных (если не знать сценария) жестах персонажей.
Действие происходит в Берлине начала 20-х годов, во время зарождения
фашизма. Во всех эпизодах сценария настойчиво повторяются упоминания о
запахе. В первой сцене даны две его разновидности: «вкуснейший запах празд-
ничных яств, исходящих из кухни фрау Хэмсе» и «угар и отвратительная вонь
испражнений» в коридорчике, по которому пробегает мимо кухни в свою ком-
натку главный герой — Абель Розенберг. В дальнейших сценах сохраняется уже
только «вонь», которая все усиливается и повсюду преследует Абеля. Усиление
вони сопровождается нарастанием тошноты у Абеля. Ключ к пониманию этого
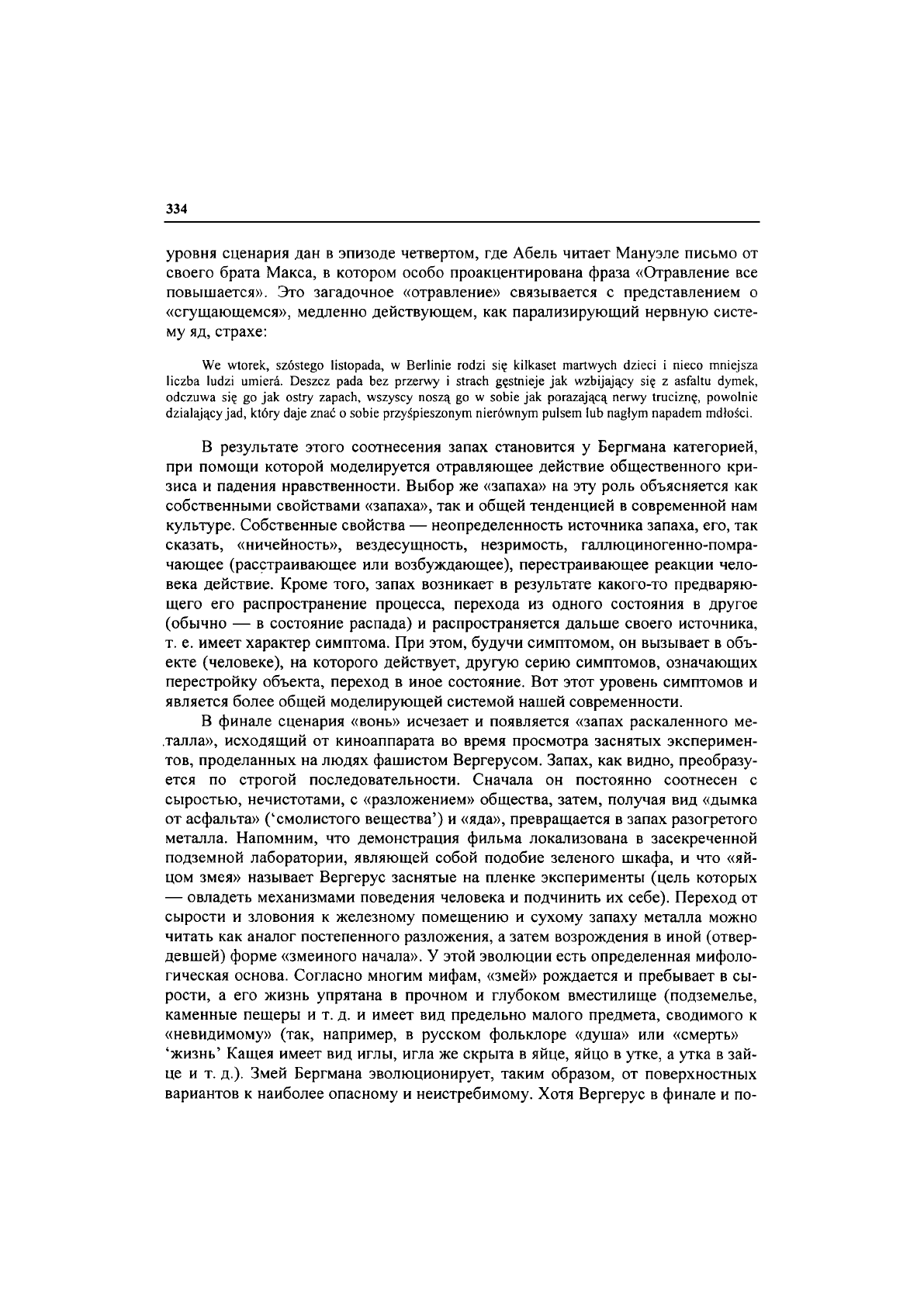
334
уровня сценария дан в эпизоде четвертом, где Абель читает Мануэле письмо от
своего брата Макса, в котором особо проакцентирована фраза «Отравление все
повышается». Это загадочное «отравление» связывается с представлением о
«сгущающемся», медленно действующем, как парализирующий нервную систе-
му яд, страхе:
We wtorek, szóstego listopada, w Berlinie rodzi się kilkaset martwych dzieci i nieco mniejsza
liczba ludzi umiera. Deszcz pada bez przerwy i strach gęstnieje jak wzbijający się z asfaltu dymek,
odczuwa się go jak ostry zapach, wszyscy noszą go w sobie jak porażającą nerwy truciznę, powolnie
działający jad, który daje znać o sobie przyśpieszonym nierównym pulsem lub nagłym napadem mdłości.
В результате этого соотнесения запах становится у Бергмана категорией,
при помощи которой моделируется отравляющее действие общественного кри-
зиса и падения нравственности. Выбор же «запаха» на эту роль объясняется как
собственными свойствами «запаха», так и общей тенденцией в современной нам
культуре. Собственные свойства — неопределенность источника запаха, его, так
сказать, «ничейность», вездесущность, незримость, галлюциногенно-помра-
чающее (расстраивающее или возбуждающее), перестраивающее реакции чело-
века действие. Кроме того, запах возникает в результате какого-то предваряю-
щего его распространение процесса, перехода из одного состояния в другое
(обычно — в состояние распада) и распространяется дальше своего источника,
т. е. имеет характер симптома. При этом, будучи симптомом, он вызывает в объ-
екте (человеке), на которого действует, другую серию симптомов, означающих
перестройку объекта, переход в иное состояние. Вот этот уровень симптомов и
является более общей моделирующей системой нашей современности.
В финале сценария «вонь» исчезает и появляется «запах раскаленного ме-
талла», исходящий от киноаппарата во время просмотра заснятых эксперимен-
тов, проделанных на людях фашистом Вергерусом. Запах, как видно, преобразу-
ется по строгой последовательности. Сначала он постоянно соотнесен с
сыростью, нечистотами, с «разложением» общества, затем, получая вид «дымка
от асфальта» ('смолистого вещества') и «яда», превращается в запах разогретого
металла. Напомним, что демонстрация фильма локализована в засекреченной
подземной лаборатории, являющей собой подобие зеленого шкафа, и что «яй-
цом змея» называет Вергерус заснятые на пленке эксперименты (цель которых
— овладеть механизмами поведения человека и подчинить их себе). Переход от
сырости и зловония к железному помещению и сухому запаху металла можно
читать как аналог постепенного разложения, а затем возрождения в иной (отвер-
девшей) форме «змеиного начала». У этой эволюции есть определенная мифоло-
гическая основа. Согласно многим мифам, «змей» рождается и пребывает в сы-
рости, а его жизнь упрятана в прочном и глубоком вместилище (подземелье,
каменные пещеры и т. д. и имеет вид предельно малого предмета, сводимого к
«невидимому» (так, например, в русском фольклоре «душа» или «смерть»
'жизнь' Кащея имеет вид иглы, игла же скрыта в яйце, яйцо в утке, а утка в зай-
це и т. д.). Змей Бергмана эволюционирует, таким образом, от поверхностных
вариантов к наиболее опасному и неистребимому. Хотя Вергерус в финале и по-
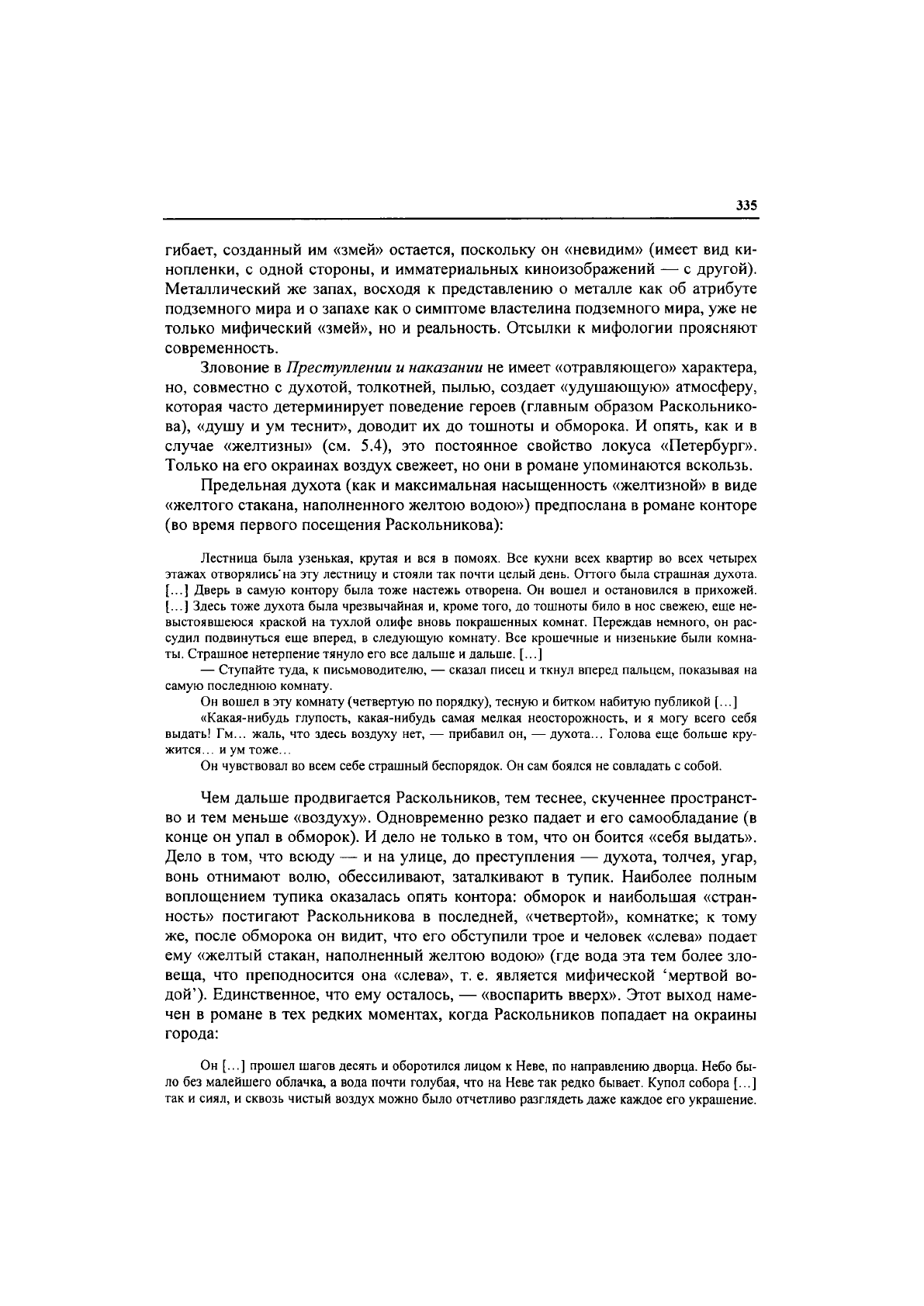
335
гибает, созданный им «змей» остается, поскольку он «невидим» (имеет вид ки-
нопленки, с одной стороны, и имматериальных киноизображений — с другой).
Металлический же запах, восходя к представлению о металле как об атрибуте
подземного мира и о запахе как о симптоме властелина подземного мира, уже не
только мифический «змей», но и реальность. Отсылки к мифологии проясняют
современность.
Зловоние в Преступлении и наказании не имеет «отравляющего» характера,
но, совместно с духотой, толкотней, пылью, создает «удушающую» атмосферу,
которая часто детерминирует поведение героев (главным образом Раскольнико-
ва), «душу и ум теснит», доводит их до тошноты и обморока. И опять, как и в
случае «желтизны» (см. 5.4), это постоянное свойство локуса «Петербург».
Только на его окраинах воздух свежеет, но они в романе упоминаются вскользь.
Предельная духота (как и максимальная насыщенность «желтизной» в виде
«желтого стакана, наполненного желтою водою») предпослана в романе конторе
(во время первого посещения Раскольникова):
Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех
этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота.
[...] Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей.
[...] Здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежею, еще не-
выстоявшеюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рас-
судил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комна-
ты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. [...]
— Ступайте туда, к письмоводителю, — сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на
самую последнюю комнату.
Он вошел в эту комнату (четвертую по порядку), тесную и битком набитую публикой [...]
«Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя
выдать! Гм... жаль, что здесь воздуху нет, — прибавил он, — духота... Голова еще больше кру-
жится... и ум тоже...
Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладать с собой.
Чем дальше продвигается Раскольников, тем теснее, скученнее пространст-
во и тем меньше «воздуху». Одновременно резко падает и его самообладание (в
конце он упал в обморок). И дело не только в том, что он боится «себя выдать».
Дело в том, что всюду — и на улице, до преступления — духота, толчея, угар,
вонь отнимают волю, обессиливают, заталкивают в тупик. Наиболее полным
воплощением тупика оказалась опять контора: обморок и наибольшая «стран-
ность» постигают Раскольникова в последней, «четвертой», комнатке; к тому
же, после обморока он видит, что его обступили трое и человек «слева» подает
ему «желтый стакан, наполненный желтою водою» (где вода эта тем более зло-
веща, что преподносится она «слева», т. е. является мифической 'мертвой во-
дой'). Единственное, что ему осталось, — «воспарить вверх». Этот выход наме-
чен в романе в тех редких моментах, когда Раскольников попадает на окраины
города:
Он [...] прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо бы-
ло без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора [...]
так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение.
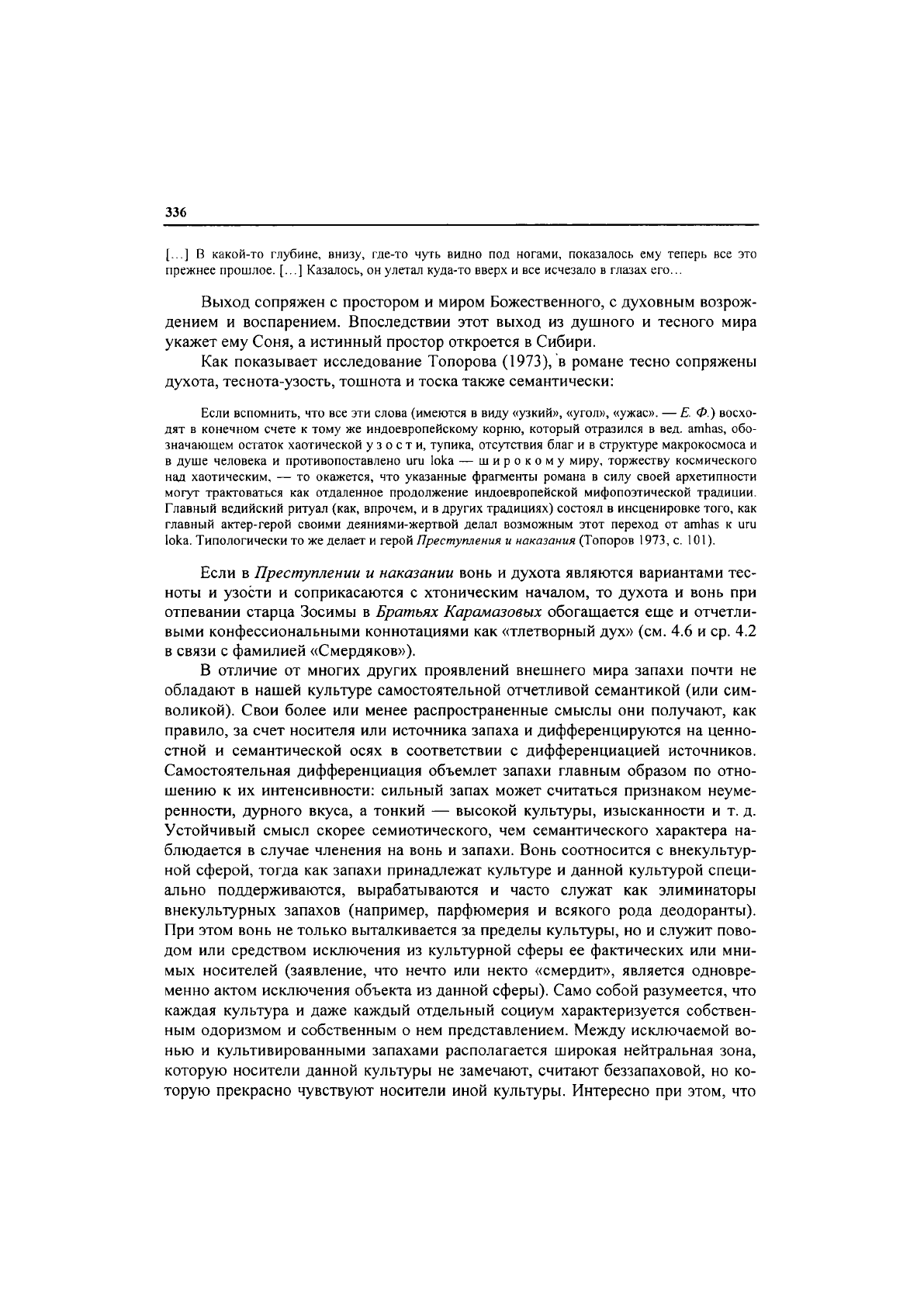
336
[...] В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это
прежнее прошлое. [...] Казалось, он улетал куда-то вверх и все исчезало в глазах его...
Выход сопряжен с простором и миром Божественного, с духовным возрож-
дением и воспарением. Впоследствии этот выход из душного и тесного мира
укажет ему Соня, а истинный простор откроется в Сибири.
Как показывает исследование Топорова (1973), в романе тесно сопряжены
духота, теснота-узость, тошнота и тоска также семантически:
Если вспомнить, что все эти слова (имеются в виду «узкий», «угол», «ужас». — Е. Ф.) восхо-
дят в конечном счете к тому же индоевропейскому корню, который отразился в вед. amhas, обо-
значающем остаток хаотической узости, тупика, отсутствия благ и в структуре макрокосмоса и
в душе человека и противопоставлено uru loka — широкому миру, торжеству космического
над хаотическим, — то окажется, что указанные фрагменты романа в силу своей архетипности
могут трактоваться как отдаленное продолжение индоевропейской мифопоэтической традиции.
Главный ведийский ритуал (как, впрочем, и в других традициях) состоял в инсценировке того, как
главный актер-герой своими деяниями-жертвой делал возможным этот переход от amhas к uru
loka. Типологически то же делает и герой Преступления и наказания (Топоров 1973, с. 101).
Если в Преступлении и наказании вонь и духота являются вариантами тес-
ноты и узости и соприкасаются с хтоническим началом, то духота и вонь при
отпевании старца Зосимы в Братьях Карамазовых обогащается еще и отчетли-
выми конфессиональными коннотациями как «тлетворный дух» (см. 4.6 и ср. 4.2
в связи с фамилией «Смердяков»).
В отличие от многих других проявлений внешнего мира запахи почти не
обладают в нашей культуре самостоятельной отчетливой семантикой (или сим-
воликой). Свои более или менее распространенные смыслы они получают, как
правило, за счет носителя или источника запаха и дифференцируются на ценно-
стной и семантической осях в соответствии с дифференциацией источников.
Самостоятельная дифференциация объемлет запахи главным образом по отно-
шению к их интенсивности: сильный запах может считаться признаком неуме-
ренности, дурного вкуса, а тонкий — высокой культуры, изысканности и т. д.
Устойчивый смысл скорее семиотического, чем семантического характера на-
блюдается в случае членения на вонь и запахи. Вонь соотносится с внекультур-
ной сферой, тогда как запахи принадлежат культуре и данной культурой специ-
ально поддерживаются, вырабатываются и часто служат как элиминаторы
внекультурных запахов (например, парфюмерия и всякого рода деодоранты).
При этом вонь не только выталкивается за пределы культуры, но и служит пово-
дом или средством исключения из культурной сферы ее фактических или мни-
мых носителей (заявление, что нечто или некто «смердит», является одновре-
менно актом исключения объекта из данной сферы). Само собой разумеется, что
каждая культура и даже каждый отдельный социум характеризуется собствен-
ным одоризмом и собственным о нем представлением. Между исключаемой во-
нью и культивированными запахами располагается широкая нейтральная зона,
которую носители данной культуры не замечают, считают беззапаховой, но ко-
торую прекрасно чувствуют носители иной культуры. Интересно при этом, что
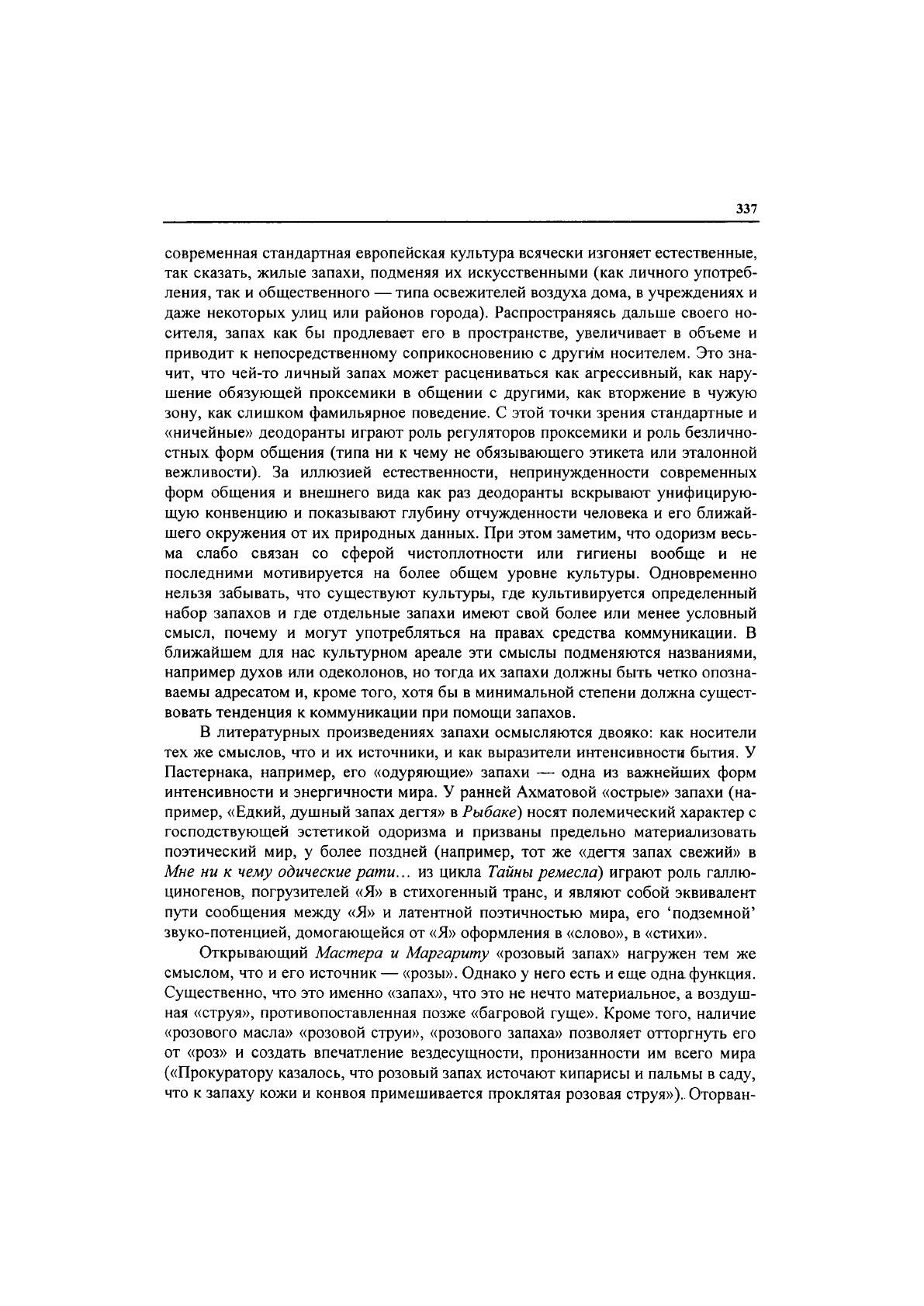
337
современная стандартная европейская культура всячески изгоняет естественные,
так сказать, жилые запахи, подменяя их искусственными (как личного употреб-
ления, так и общественного — типа освежителей воздуха дома, в учреждениях и
даже некоторых улиц или районов города). Распространяясь дальше своего но-
сителя, запах как бы продлевает его в пространстве, увеличивает в объеме и
приводит к непосредственному соприкосновению с другим носителем. Это зна-
чит, что чей-то личный запах может расцениваться как агрессивный, как нару-
шение обязующей проксемики в общении с другими, как вторжение в чужую
зону, как слишком фамильярное поведение. С этой точки зрения стандартные и
«ничейные» деодоранты играют роль регуляторов проксемики и роль безлично-
стных форм общения (типа ни к чему не обязывающего этикета или эталонной
вежливости). За иллюзией естественности, непринужденности современных
форм общения и внешнего вида как раз деодоранты вскрывают унифицирую-
щую конвенцию и показывают глубину отчужденности человека и его ближай-
шего окружения от их природных данных. При этом заметим, что одоризм весь-
ма слабо связан со сферой чистоплотности или гигиены вообще и не
последними мотивируется на более общем уровне культуры. Одновременно
нельзя забывать, что существуют культуры, где культивируется определенный
набор запахов и где отдельные запахи имеют свой более или менее условный
смысл, почему и могут употребляться на правах средства коммуникации. В
ближайшем для нас культурном ареале эти смыслы подменяются названиями,
например духов или одеколонов, но тогда их запахи должны быть четко опозна-
ваемы адресатом и, кроме того, хотя бы в минимальной степени должна сущест-
вовать тенденция к коммуникации при помощи запахов.
В литературных произведениях запахи осмысляются двояко: как носители
тех же смыслов, что и их источники, и как выразители интенсивности бытия. У
Пастернака, например, его «одуряющие» запахи — одна из важнейших форм
интенсивности и энергичности мира. У ранней Ахматовой «острые» запахи (на-
пример, «Едкий, душный запах дегтя» в Рыбаке) носят полемический характер с
господствующей эстетикой одоризма и призваны предельно материализовать
поэтический мир, у более поздней (например, тот же «дегтя запах свежий» в
Мне ни к чему одические рати... из цикла Тайны ремесла) играют роль галлю-
циногенов, погрузителей «Я» в стихогенный транс, и являют собой эквивалент
пути сообщения между «Я» и латентной поэтичностью мира, его 'подземной'
звуко-потенцией, домогающейся от «Я» оформления в «слово», в «стихи».
Открывающий Мастера и Маргариту «розовый запах» нагружен тем же
смыслом, что и его источник — «розы». Однако у него есть и еще одна функция.
Существенно, что это именно «запах», что это не нечто материальное, а воздуш-
ная «струя», противопоставленная позже «багровой гуще». Кроме того, наличие
«розового масла» «розовой струи», «розового запаха» позволяет отторгнуть его
от «роз» и создать впечатление вездесущности, пронизанности им всего мира
(«Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду,
что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя»).. Оторван-
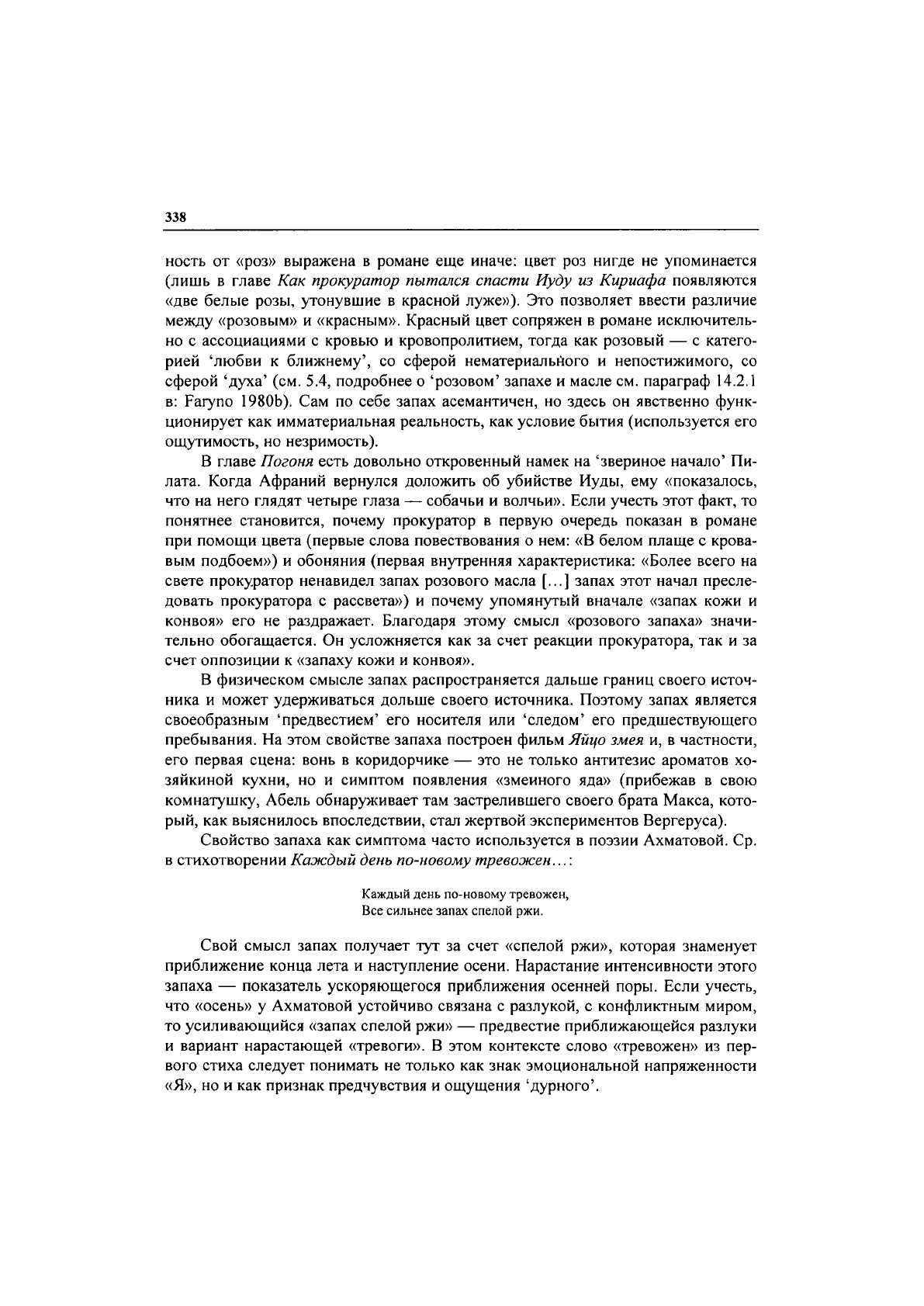
338
ность от «роз» выражена в романе еще иначе: цвет роз нигде не упоминается
(лишь в главе Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа появляются
«две белые розы, утонувшие в красной луже»). Это позволяет ввести различие
между «розовым» и «красным». Красный цвет сопряжен в романе исключитель-
но с ассоциациями с кровью и кровопролитием, тогда как розовый — с катего-
рией 'любви к ближнему', со сферой нематериальйого и непостижимого, со
сферой 'духа' (см. 5.4, подробнее о 'розовом' запахе и масле см. параграф 14.2.1
в: Faryno 1980b). Сам по себе запах асемантичен, но здесь он явственно функ-
ционирует как имматериальная реальность, как условие бытия (используется его
ощутимость, но незримость).
В главе Погоня есть довольно откровенный намек на 'звериное начало' Пи-
лата. Когда Афраний вернулся доложить об убийстве Иуды, ему «показалось,
что на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи». Если учесть этот факт, то
понятнее становится, почему прокуратор в первую очередь показан в романе
при помощи цвета (первые слова повествования о нем: «В белом плаще с крова-
вым подбоем») и обоняния (первая внутренняя характеристика: «Более всего на
свете прокуратор ненавидел запах розового масла [...] запах этот начал пресле-
довать прокуратора с рассвета») и почему упомянутый вначале «запах кожи и
конвоя» его не раздражает. Благодаря этому смысл «розового запаха» значи-
тельно обогащается. Он усложняется как за счет реакции прокуратора, так и за
счет оппозиции к «запаху кожи и конвоя».
В физическом смысле запах распространяется дальше границ своего источ-
ника и может удерживаться дольше своего источника. Поэтому запах является
своеобразным 'предвестием' его носителя или 'следом' его предшествующего
пребывания. На этом свойстве запаха построен фильм Яйцо змея и, в частности,
его первая сцена: вонь в коридорчике — это не только антитезис ароматов хо-
зяйкиной кухни, но и симптом появления «змеиного яда» (прибежав в свою
комнатушку, Абель обнаруживает там застрелившего своего брата Макса, кото-
рый, как выяснилось впоследствии, стал жертвой экспериментов Вергеруса).
Свойство запаха как симптома часто используется в поэзии Ахматовой. Ср.
в стихотворении Каждый день по-новому тревожен...:
Каждый день по-новому тревожен,
Все сильнее запах спелой ржи.
Свой смысл запах получает тут за счет «спелой ржи», которая знаменует
приближение конца лета и наступление осени. Нарастание интенсивности этого
запаха — показатель ускоряющегося приближения осенней поры. Если учесть,
что «осень» у Ахматовой устойчиво связана с разлукой, с конфликтным миром,
то усиливающийся «запах спелой ржи» — предвестие приближающейся разлуки
и вариант нарастающей «тревоги». В этом контексте слово «тревожен» из пер-
вого стиха следует понимать не только как знак эмоциональной напряженности
«Я», но и как признак предчувствия и ощущения 'дурного'.
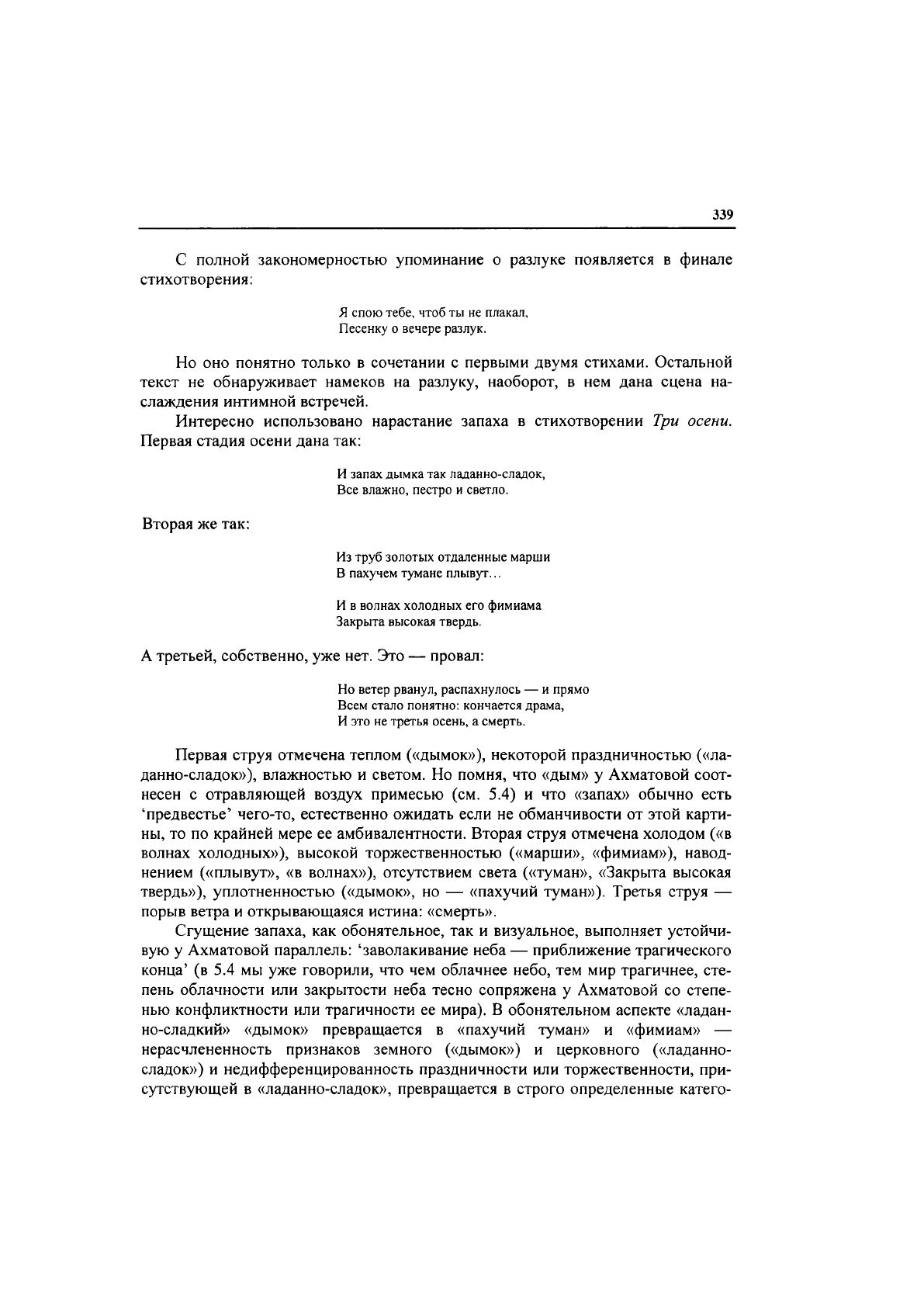
339
С полной закономерностью упоминание о разлуке появляется в финале
стихотворения:
Я спою тебе, чтоб ты не плакал,
Песенку о вечере разлук.
Но оно понятно только в сочетании с первыми двумя стихами. Остальной
текст не обнаруживает намеков на разлуку, наоборот, в нем дана сцена на-
слаждения интимной встречей.
Интересно использовано нарастание запаха в стихотворении Три осени.
Первая стадия осени дана так:
И запах дымка так ладанно-сладок,
Все влажно, пестро и светло.
Вторая же так:
Из труб золотых отдаленные марши
В пахучем тумане плывут...
И в волнах холодных его фимиама
Закрыта высокая твердь.
А третьей, собственно, уже нет. Это — провал:
Но ветер рванул, распахнулось — и прямо
Всем стало понятно: кончается драма,
И это не третья осень, а смерть.
Первая струя отмечена теплом («дымок»), некоторой праздничностью («ла-
данно-сладок»), влажностью и светом. Но помня, что «дым» у Ахматовой соот-
несен с отравляющей воздух примесью (см. 5.4) и что «запах» обычно есть
'предвестье' чего-то, естественно ожидать если не обманчивости от этой карти-
ны, то по крайней мере ее амбивалентности. Вторая струя отмечена холодом («в
волнах холодных»), высокой торжественностью («марши», «фимиам»), навод-
нением («плывут», «в волнах»), отсутствием света («туман», «Закрыта высокая
твердь»), уплотненностью («дымок», но — «пахучий туман»). Третья струя —
порыв ветра и открывающаяся истина: «смерть».
Сгущение запаха, как обонятельное, так и визуальное, выполняет устойчи-
вую у Ахматовой параллель: 'заволакивание неба — приближение трагического
конца' (в 5.4 мы уже говорили, что чем облачнее небо, тем мир трагичнее, сте-
пень облачности или закрытости неба тесно сопряжена у Ахматовой со степе-
нью конфликтности или трагичности ее мира). В обонятельном аспекте «ладан-
но-сладкий» «дымок» превращается в «пахучий туман» и «фимиам» —
нерасчлененность признаков земного («дымок») и церковного («ладанно-
сладок») и недифференцированность праздничности или торжественности, при-
сутствующей в «ладанно-сладок», превращается в строго определенные катего-
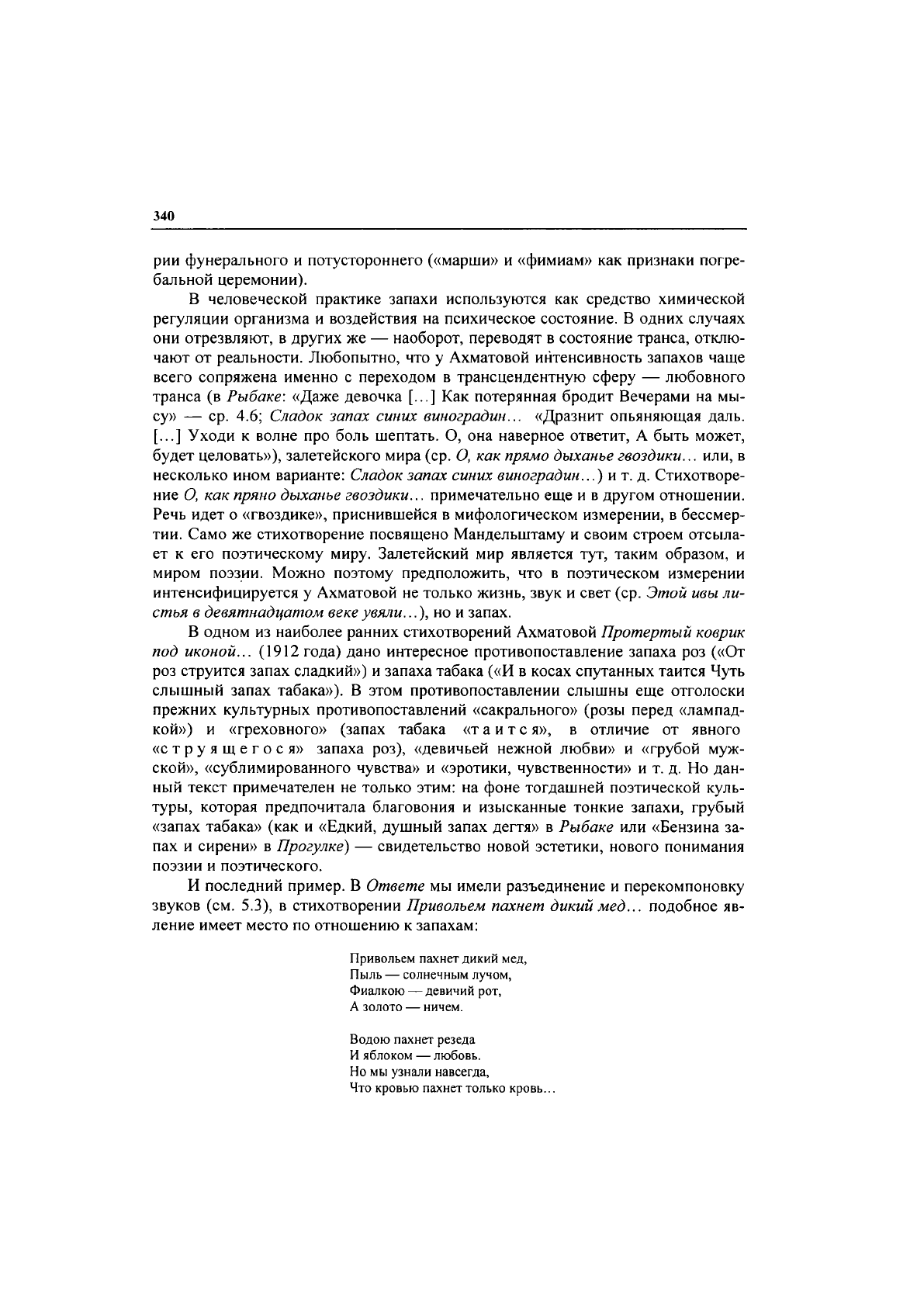
340
рии фунерального и потустороннего («марши» и «фимиам» как признаки погре-
бальной церемонии).
В человеческой практике запахи используются как средство химической
регуляции организма и воздействия на психическое состояние. В одних случаях
они отрезвляют, в других же — наоборот, переводят в состояние транса, отклю-
чают от реальности. Любопытно, что у Ахматовой игітенсивность запахов чаще
всего сопряжена именно с переходом в трансцендентную сферу — любовного
транса (в Рыбаке: «Даже девочка [...] Как потерянная бродит Вечерами на мы-
су» — ср. 4.6; Сладок запах синих виноградин... «Дразнит опьяняющая даль.
[...] Уходи к волне про боль шептать. О, она наверное ответит, А быть может,
будет целовать»), залетейского мира (ср. О, как прямо дыханье гвоздики... или, в
несколько ином варианте: Сладок запах синих виноградин...) и т. д. Стихотворе-
ние О, как пряно дыханье гвоздики... примечательно еще и в другом отношении.
Речь идет о «гвоздике», приснившейся в мифологическом измерении, в бессмер-
тии. Само же стихотворение посвящено Мандельштаму и своим строем отсыла-
ет к его поэтическому миру. Залетейский мир является тут, таким образом, и
миром поэзии. Можно поэтому предположить, что в поэтическом измерении
интенсифицируется у Ахматовой не только жизнь, звук и свет (ср. Этой ивы ли-
стья в девятнадцатом веке увяли...), но и запах.
В одном из наиболее ранних стихотворений Ахматовой Протертый коврик
под иконой... (1912 года) дано интересное противопоставление запаха роз («От
роз струится запах сладкий») и запаха табака («И в косах спутанных таится Чуть
слышный запах табака»). В этом противопоставлении слышны еще отголоски
прежних культурных противопоставлений «сакрального» (розы перед «лампад-
кой») и «греховного» (запах табака «таите я», в отличие от явного
«струящегося» запаха роз), «девичьей нежной любви» и «грубой муж-
ской», «сублимированного чувства» и «эротики, чувственности» и т. д. Но дан-
ный текст примечателен не только этим: на фоне тогдашней поэтической куль-
туры, которая предпочитала благовония и изысканные тонкие запахи, грубый
«запах табака» (как и «Едкий, душный запах дегтя» в Рыбаке или «Бензина за-
пах и сирени» в Прогулке) — свидетельство новой эстетики, нового понимания
поэзии и поэтического.
И последний пример. В Ответе мы имели разъединение и перекомпоновку
звуков (см. 5.3), в стихотворении Привольем пахнет дикий мед... подобное яв-
ление имеет место по отношению к запахам:
Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...
