Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

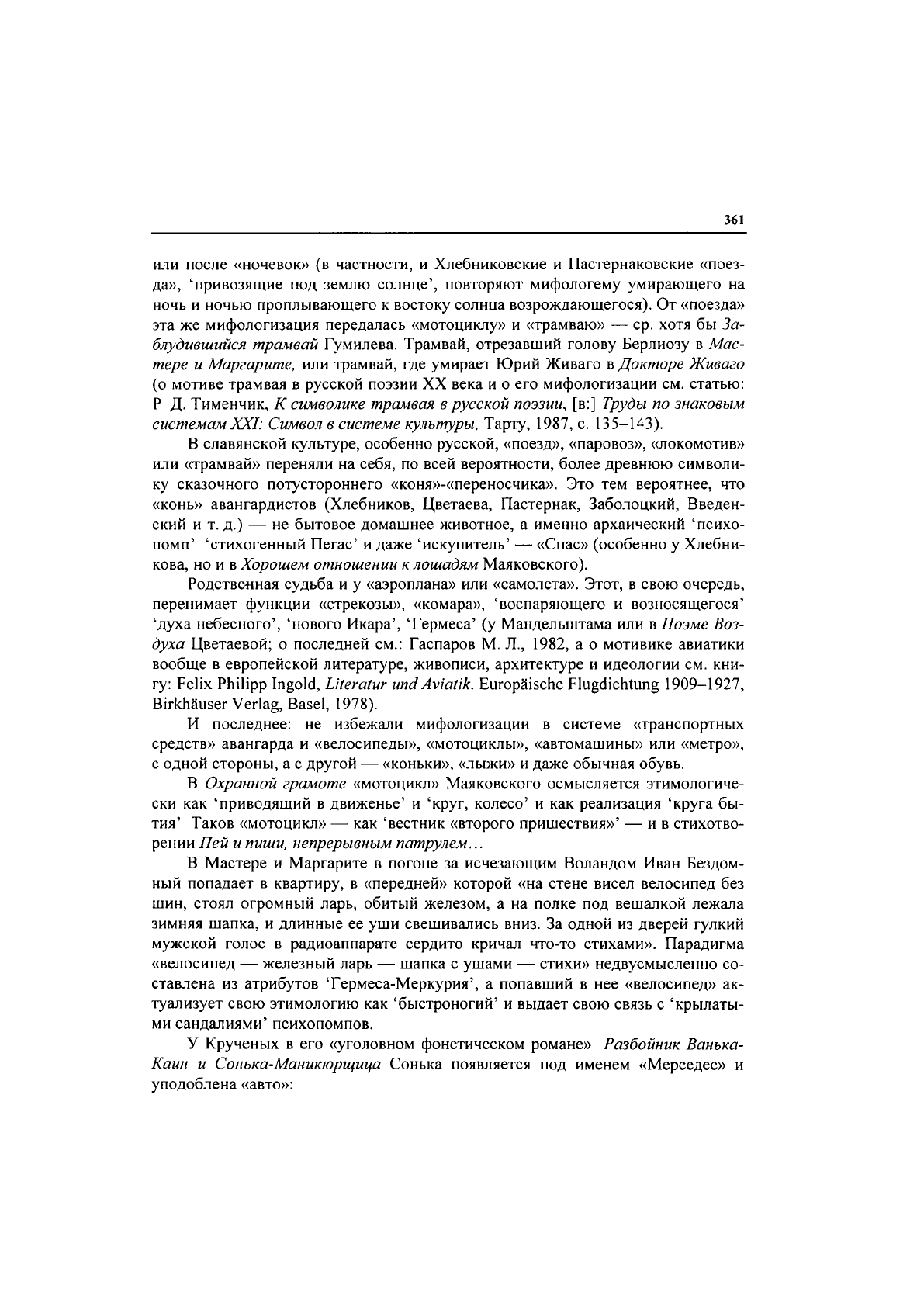
361
или после «ночевок» (в частности, и Хлебниковские и Пастернаковские «поез-
да», 'привозящие под землю солнце', повторяют мифологему умирающего на
ночь и ночью проплывающего к востоку солнца возрождающегося). От «поезда»
эта же мифологизация передалась «мотоциклу» и «трамваю» — ср. хотя бы За-
блудившийся трамвай Гумилева. Трамвай, отрезавший голову Берлиозу в Мас-
тере и Маргарите, или трамвай, где умирает Юрий Живаго в Докторе Живаго
(о мотиве трамвая в русской поэзии XX века и о его мифологизации см. статью:
Р Д. Тименчик, К символике трамвая в русской поэзии, [в:] Труды по знаковым
системам XXI: Символ в системе культуры, Тарту, 1987, с. 135-143).
В славянской культуре, особенно русской, «поезд», «паровоз», «локомотив»
или «трамвай» переняли на себя, по всей вероятности, более древнюю символи-
ку сказочного потустороннего «коня»-«переносчика». Это тем вероятнее, что
«конь» авангардистов (Хлебников, Цветаева, Пастернак, Заболоцкий, Введен-
ский и т. д.) — не бытовое домашнее животное, а именно архаический 'психо-
помп' 'стихогенный Пегас' и даже 'искупитель' — «Спас» (особенно у Хлебни-
кова, но и в Хорошем отношении к лошадям Маяковского).
Родственная судьба и у «аэроплана» или «самолета». Этот, в свою очередь,
перенимает функции «стрекозы», «комара», 'воспаряющего и возносящегося'
'духа небесного', 'нового Икара', 'Гермеса' (у Мандельштама или в Поэме Воз-
духа Цветаевой; о последней см.: Гаспаров М. Л., 1982, а о мотивике авиатики
вообще в европейской литературе, живописи, архитектуре и идеологии см. кни-
гу: Felix Philipp Ingold, Literatur und
Aviatik.
Europäische Flugdichtung 1909-1927,
Birkhäuser Verlag, Basel, 1978).
И последнее: не избежали мифологизации в системе «транспортных
средств» авангарда и «велосипеды», «мотоциклы», «автомашины» или «метро»,
с одной стороны, а с другой — «коньки», «лыжи» и даже обычная обувь.
В Охранной грамоте «мотоцикл» Маяковского осмысляется этимологиче-
ски как 'приводящий в движенье' и 'круг, колесо' и как реализация 'круга бы-
тия' Таков «мотоцикл» — как 'вестник «второго пришествия»' — ив стихотво-
рении Пей и пиши, непрерывным патрулем...
В Мастере и Маргарите в погоне за исчезающим Воландом Иван Бездом-
ный попадает в квартиру, в «передней» которой «на стене висел велосипед без
шин, стоял огромный ларь, обитый железом, а на полке под вешалкой лежала
зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий
мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами». Парадигма
«велосипед — железный ларь — шапка с ушами — стихи» недвусмысленно со-
ставлена из атрибутов 'Гермеса-Меркурия', а попавший в нее «велосипед» ак-
туализует свою этимологию как 'быстроногий' и выдает свою связь с 'крылаты-
ми сандалиями' психопомпов.
У Крученых в его «уголовном фонетическом романе» Разбойник Ванька-
Каин и Сонька-Маникюрщица Сонька появляется под именем «Мерседес» и
уподоблена «авто»:
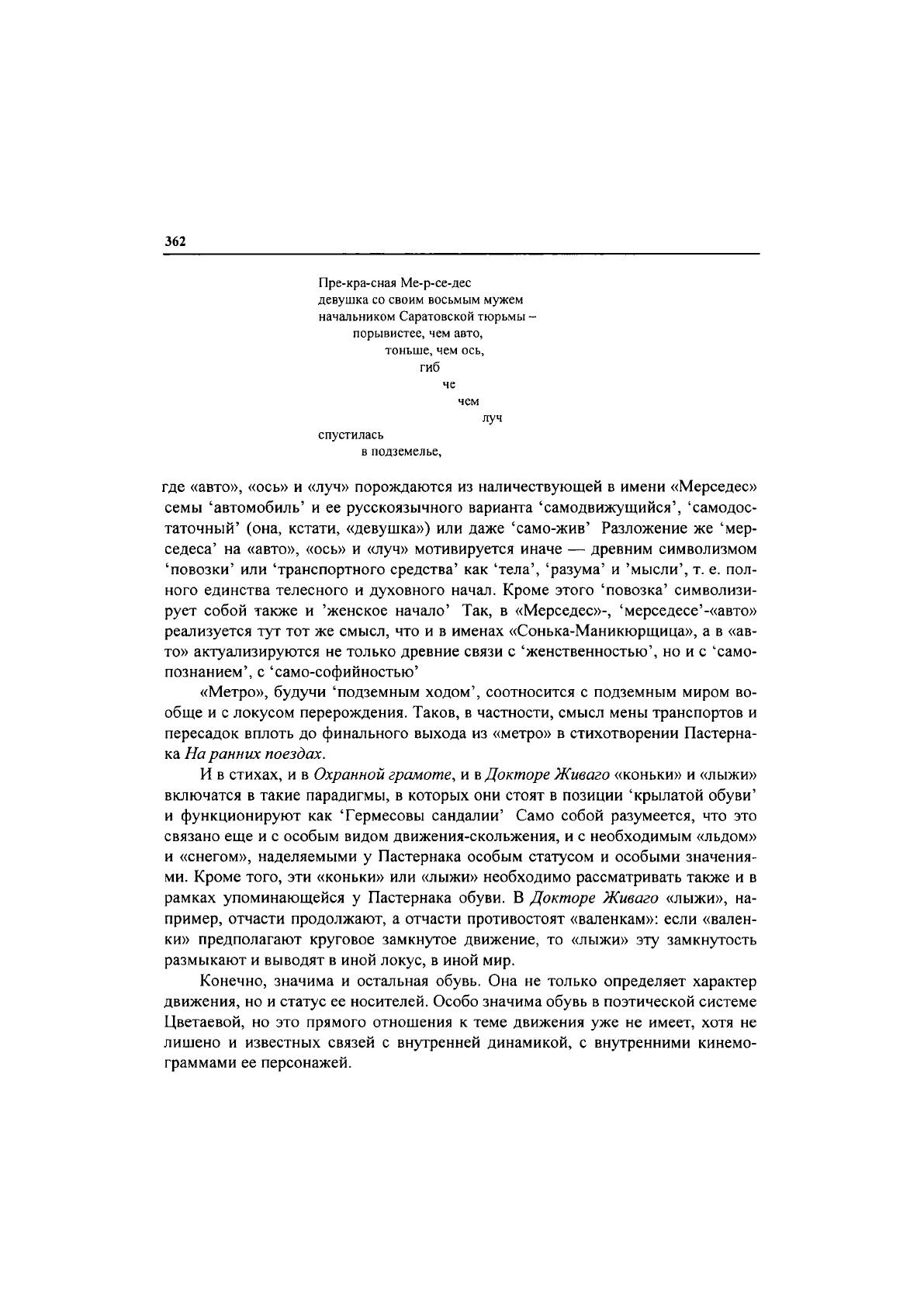
362
Пре-кра-сная Ме-р-се-дес
девушка со своим восьмым мужем
начальником Саратовской тюрьмы -
порывистее, чем авто,
тоньше, чем ось,
гиб
че
чем
луч
спустилась
в подземелье,
где «авто», «ось» и «луч» порождаются из наличествующей в имени «Мерседес»
семы 'автомобиль' и ее русскоязычного варианта 'самодвижущийся', 'самодос-
таточный' (она, кстати, «девушка») или даже 'само-жив' Разложение же 'мер-
седеса' на «авто», «ось» и «луч» мотивируется иначе — древним символизмом
'повозки' или 'транспортного средства' как 'тела', 'разума' и 'мысли', т. е. пол-
ного единства телесного и духовного начал. Кроме этого 'повозка' символизи-
рует собой также и 'женское начало' Так, в «Мерседес»-, 'мерседесе'-«авто»
реализуется тут тот же смысл, что и в именах «Сонька-Маникюрщица», а в «ав-
то» актуализируются не только древние связи с 'женственностью', но и с 'само-
познанием', с 'само-софийностью'
«Метро», будучи 'подземным ходом', соотносится с подземным миром во-
обще и с локусом перерождения. Таков, в частности, смысл мены транспортов и
пересадок вплоть до финального выхода из «метро» в стихотворении Пастерна-
ка На ранних поездах.
И в стихах, и в Охранной грамоте, и в Докторе Живаго «коньки» и «лыжи»
включатся в такие парадигмы, в которых они стоят в позиции 'крылатой обуви'
и функционируют как 'Гермесовы сандалии' Само собой разумеется, что это
связано еще и с особым видом движения-скольжения, и с необходимым «льдом»
и «снегом», наделяемыми у Пастернака особым статусом и особыми значения-
ми. Кроме того, эти «коньки» или «лыжи» необходимо рассматривать также и в
рамках упоминающейся у Пастернака обуви. В Докторе Живаго «лыжи», на-
пример, отчасти продолжают, а отчасти противостоят «валенкам»: если «вален-
ки» предполагают круговое замкнутое движение, то «лыжи» эту замкнутость
размыкают и выводят в иной локус, в иной мир.
Конечно, значима и остальная обувь. Она не только определяет характер
движения, но и статус ее носителей. Особо значима обувь в поэтической системе
Цветаевой, но это прямого отношения к теме движения уже не имеет, хотя не
лишено и известных связей с внутренней динамикой, с внутренними кинемо-
граммами ее персонажей.
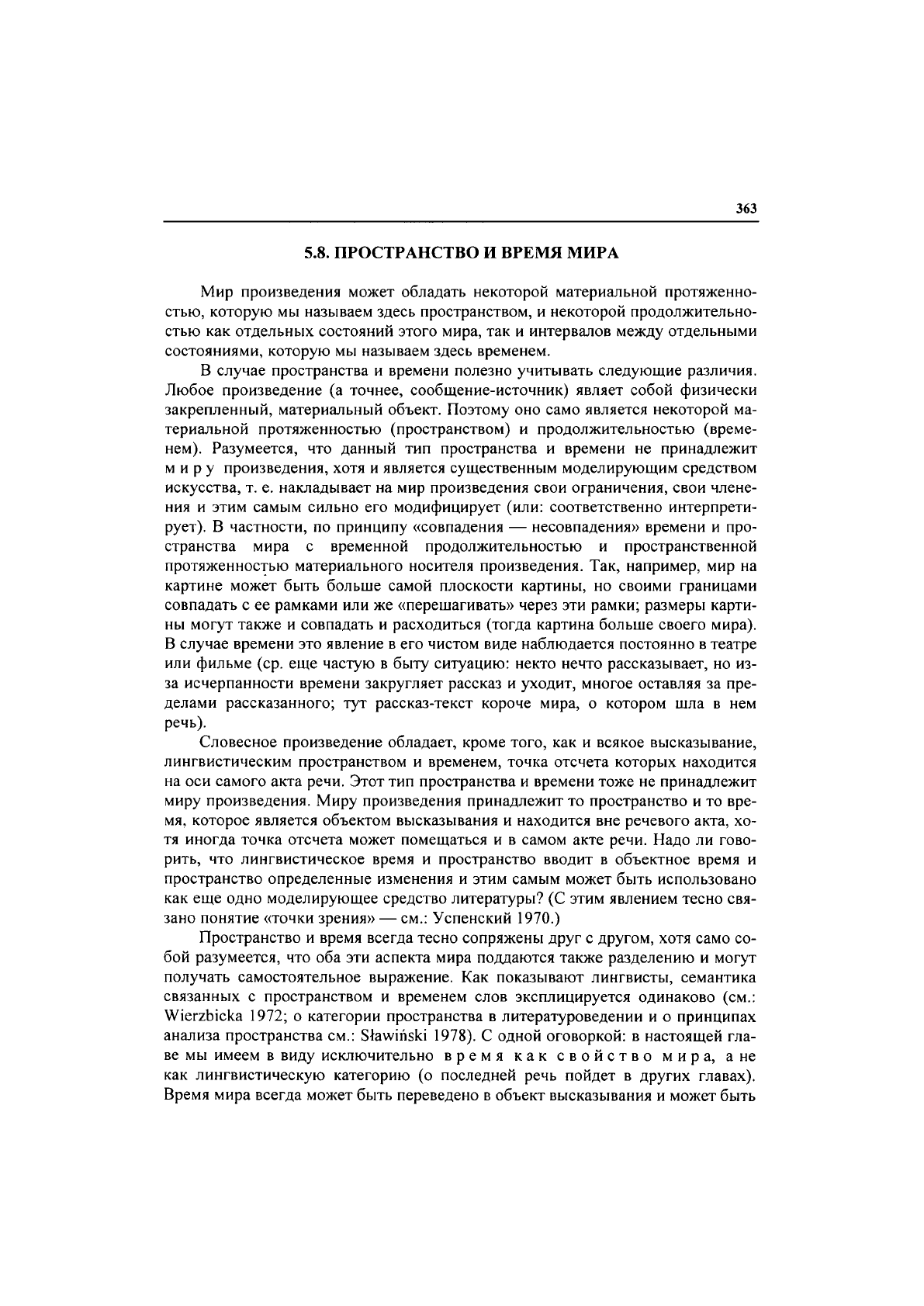
363
5.8. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ МИРА
Мир произведения может обладать некоторой материальной протяженно-
стью, которую мы называем здесь пространством, и некоторой продолжительно-
стью как отдельных состояний этого мира, так и интервалов между отдельными
состояниями, которую мы называем здесь временем.
В случае пространства и времени полезно учитывать следующие различия.
Любое произведение (а точнее, сообщение-источник) являет собой физически
закрепленный, материальный объект. Поэтому оно само является некоторой ма-
териальной протяженностью (пространством) и продолжительностью (време-
нем). Разумеется, что данный тип пространства и времени не принадлежит
миру произведения, хотя и является существенным моделирующим средством
искусства, т. е. накладывает на мир произведения свои ограничения, свои члене-
ния и этим самым сильно его модифицирует (или: соответственно интерпрети-
рует). В частности, по принципу «совпадения — несовпадения» времени и про-
странства мира с временной продолжительностью и пространственной
протяженностью материального носителя произведения. Так, например, мир на
картине может быть больше самой плоскости картины, но своими границами
совпадать с ее рамками или же «перешагивать» через эти рамки; размеры карти-
ны могут также и совпадать и расходиться (тогда картина больше своего мира).
В случае времени это явление в его чистом виде наблюдается постоянно в театре
или фильме (ср. еще частую в быту ситуацию: некто нечто рассказывает, но из-
за исчерпанности времени закругляет рассказ и уходит, многое оставляя за пре-
делами рассказанного; тут рассказ-текст короче мира, о котором шла в нем
речь).
Словесное произведение обладает, кроме того, как и всякое высказывание,
лингвистическим пространством и временем, точка отсчета которых находится
на оси самого акта речи. Этот тип пространства и времени тоже не принадлежит
миру произведения. Миру произведения принадлежит то пространство и то вре-
мя, которое является объектом высказывания и находится вне речевого акта, хо-
тя иногда точка отсчета может помещаться и в самом акте речи. Надо ли гово-
рить, что лингвистическое время и пространство вводит в объектное время и
пространство определенные изменения и этим самым может быть использовано
как еще одно моделирующее средство литературы? (С этим явлением тесно свя-
зано понятие «точки зрения» — см.: Успенский 1970.)
Пространство и время всегда тесно сопряжены друг с другом, хотя само со-
бой разумеется, что оба эти аспекта мира поддаются также разделению и могут
получать самостоятельное выражение. Как показывают лингвисты, семантика
связанных с пространством и временем слов эксплицируется одинаково (см.:
Wierzbicka 1972; о категории пространства в литературоведении и о принципах
анализа пространства см.: Sławiński 1978). С одной оговоркой: в настоящей гла-
ве мы имеем в виду исключительно время как свойство мира, а не
как лингвистическую категорию (о последней речь пойдет в других главах).
Время мира всегда может быть переведено в объект высказывания и может быть
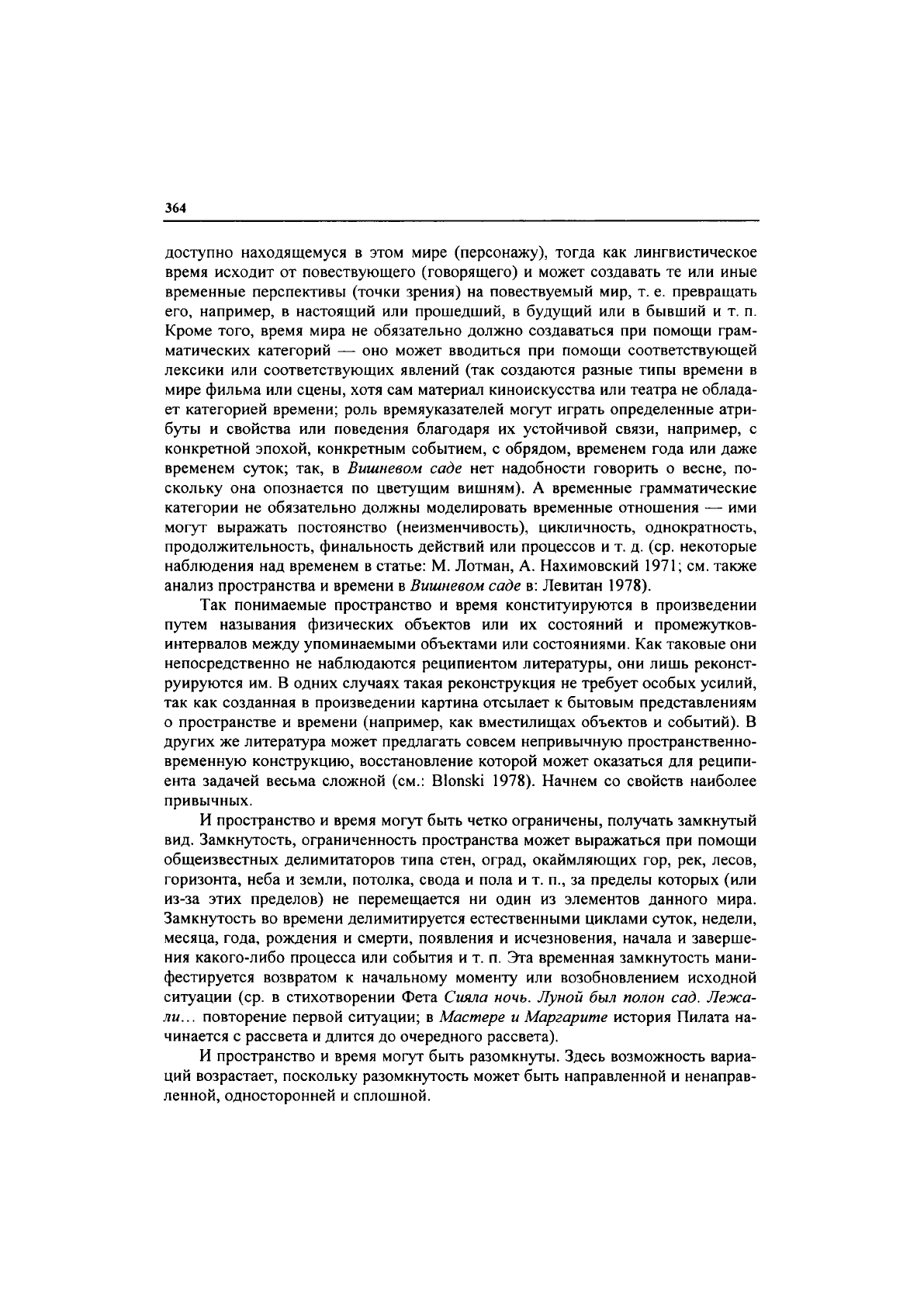
364
доступно находящемуся в этом мире (персонажу), тогда как лингвистическое
время исходит от повествующего (говорящего) и может создавать те или иные
временные перспективы (точки зрения) на повествуемый мир, т. е. превращать
его, например, в настоящий или прошедший, в будущий или в бывший и т. п.
Кроме того, время мира не обязательно должно создаваться при помощи грам-
матических категорий — оно может вводиться при помощи соответствующей
лексики или соответствующих явлений (так создаются разные типы времени в
мире фильма или сцены, хотя сам материал киноискусства или театра не облада-
ет категорией времени; роль времяуказателей могут играть определенные атри-
буты и свойства или поведения благодаря их устойчивой связи, например, с
конкретной эпохой, конкретным событием, с обрядом, временем года или даже
временем суток; так, в Вишневом саде нет надобности говорить о весне, по-
скольку она опознается по цветущим вишням). А временные грамматические
категории не обязательно должны моделировать временные отношения — ими
могут выражать постоянство (неизменчивость), цикличность, однократность,
продолжительность, финальность действий или процессов и т. д. (ср. некоторые
наблюдения над временем в статье: М. Лотман, А. Нахимовский 1971; см. также
анализ пространства и времени в Вишневом саде в: Левитан 1978).
Так понимаемые пространство и время конституируются в произведении
путем называния физических объектов или их состояний и промежутков-
интервалов между упоминаемыми объектами или состояниями. Как таковые они
непосредственно не наблюдаются реципиентом литературы, они лишь реконст-
руируются им. В одних случаях такая реконструкция не требует особых усилий,
так как созданная в произведении картина отсылает к бытовым представлениям
о пространстве и времени (например, как вместилищах объектов и событий). В
других же литература может предлагать совсем непривычную пространственно-
временную конструкцию, восстановление которой может оказаться для реципи-
ента задачей весьма сложной (см.: Błoński 1978). Начнем со свойств наиболее
привычных.
И пространство и время могут быть четко ограничены, получать замкнутый
вид. Замкнутость, ограниченность пространства может выражаться при помощи
общеизвестных делимитаторов типа стен, оград, окаймляющих гор, рек, лесов,
горизонта, неба и земли, потолка, свода и пола и т. п., за пределы которых (или
из-за этих пределов) не перемещается ни один из элементов данного мира.
Замкнутость во времени делимитируется естественными циклами суток, недели,
месяца, года, рождения и смерти, появления и исчезновения, начала и заверше-
ния какого-либо процесса или события и т. п. Эта временная замкнутость мани-
фестируется возвратом к начальному моменту или возобновлением исходной
ситуации (ср. в стихотворении Фета Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-
ли... повторение первой ситуации; в Мастере и Маргарите история Пилата на-
чинается с рассвета и длится до очередного рассвета).
И пространство и время могут быть разомкнуты. Здесь возможность вариа-
ций возрастает, поскольку разомкнутость может быть направленной и ненаправ-
ленной, односторонней и сплошной.
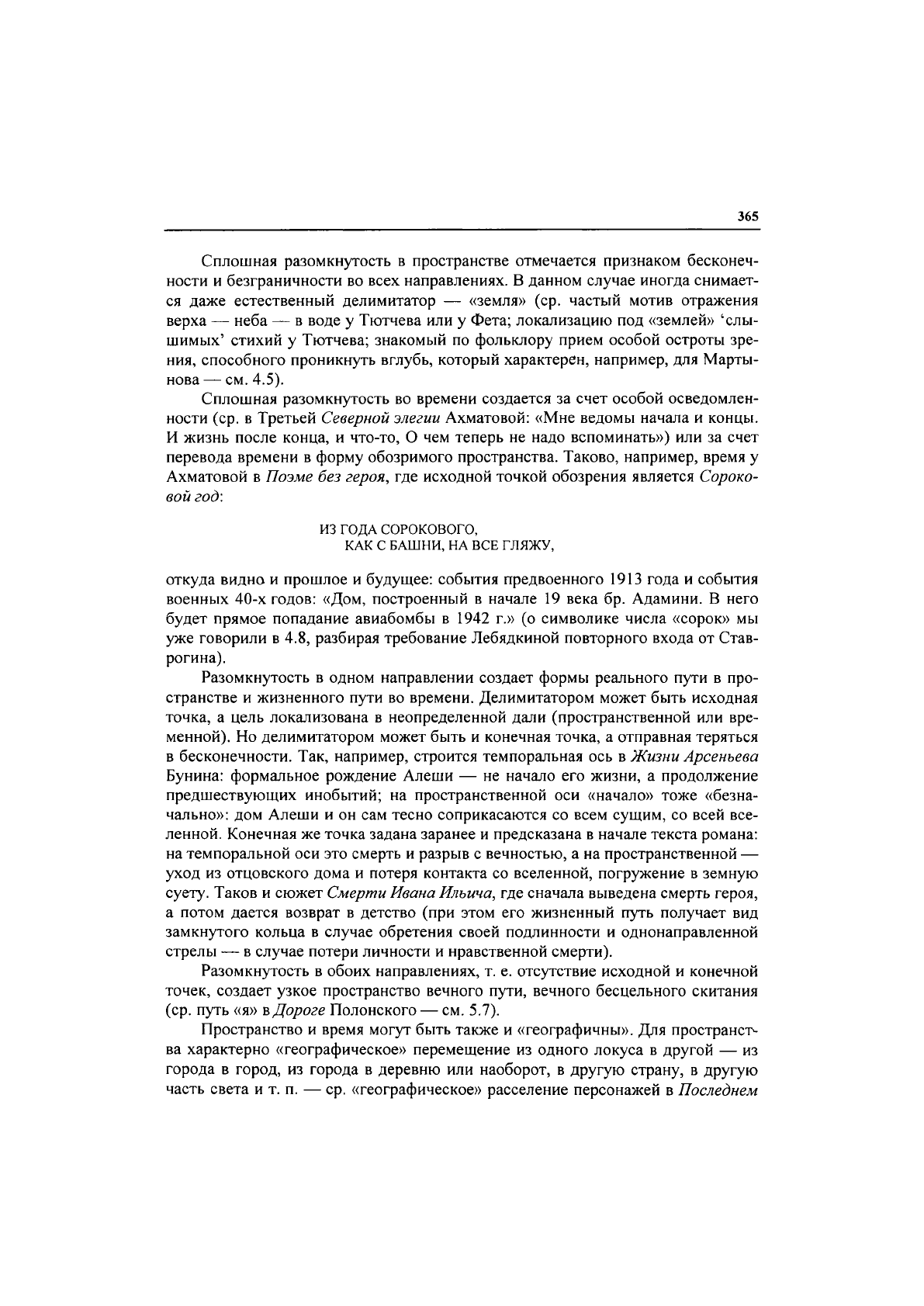
365
Сплошная разомкнутость в пространстве отмечается признаком бесконеч-
ности и безграничности во всех направлениях. В данном случае иногда снимает-
ся даже естественный делимитатор — «земля» (ср. частый мотив отражения
верха — неба — в воде у Тютчева или у Фета; локализацию под «землей» 'слы-
шимых' стихий у Тютчева; знакомый по фольклору прием особой остроты зре-
ния, способного проникнуть вглубь, который характерен, например, для Марты-
нова— см. 4.5).
Сплошная разомкнутость во времени создается за счет особой осведомлен-
ности (ср. в Третьей Северной элегии Ахматовой: «Мне ведомы начала и концы.
И жизнь после конца, и что-то, О чем теперь не надо вспоминать») или за счет
перевода времени в форму обозримого пространства. Таково, например, время у
Ахматовой в Поэме без героя, где исходной точкой обозрения является Сороко-
вой год:
ИЗ ГОДА СОРОКОВОГО,
КАК С БАШНИ, НА ВСЕ ГЛЯЖУ,
откуда видно и прошлое и будущее: события предвоенного 1913 года и события
военных 40-х годов: «Дом, построенный в начале 19 века бр. Адамини. В него
будет прямое попадание авиабомбы в 1942 г.» (о символике числа «сорок» мы
уже говорили в 4.8, разбирая требование Лебядкиной повторного входа от Став-
рогина).
Разомкнутость в одном направлении создает формы реального пути в про-
странстве и жизненного пути во времени. Делимитатором может быть исходная
точка, а цель локализована в неопределенной дали (пространственной или вре-
менной). Но делимитатором может быть и конечная точка, а отправная теряться
в бесконечности. Так, например, строится темпоральная ось в Жизни Арсенъева
Бунина: формальное рождение Алеши — не начало его жизни, а продолжение
предшествующих инобытий; на пространственной оси «начало» тоже «безна-
чально»: дом Алеши и он сам тесно соприкасаются со всем сущим, со всей все-
ленной. Конечная же точка задана заранее и предсказана в начале текста романа:
на темпоральной оси это смерть и разрыв с вечностью, а на пространственной —
уход из отцовского дома и потеря контакта со вселенной, погружение в земную
суету. Таков и сюжет Смерти Ивана Ильича, где сначала выведена смерть героя,
а потом дается возврат в детство (при этом его жизненный путь получает вид
замкнутого кольца в случае обретения своей подлинности и однонаправленной
стрелы — в случае потери личности и нравственной смерти).
Разомкнутость в обоих направлениях, т. е. отсутствие исходной и конечной
точек, создает узкое пространство вечного пути, вечного бесцельного скитания
(ср. путь «я» в Дороге Полонского — см. 5.7).
Пространство и время могут быть также и «географичны». Для пространст-
ва характерно «географическое» перемещение из одного локуса в другой — из
города в город, из города в деревню или наоборот, в другую страну, в другую
часть света и т. п. — ср. «географическое» расселение персонажей в Последнем
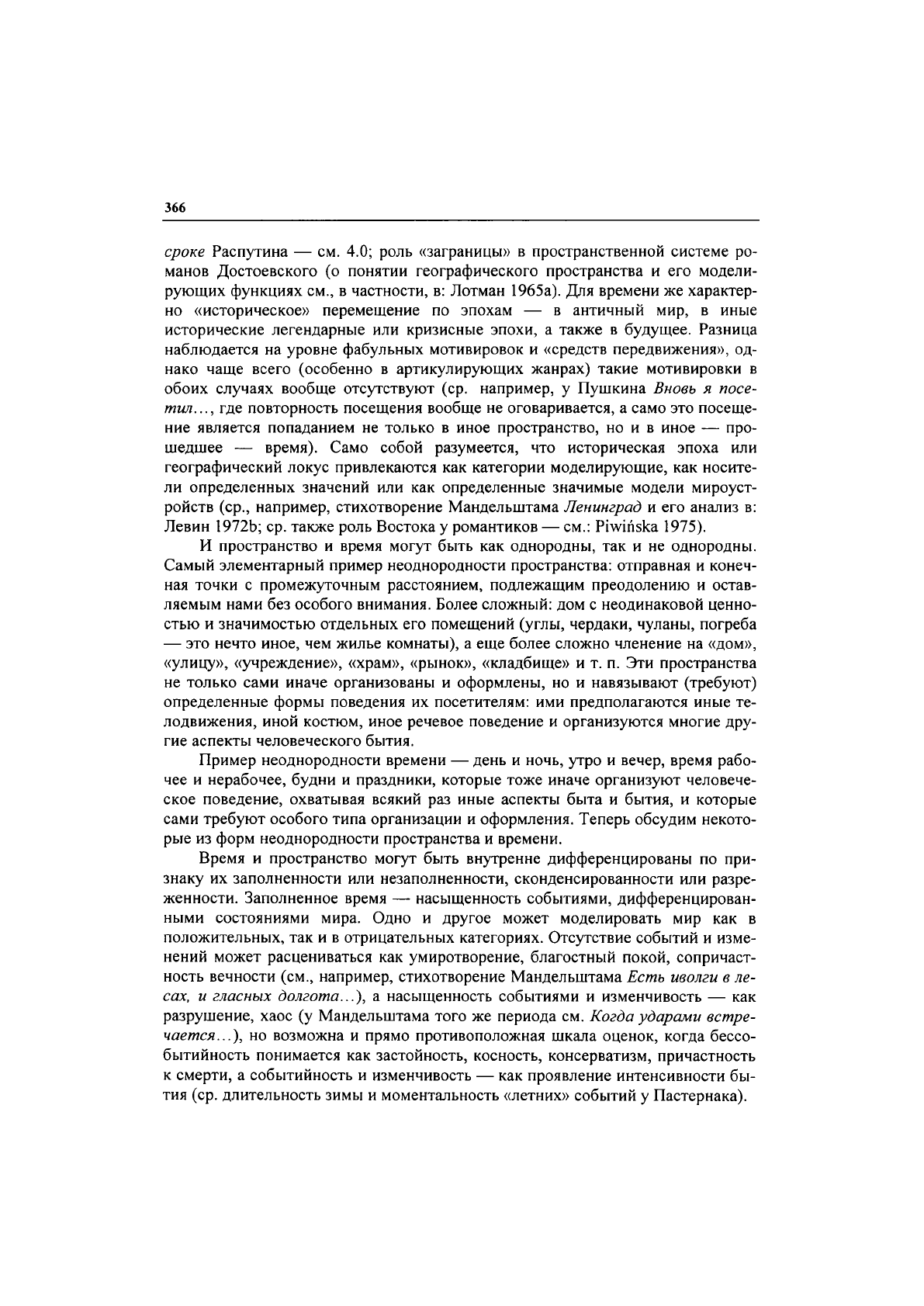
366
сроке Распутина — см. 4.0; роль «заграницы» в пространственной системе ро-
манов Достоевского (о понятии географического пространства и его модели-
рующих функциях см., в частности, в: Лотман 1965а). Для времени же характер-
но «историческое» перемещение по эпохам — в античный мир, в иные
исторические легендарные или кризисные эпохи, а также в будущее. Разница
наблюдается на уровне фабульных мотивировок и «средств передвижения», од-
нако чаще всего (особенно в артикулирующих жанрах) такие мотивировки в
обоих случаях вообще отсутствуют (ср. например, у Пушкина Вновь я посе-
тил..., где повторность посещения вообще не оговаривается, а само это посеще-
ние является попаданием не только в иное пространство, но и в иное — про-
шедшее — время). Само собой разумеется, что историческая эпоха или
географический локус привлекаются как категории моделирующие, как носите-
ли определенных значений или как определенные значимые модели мироуст-
ройств (ср., например, стихотворение Мандельштама Ленинград и его анализ в:
Левин 1972b; ср. также роль Востока у романтиков — см.: Piwińska 1975).
И пространство и время могут быть как однородны, так и не однородны.
Самый элементарный пример неоднородности пространства: отправная и конеч-
ная точки с промежуточным расстоянием, подлежащим преодолению и остав-
ляемым нами без особого внимания. Более сложный: дом с неодинаковой ценно-
стью и значимостью отдельных его помещений (углы, чердаки, чуланы, погреба
— это нечто иное, чем жилье комнаты), а еще более сложно членение на «дом»,
«улицу», «учреждение», «храм», «рынок», «кладбище» и т. п. Эти пространства
не только сами иначе организованы и оформлены, но и навязывают (требуют)
определенные формы поведения их посетителям: ими предполагаются иные те-
лодвижения, иной костюм, иное речевое поведение и организуются многие дру-
гие аспекты человеческого бытия.
Пример неоднородности времени — день и ночь, утро и вечер, время рабо-
чее и нерабочее, будни и праздники, которые тоже иначе организуют человече-
ское поведение, охватывая всякий раз иные аспекты быта и бытия, и которые
сами требуют особого типа организации и оформления. Теперь обсудим некото-
рые из форм неоднородности пространства и времени.
Время и пространство могут быть внутренне дифференцированы по при-
знаку их заполненности или незаполненности, сконденсированности или разре-
женности. Заполненное время — насыщенность событиями, дифференцирован-
ными состояниями мира. Одно и другое может моделировать мир как в
положительных, так и в отрицательных категориях. Отсутствие событий и изме-
нений может расцениваться как умиротворение, благостный покой, сопричаст-
ность вечности (см., например, стихотворение Мандельштама Есть иволги в ле-
сах, и гласных долгота...), а насыщенность событиями и изменчивость — как
разрушение, хаос (у Мандельштама того же периода см. Когда ударами встре-
чается...), но возможна и прямо противоположная шкала оценок, когда бессо-
бытийность понимается как застойность, косность, консерватизм, причастность
к смерти, а событийность и изменчивость — как проявление интенсивности бы-
тия (ср. длительность зимы и моментальность «летних» событий у Пастернака).

367
Заполненное пространство выражается в нагромождении предметов, а пус-
тое — в отсутствии вычленяемых предметов или свойств. Заполненное может
создавать темноту, сковывать, порождать конфликты и т. д., простор же — сво-
боду, созидательное движение, бесконфликтность (или наоборот). Такова диф-
ференциация пространства у Достоевского. Во внутренних загроможденных
пространствах его герои теряют волю, часто лишены движения, ими овладевают
преступные идеи; попадая же на простор, они становятся энергичнее и более
склонны к отказу от своих замыслов (ср. поведение Раскольникова в тесноте, в
своей коморке и на окраинах Петербурга, на открытых пространствах Невы).
При этом примечательно, что степень положительности героя часто соотнесена
у Достоевского со степенью простора и света в его комнате. Но в других систе-
мах простор, незаполненность могут расцениваться как категории отрицатель-
ные, как вредоносные явления.
Пространство и время во многом сходны друг с другом, но одновременно
они полностью самостоятельны и обладают собственной шкалой ценности. По-
этому заполненное пространство может пребывать в «остановившемся» (или
«пустом»), бессобытийном времени, а простор — во времени, исполненном со-
бытий. Такова реляция пространства и времени в Старосветских помещиках
Гоголя. Внутренняя пространственная сфера усадьбы Товстогубовых предельно
заполнена, но ей свойственно именно бессобытийное «остановившееся» время,
тогда как внешняя сфера являет собой некий открытый мир, но время в нем
событийно, так как там постоянно что-то «случается». Однако шкала оце-
нок тут только одна: внутренняя сфера расценивается как устойчивая, безопас-
ная, внешняя же — как опасная, разрушительная, неустойчивая. Легко заметить,
что в данном случае на первое место выдвигается временная ценностная шкала
(анализ этого рассказа см. в: Лотман 1968b).
В пространственном отношении мир может то сужаться, вплоть до исчез-
новения, то расширяться — до бесконечности. Так строится, например, про-
странство поездки Чичикова, которое начинается загородным чахлым пейзажем,
непомерно растяжимыми расстояниями и возвышающейся на юру усадьбой Ма-
нилова, а кончается уподобленными погребу комнатами Плюшкина и въездом в
ворота гостиницы «как будто в яму» (более детально о структуре поездки Чичи-
кова см. в: Faryno 1979b).
У времени такого соответствия нет. Возможно, что в данном случае про-
странственной узости (или сужению) соответствовала бы замедленность време-
ни, а этим самым — движений и реакций вплоть до погружения в дремоту, сон,
в забытье, где время вообще исчезало бы. А пространственному расширению —
ускорению темпа времени, укрупнение событий, усиление динамичности, энер-
гичности и т. п. (так, например, в узком и 'подвальном' пространстве Плюшкина
исчезает и время — тут дважды упоминаются «часы», но одни исчерпаны, а дру-
гие — «с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину»;
такой смысл «часов» Плюшкина подтверждается предшествующим упоминани-
ем «часов» у Коробочки, которые, правда, «хрипят» и «шипят», т. е. зловещи, но
тем не менее еще «идут», и некое 'время' = 'жизнь' здесь еще наличествует).
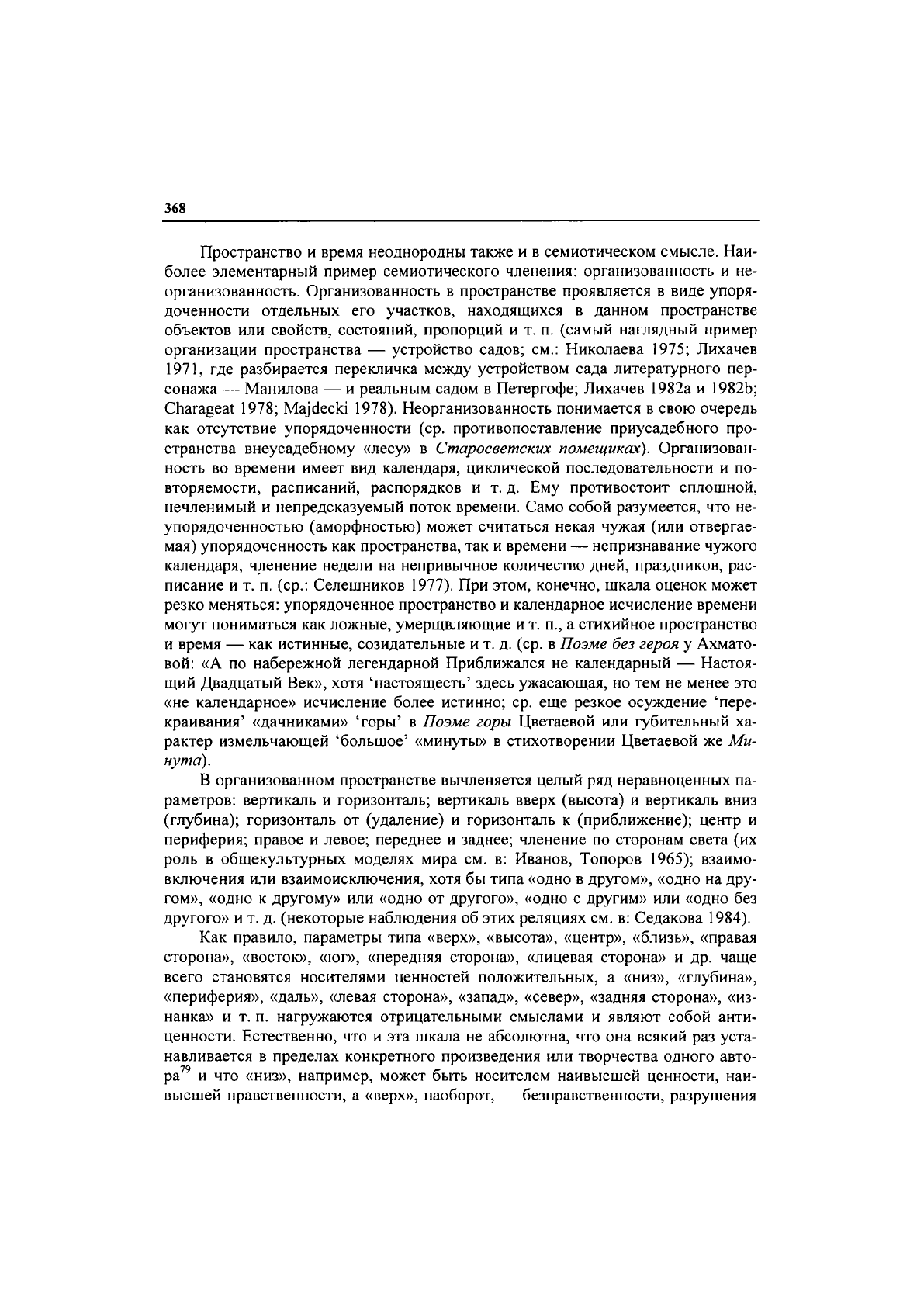
368
Пространство и время неоднородны также и в семиотическом смысле. Наи-
более элементарный пример семиотического членения: организованность и не-
организованность. Организованность в пространстве проявляется в виде упоря-
доченности отдельных его участков, находящихся в данном пространстве
объектов или свойств, состояний, пропорций и т. п. (самый наглядный пример
организации пространства — устройство садов; см.: Николаева 1975; Лихачев
1971, где разбирается перекличка между устройством сада литературного пер-
сонажа — Манилова — и реальным садом в Петергофе; Лихачев 1982а и 1982b;
Charageat 1978; Majdecki 1978). Неорганизованность понимается в свою очередь
как отсутствие упорядоченности (ср. противопоставление приусадебного про-
странства внеусадебному «лесу» в Старосветских помещиках). Организован-
ность во времени имеет вид календаря, циклической последовательности и по-
вторяемости, расписаний, распорядков и т. д. Ему противостоит сплошной,
нечленимый и непредсказуемый поток времени. Само собой разумеется, что не-
упорядоченностью (аморфностью) может считаться некая чужая (или отвергае-
мая) упорядоченность как пространства, так и времени — непризнавание чужого
календаря, членение недели на непривычное количество дней, праздников, рас-
писание и т. п. (ср.: Селешников 1977). При этом, конечно, шкала оценок может
резко меняться: упорядоченное пространство и календарное исчисление времени
могут пониматься как ложные, умерщвляющие и т. п., а стихийное пространство
и время — как истинные, созидательные и т. д. (ср. в Поэме без героя у Ахмато-
вой: «А по набережной легендарной Приближался не календарный — Настоя-
щий Двадцатый Век», хотя 'настоящесть' здесь ужасающая, но тем не менее это
«не календарное» исчисление более истинно; ср. еще резкое осуждение 'пере-
краивания' «дачниками» 'горы' в Поэме горы Цветаевой или губительный ха-
рактер измельчающей 'большое' «минуты» в стихотворении Цветаевой же Ми-
нута).
В организованном пространстве вычленяется целый ряд неравноценных па-
раметров: вертикаль и горизонталь; вертикаль вверх (высота) и вертикаль вниз
(глубина); горизонталь от (удаление) и горизонталь к (приближение); центр и
периферия; правое и левое; переднее и заднее; членение по сторонам света (их
роль в общекультурных моделях мира см. в: Иванов, Топоров 1965); взаимо-
включения или взаимоисключения, хотя бы типа «одно в другом», «одно на дру-
гом», «одно к другому» или «одно от другого», «одно с другим» или «одно без
другого» и т. д. (некоторые наблюдения об этих реляциях см. в: Седакова 1984).
Как правило, параметры типа «верх», «высота», «центр», «близь», «правая
сторона», «восток», «юг», «передняя сторона», «лицевая сторона» и др. чаще
всего становятся носителями ценностей положительных, а «низ», «глубина»,
«периферия», «даль», «левая сторона», «запад», «север», «задняя сторона», «из-
нанка» и т. п. нагружаются отрицательными смыслами и являют собой анти-
ценности. Естественно, что и эта шкала не абсолютна, что она всякий раз уста-
навливается в пределах конкретного произведения или творчества одного авто-
ра
79
и что «низ», например, может быть носителем наивысшей ценности, наи-
высшей нравственности, а «верх», наоборот, — безнравственности, разрушения
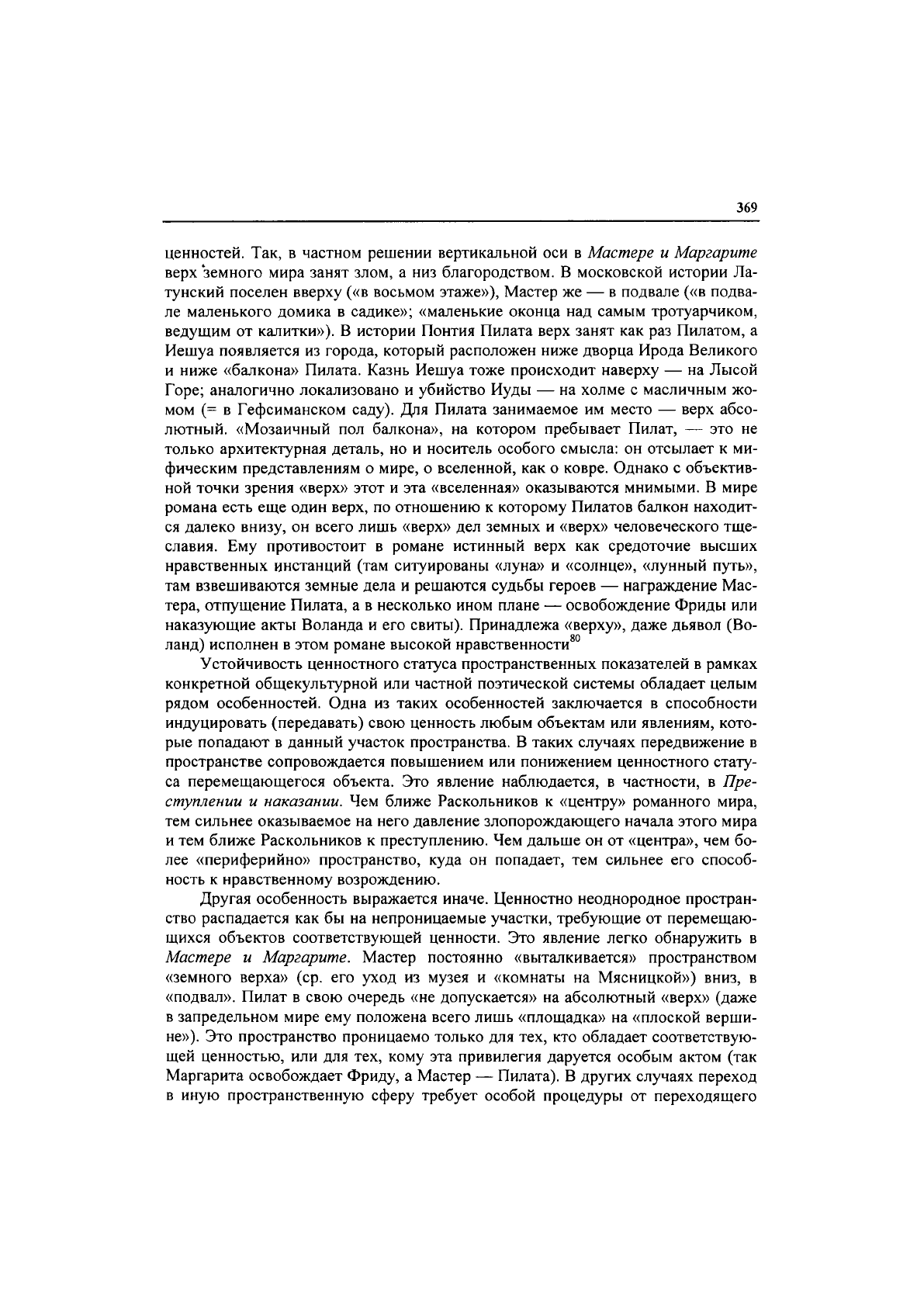
369
ценностей. Так, в частном решении вертикальной оси в Мастере и Маргарите
верх земного мира занят злом, а низ благородством. В московской истории Ла-
тунский поселен вверху («в восьмом этаже»), Мастер же — в подвале («в подва-
ле маленького домика в садике»; «маленькие оконца над самым тротуарчиком,
ведущим от калитки»). В истории Понтия Пилата верх занят как раз Пилатом, а
Иешуа появляется из города, который расположен ниже дворца Ирода Великого
и ниже «балкона» Пилата. Казнь Иешуа тоже происходит наверху — на Лысой
Горе; аналогично локализовано и убийство Иуды — на холме с масличным жо-
мом (= в Гефсиманском саду). Для Пилата занимаемое им место — верх абсо-
лютный. «Мозаичный пол балкона», на котором пребывает Пилат, — это не
только архитектурная деталь, но и носитель особого смысла: он отсылает к ми-
фическим представлениям о мире, о вселенной, как о ковре. Однако с объектив-
ной точки зрения «верх» этот и эта «вселенная» оказываются мнимыми. В мире
романа есть еще один верх, по отношению к которому Пилатов балкон находит-
ся далеко внизу, он всего лишь «верх» дел земных и «верх» человеческого тще-
славия. Ему противостоит в романе истинный верх как средоточие высших
нравственных инстанций (там ситуированы «луна» и «солнце», «лунный путь»,
там взвешиваются земные дела и решаются судьбы героев — награждение Мас-
тера, отпущение Пилата, а в несколько ином плане — освобождение Фриды или
наказующие акты Воланда и его свиты). Принадлежа «верху», даже дьявол (Во-
ланд) исполнен в этом романе высокой нравственности
80
Устойчивость ценностного статуса пространственных показателей в рамках
конкретной общекультурной или частной поэтической системы обладает целым
рядом особенностей. Одна из таких особенностей заключается в способности
индуцировать (передавать) свою ценность любым объектам или явлениям, кото-
рые попадают в данный участок пространства. В таких случаях передвижение в
пространстве сопровождается повышением или понижением ценностного стату-
са перемещающегося объекта. Это явление наблюдается, в частности, в Пре-
ступлении и наказании. Чем ближе Раскольников к «центру» романного мира,
тем сильнее оказываемое на него давление злопорождающего начала этого мира
и тем ближе Раскольников к преступлению. Чем дальше он от «центра», чем бо-
лее «периферийно» пространство, куда он попадает, тем сильнее его способ-
ность к нравственному возрождению.
Другая особенность выражается иначе. Ценностно неоднородное простран-
ство распадается как бы на непроницаемые участки, требующие от перемещаю-
щихся объектов соответствующей ценности. Это явление легко обнаружить в
Мастере и Маргарите. Мастер постоянно «выталкивается» пространством
«земного верха» (ср. его уход из музея и «комнаты на Мясницкой») вниз, в
«подвал». Пилат в свою очередь «не допускается» на абсолютный «верх» (даже
в запредельном мире ему положена всего лишь «площадка» на «плоской верши-
не»). Это пространство проницаемо только для тех, кто обладает соответствую-
щей ценностью, или для тех, кому эта привилегия даруется особым актом (так
Маргарита освобождает Фриду, а Мастер — Пилата). В других случаях переход
в иную пространственную сферу требует особой процедуры от переходящего
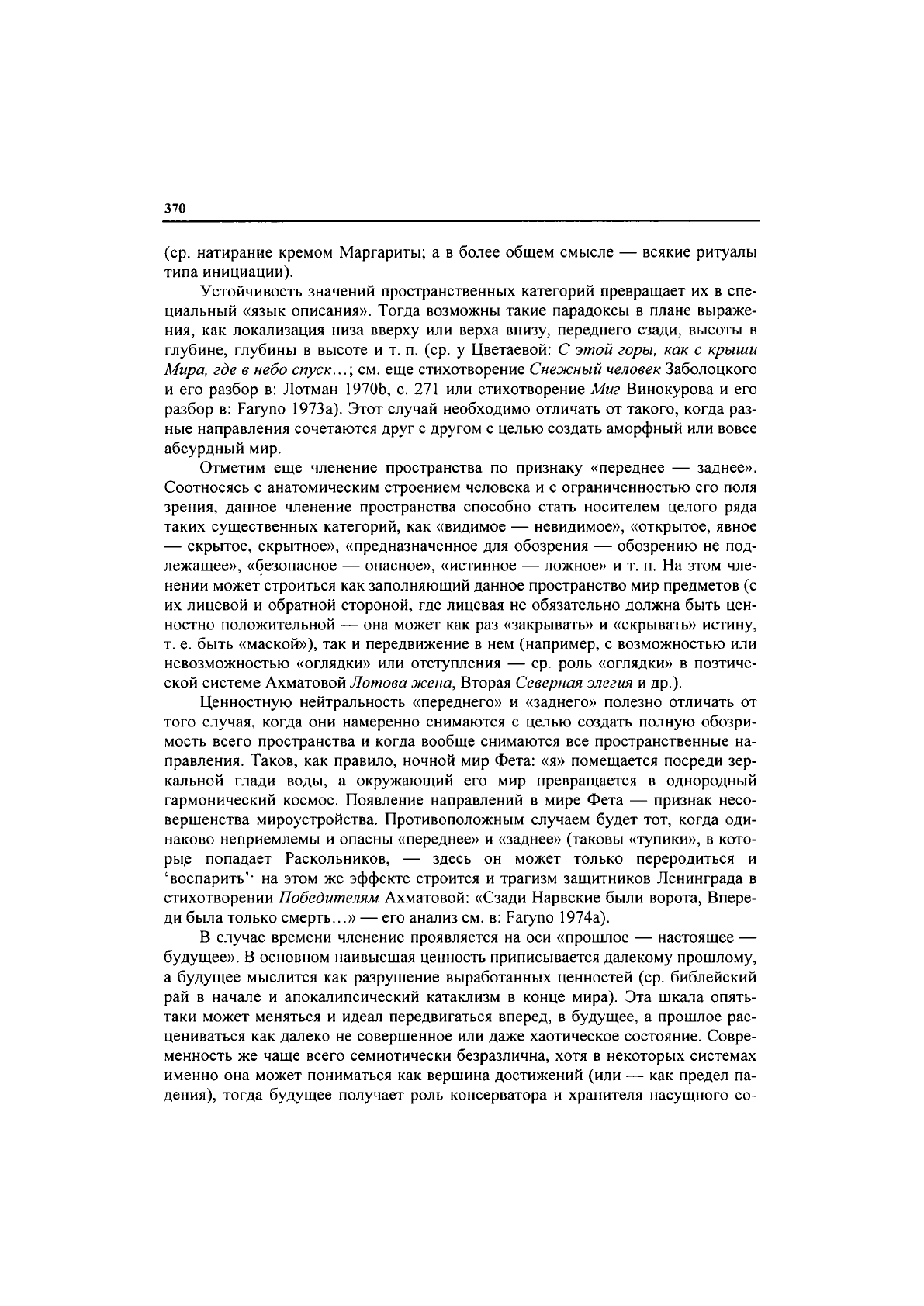
370
(ср. натирание кремом Маргариты; а в более общем смысле — всякие ритуалы
типа инициации).
Устойчивость значений пространственных категорий превращает их в спе-
циальный «язык описания». Тогда возможны такие парадоксы в плане выраже-
ния, как локализация низа вверху или верха внизу, переднего сзади, высоты в
глубине, глубины в высоте и т. п. (ср. у Цветаевой: С этой горы, как с крыши
Мира, где в небо спуск...; см. еще стихотворение Снежный человек Заболоцкого
и его разбор в: Лотман 1970b, с. 271 или стихотворение Миг Винокурова и его
разбор в: Faryno 1973а). Этот случай необходимо отличать от такого, когда раз-
ные направления сочетаются друг с другом с целью создать аморфный или вовсе
абсурдный мир.
Отметим еще членение пространства по признаку «переднее — заднее».
Соотносясь с анатомическим строением человека и с ограниченностью его поля
зрения, данное членение пространства способно стать носителем целого ряда
таких существенных категорий, как «видимое — невидимое», «открытое, явное
— скрытое, скрытное», «предназначенное для обозрения — обозрению не под-
лежащее», «безопасное — опасное», «истинное — ложное» и т. п. На этом чле-
нении может строиться как заполняющий данное пространство мир предметов (с
их лицевой и обратной стороной, где лицевая не обязательно должна быть цен-
ностно положительной — она может как раз «закрывать» и «скрывать» истину,
т. е. быть «маской»), так и передвижение в нем (например, с возможностью или
невозможностью «оглядки» или отступления — ср. роль «оглядки» в поэтиче-
ской системе Ахматовой Лотова жена, Вторая Северная элегия и др.).
Ценностную нейтральность «переднего» и «заднего» полезно отличать от
того случая, когда они намеренно снимаются с целью создать полную обозри-
мость всего пространства и когда вообще снимаются все пространственные на-
правления. Таков, как правило, ночной мир Фета: «я» помещается посреди зер-
кальной глади воды, а окружающий его мир превращается в однородный
гармонический космос. Появление направлений в мире Фета — признак несо-
вершенства мироустройства. Противоположным случаем будет тот, когда оди-
наково неприемлемы и опасны «переднее» и «заднее» (таковы «тупики», в кото-
рые попадает Раскольников, — здесь он может только переродиться и
'воспарить'
•
на этом же эффекте строится и трагизм защитников Ленинграда в
стихотворении Победителям Ахматовой: «Сзади Нарвские были ворота, Впере-
ди была только смерть...» — его анализ см. в: Faryno 1974а).
В случае времени членение проявляется на оси «прошлое — настоящее —
будущее». В основном наивысшая ценность приписывается далекому прошлому,
а будущее мыслится как разрушение выработанных ценностей (ср. библейский
рай в начале и апокалипсический катаклизм в конце мира). Эта шкала опять-
таки может меняться и идеал передвигаться вперед, в будущее, а прошлое рас-
цениваться как далеко не совершенное или даже хаотическое состояние. Совре-
менность же чаще всего семиотически безразлична, хотя в некоторых системах
именно она может пониматься как вершина достижений (или — как предел па-
дения), тогда будущее получает роль консерватора и хранителя насущного со-
