Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

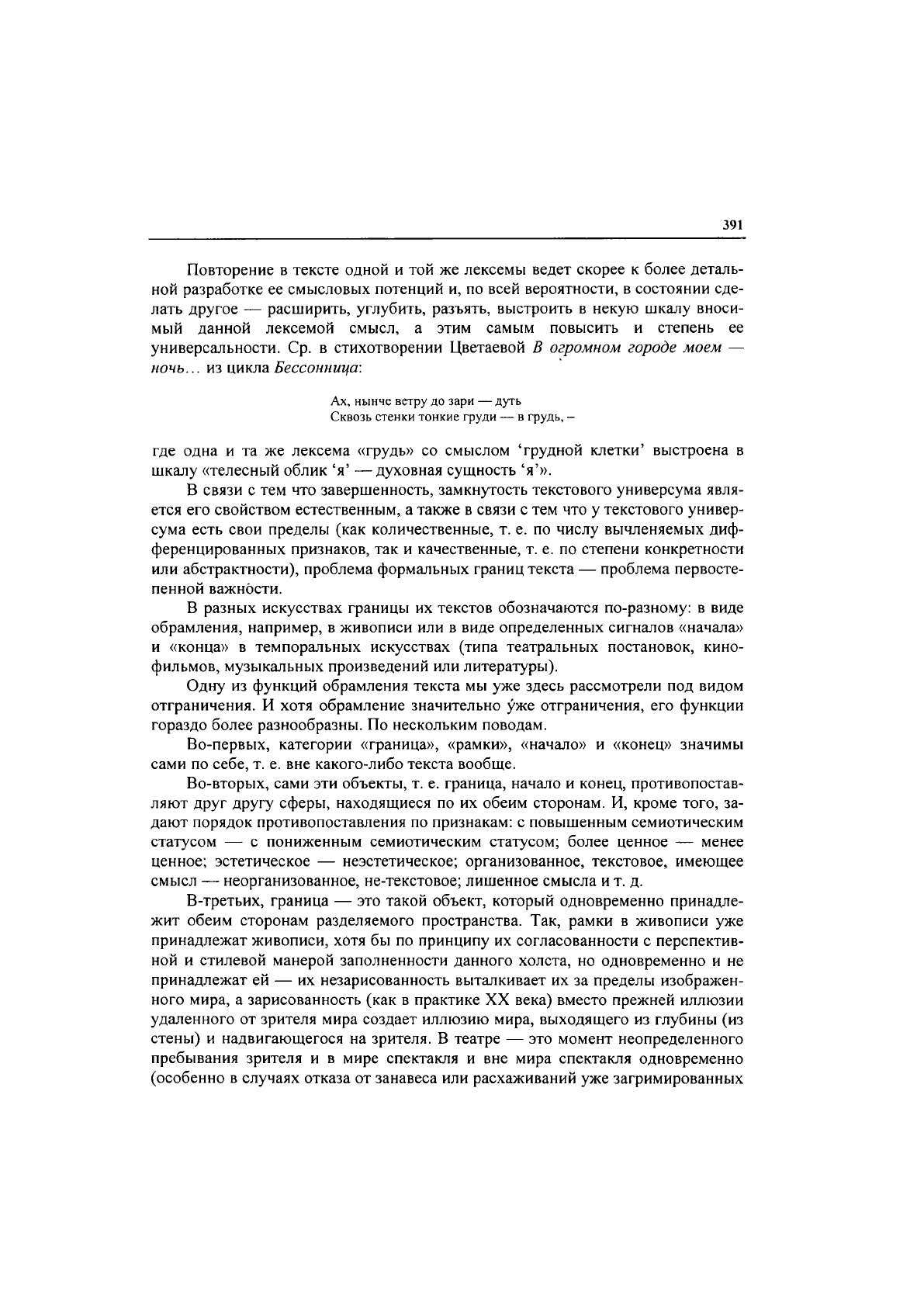
391
Повторение в тексте одной и той же лексемы ведет скорее к более деталь-
ной разработке ее смысловых потенций и, по всей вероятности, в состоянии сде-
лать другое — расширить, углубить, разъять, выстроить в некую шкалу вноси-
мый данной лексемой смысл, а этим самым повысить и степень ее
универсальности. Ср. в стихотворении Цветаевой В огромном городе моем —
ночь... из цикла Бессонница'.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь, -
где одна и та же лексема «грудь» со смыслом 'грудной клетки' выстроена в
шкалу «телесный облик 'я' —духовная сущность 'я'».
В связи с тем что завершенность, замкнутость текстового универсума явля-
ется его свойством естественным, а также в связи с тем что у текстового универ-
сума есть свои пределы (как количественные, т. е. по числу вычленяемых диф-
ференцированных признаков, так и качественные, т. е. по степени конкретности
или абстрактности), проблема формальных границ текста — проблема первосте-
пенной важности.
В разных искусствах границы их текстов обозначаются по-разному: в виде
обрамления, например, в живописи или в виде определенных сигналов «начала»
и «конца» в темпоральных искусствах (типа театральных постановок, кино-
фильмов, музыкальных произведений или литературы).
Одну из функций обрамления текста мы уже здесь рассмотрели под видом
отграничения. И хотя обрамление значительно уже отграничения, его функции
гораздо более разнообразны. По нескольким поводам.
Во-первых, категории «граница», «рамки», «начало» и «конец» значимы
сами по себе, т. е. вне какого-либо текста вообще.
Во-вторых, сами эти объекты, т. е. граница, начало и конец, противопостав-
ляют друг другу сферы, находящиеся по их обеим сторонам. И, кроме того, за-
дают порядок противопоставления по признакам: с повышенным семиотическим
статусом — с пониженным семиотическим статусом; более ценное — менее
ценное; эстетическое — неэстетическое; организованное, текстовое, имеющее
смысл — неорганизованное, не-текстовое; лишенное смысла и т. д.
В-третьих, граница — это такой объект, который одновременно принадле-
жит обеим сторонам разделяемого пространства. Так, рамки в живописи уже
принадлежат живописи, хотя бы по принципу их согласованности с перспектив-
ной и стилевой манерой заполненности данного холста, но одновременно и не
принадлежат ей — их незарисованность выталкивает их за пределы изображен-
ного мира, а зарисованность (как в практике XX века) вместо прежней иллюзии
удаленного от зрителя мира создает иллюзию мира, выходящего из глубины (из
стены) и надвигающегося на зрителя. В театре — это момент неопределенного
пребывания зрителя и в мире спектакля и вне мира спектакля одновременно
(особенно в случаях отказа от занавеса или расхаживаний уже загримированных
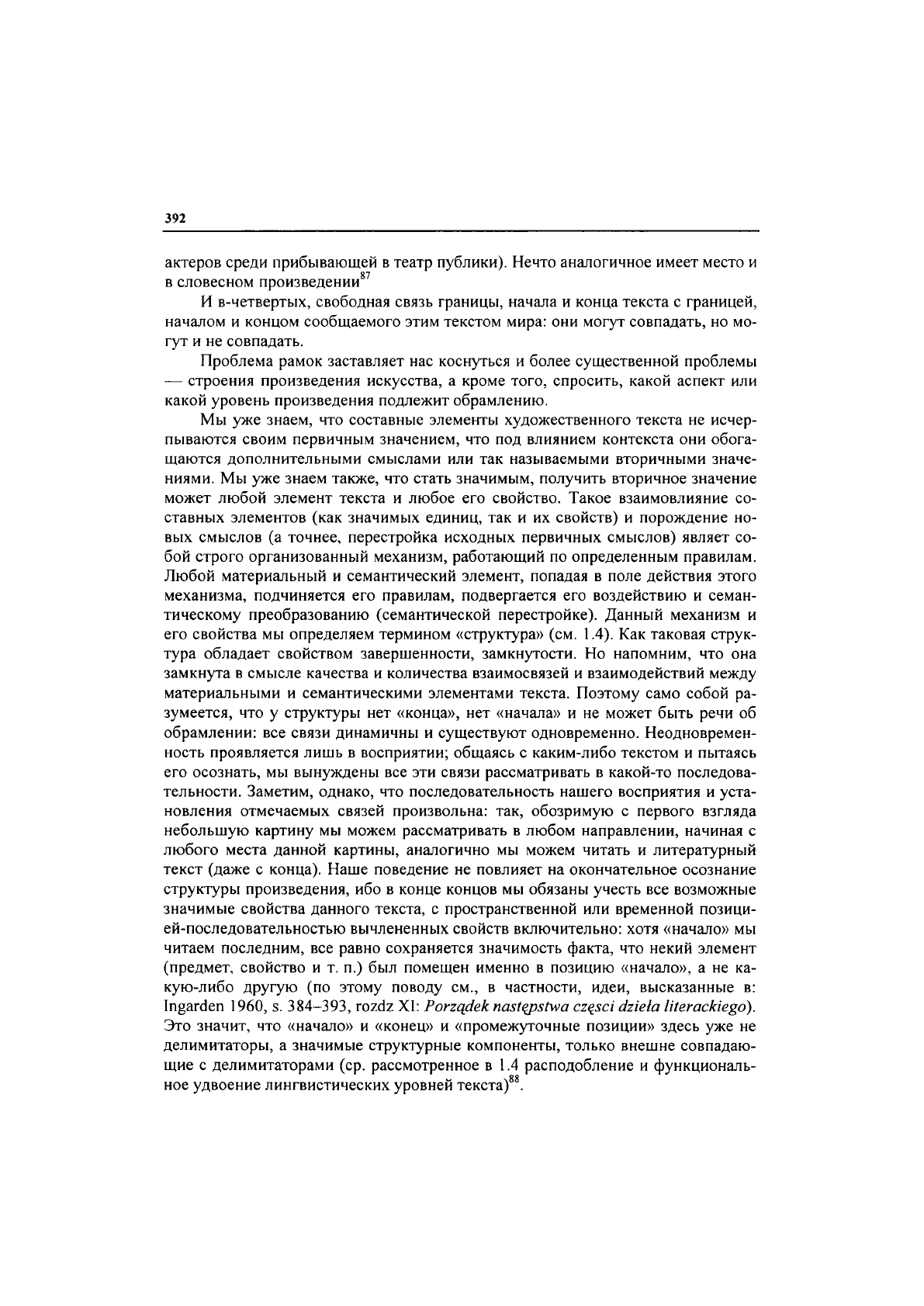
392
актеров среди прибывающей в театр публики). Нечто аналогичное имеет место и
в словесном произведении
87
И в-четвертых, свободная связь границы, начала и конца текста с границей,
началом и концом сообщаемого этим текстом мира: они могут совпадать, но мо-
гут и не совпадать.
Проблема рамок заставляет нас коснуться и более существенной проблемы
— строения произведения искусства, а кроме того, спросить, какой аспект или
какой уровень произведения подлежит обрамлению.
Мы уже знаем, что составные элементы художественного текста не исчер-
пываются своим первичным значением, что под влиянием контекста они обога-
щаются дополнительными смыслами или так называемыми вторичными значе-
ниями. Мы уже знаем также, что стать значимым, получить вторичное значение
может любой элемент текста и любое его свойство. Такое взаимовлияние со-
ставных элементов (как значимых единиц, так и их свойств) и порождение но-
вых смыслов (а точнее, перестройка исходных первичных смыслов) являет со-
бой строго организованный механизм, работающий по определенным правилам.
Любой материальный и семантический элемент, попадая в поле действия этого
механизма, подчиняется его правилам, подвергается его воздействию и семан-
тическому преобразованию (семантической перестройке). Данный механизм и
его свойства мы определяем термином «структура» (см. 1.4). Как таковая струк-
тура обладает свойством завершенности, замкнутости. Но напомним, что она
замкнута в смысле качества и количества взаимосвязей и взаимодействий между
материальными и семантическими элементами текста. Поэтому само собой ра-
зумеется, что у структуры нет «конца», нет «начала» и не может быть речи об
обрамлении: все связи динамичны и существуют одновременно. Неодновремен-
ность проявляется лишь в восприятии; общаясь с каким-либо текстом и пытаясь
его осознать, мы вынуждены все эти связи рассматривать в какой-то последова-
тельности. Заметим, однако, что последовательность нашего восприятия и уста-
новления отмечаемых связей произвольна: так, обозримую с первого взгляда
небольшую картину мы можем рассматривать в любом направлении, начиная с
любого места данной картины, аналогично мы можем читать и литературный
текст (даже с конца). Наше поведение не повлияет на окончательное осознание
структуры произведения, ибо в конце концов мы обязаны учесть все возможные
значимые свойства данного текста, с пространственной или временной позици-
ей-последовательностью вычлененных свойств включительно: хотя «начало» мы
читаем последним, все равно сохраняется значимость факта, что некий элемент
(предмет, свойство и т. п.) был помещен именно в позицию «начало», а не ка-
кую-либо другую (по этому поводу см., в частности, идеи, высказанные в:
Ingarden 1960, s. 384-393, rozdz XI: Porządek następstwa części dzieła literackiego).
Это значит, что «начало» и «конец» и «промежуточные позиции» здесь уже не
делимитаторы, а значимые структурные компоненты, только внешне совпадаю-
щие с делимитаторами (ср. рассмотренное в 1.4 расподобление и функциональ-
ное удвоение лингвистических уровней текста)
88
.
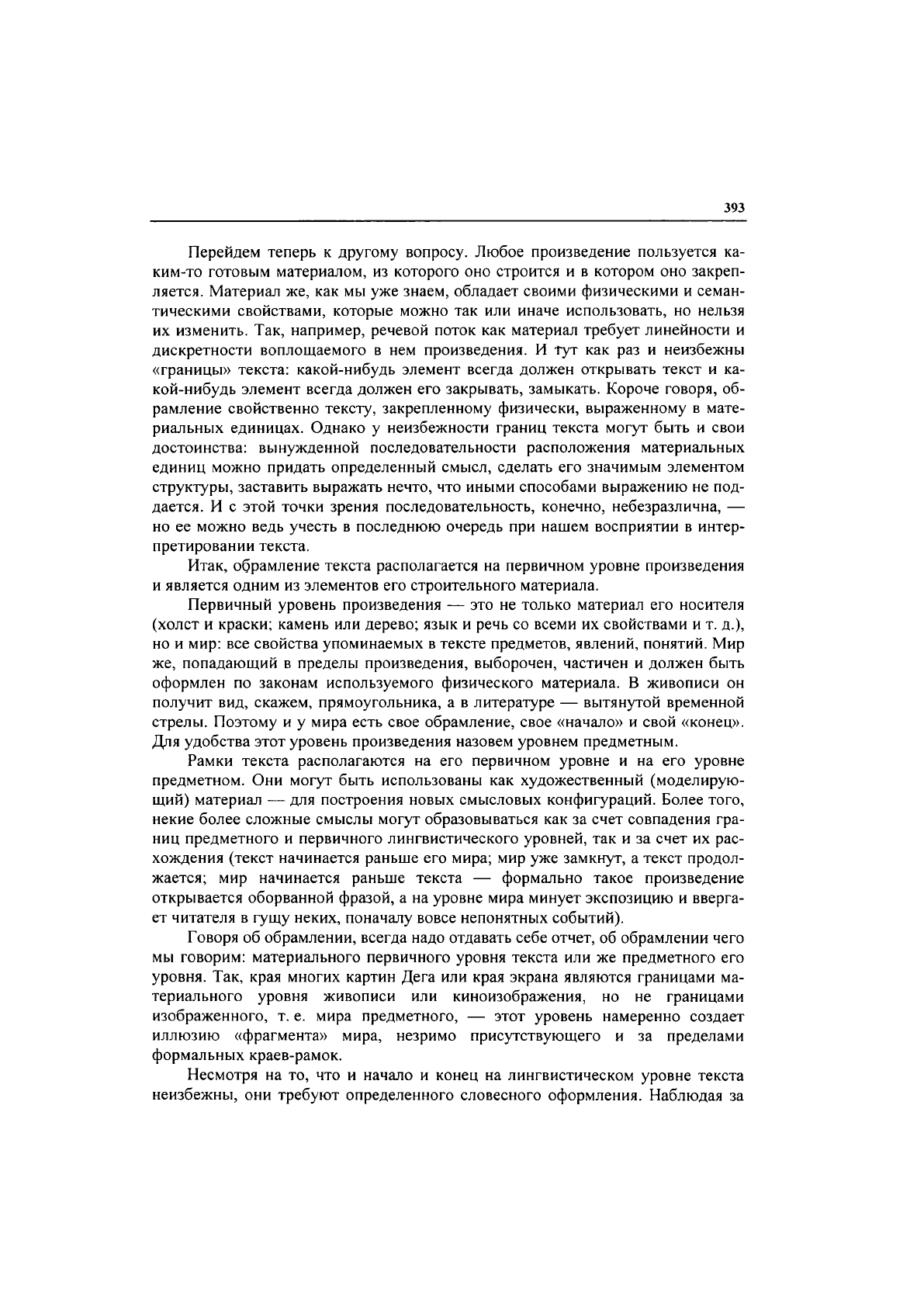
393
Перейдем теперь к другому вопросу. Любое произведение пользуется ка-
ким-то готовым материалом, из которого оно строится и в котором оно закреп-
ляется. Материал же, как мы уже знаем, обладает своими физическими и семан-
тическими свойствами, которые можно так или иначе использовать, но нельзя
их изменить. Так, например, речевой поток как материал требует линейности и
дискретности воплощаемого в нем произведения. И Тут как раз и неизбежны
«границы» текста: какой-нибудь элемент всегда должен открывать текст и ка-
кой-нибудь элемент всегда должен его закрывать, замыкать. Короче говоря, об-
рамление свойственно тексту, закрепленному физически, выраженному в мате-
риальных единицах. Однако у неизбежности границ текста могут быть и свои
достоинства: вынужденной последовательности расположения материальных
единиц можно придать определенный смысл, сделать его значимым элементом
структуры, заставить выражать нечто, что иными способами выражению не под-
дается. И с этой точки зрения последовательность, конечно, небезразлична, —
но ее можно ведь учесть в последнюю очередь при нашем восприятии в интер-
претировании текста.
Итак, обрамление текста располагается на первичном уровне произведения
и является одним из элементов его строительного материала.
Первичный уровень произведения — это не только материал его носителя
(холст и краски; камень или дерево; язык и речь со всеми их свойствами и т. д.),
но и мир: все свойства упоминаемых в тексте предметов, явлений, понятий. Мир
же, попадающий в пределы произведения, выборочен, частичен и должен быть
оформлен по законам используемого физического материала. В живописи он
получит вид, скажем, прямоугольника, а в литературе — вытянутой временной
стрелы. Поэтому и у мира есть свое обрамление, свое «начало» и свой «конец».
Для удобства этот уровень произведения назовем уровнем предметным.
Рамки текста располагаются на его первичном уровне и на его уровне
предметном. Они могут быть использованы как художественный (моделирую-
щий) материал — для построения новых смысловых конфигураций. Более того,
некие более сложные смыслы могут образовываться как за счет совпадения гра-
ниц предметного и первичного лингвистического уровней, так и за счет их рас-
хождения (текст начинается раньше его мира; мир уже замкнут, а текст продол-
жается; мир начинается раньше текста — формально такое произведение
открывается оборванной фразой, а на уровне мира минует экспозицию и вверга-
ет читателя в гущу неких, поначалу вовсе непонятных событий).
Говоря об обрамлении, всегда надо отдавать себе отчет, об обрамлении чего
мы говорим: материального первичного уровня текста или же предметного его
уровня. Так, края многих картин Дега или края экрана являются границами ма-
териального уровня живописи или киноизображения, но не границами
изображенного, т. е. мира предметного, — этот уровень намеренно создает
иллюзию «фрагмента» мира, незримо присутствующего и за пределами
формальных краев-рамок.
Несмотря на то, что и начало и конец на лингвистическом уровне текста
неизбежны, они требуют определенного словесного оформления. Наблюдая за
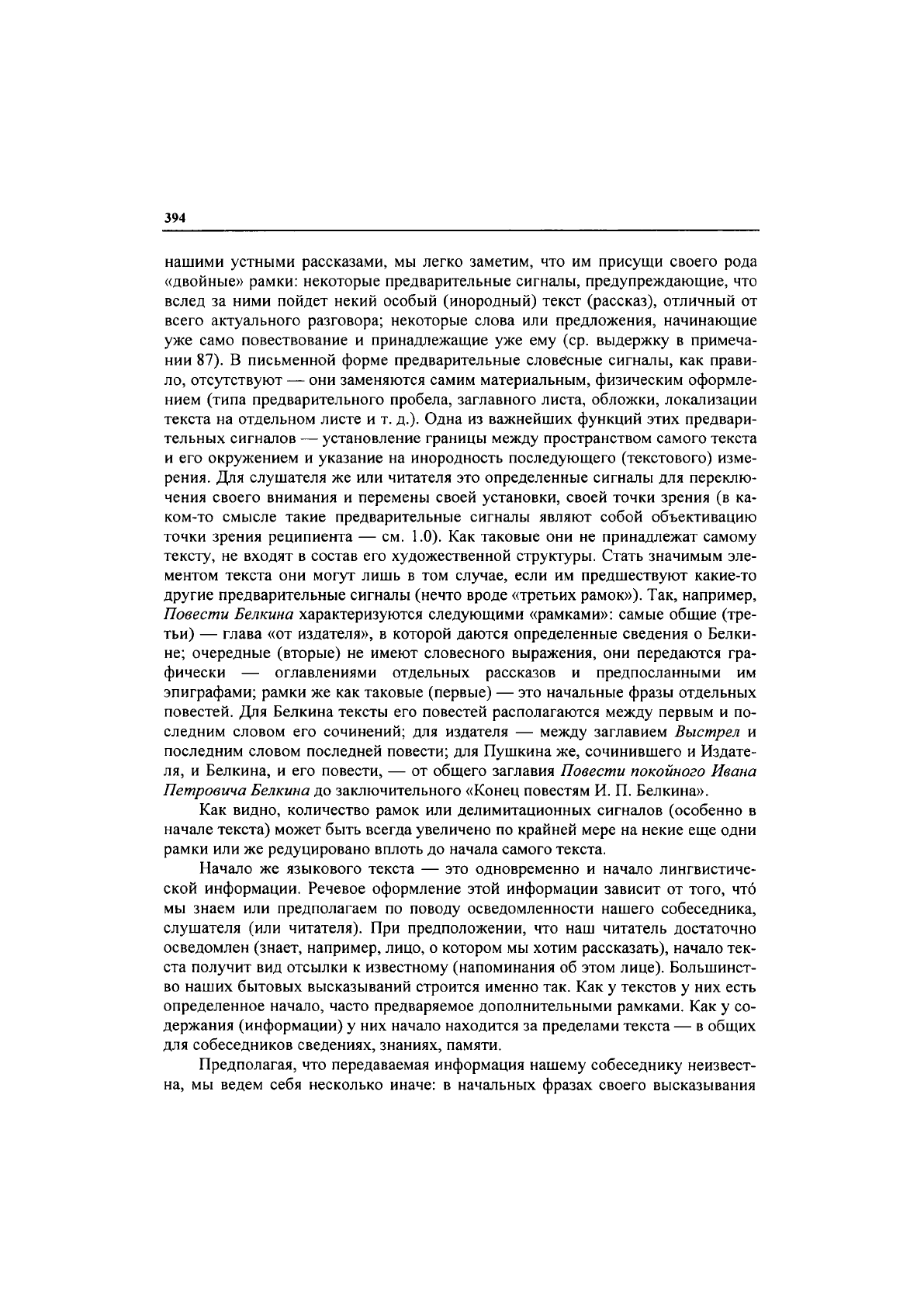
394
нашими устными рассказами, мы легко заметим, что им присущи своего рода
«двойные» рамки: некоторые предварительные сигналы, предупреждающие, что
вслед за ними пойдет некий особый (инородный) текст (рассказ), отличный от
всего актуального разговора; некоторые слова или предложения, начинающие
уже само повествование и принадлежащие уже ему (ср. выдержку в примеча-
нии 87). В письменной форме предварительные словесные сигналы, как прави-
ло, отсутствуют — они заменяются самим материальным, физическим оформле-
нием (типа предварительного пробела, заглавного листа, обложки, локализации
текста на отдельном листе и т. д.). Одна из важнейших функций этих предвари-
тельных сигналов — установление границы между пространством самого текста
и его окружением и указание на инородность последующего (текстового) изме-
рения. Для слушателя же или читателя это определенные сигналы для переклю-
чения своего внимания и перемены своей установки, своей точки зрения (в ка-
ком-то смысле такие предварительные сигналы являют собой объективацию
точки зрения реципиента — см. 1.0). Как таковые они не принадлежат самому
тексту, не входят в состав его художественной структуры. Стать значимым эле-
ментом текста они могут лишь в том случае, если им предшествуют какие-то
другие предварительные сигналы (нечто вроде «третьих рамок»). Так, например,
Повести Белкина характеризуются следующими «рамками»: самые общие (тре-
тьи) — глава «от издателя», в которой даются определенные сведения о Белки-
не; очередные (вторые) не имеют словесного выражения, они передаются гра-
фически — оглавлениями отдельных рассказов и предпосланными им
эпиграфами; рамки же как таковые (первые) — это начальные фразы отдельных
повестей. Для Белкина тексты его повестей располагаются между первым и по-
следним словом его сочинений; для издателя — между заглавием Выстрел и
последним словом последней повести; для Пушкина же, сочинившего и Издате-
ля, и Белкина, и его повести, — от общего заглавия Повести покойного Ивана
Петровича Белкина до заключительного «Конец повестям И. П. Белкина».
Как видно, количество рамок или делимитационных сигналов (особенно в
начале текста) может быть всегда увеличено по крайней мере на некие еще одни
рамки или же редуцировано вплоть до начала самого текста.
Начало же языкового текста — это одновременно и начало лингвистиче-
ской информации. Речевое оформление этой информации зависит от того, что
мы знаем или предполагаем по поводу осведомленности нашего собеседника,
слушателя (или читателя). При предположении, что наш читатель достаточно
осведомлен (знает, например, лицо, о котором мы хотим рассказать), начало тек-
ста получит вид отсылки к известному (напоминания об этом лице). Большинст-
во наших бытовых высказываний строится именно так. Как у текстов у них есть
определенное начало, часто предваряемое дополнительными рамками. Как у со-
держания (информации) у них начало находится за пределами текста — в общих
для собеседников сведениях, знаниях, памяти.
Предполагая, что передаваемая информация нашему собеседнику неизвест-
на, мы ведем себя несколько иначе: в начальных фразах своего высказывания
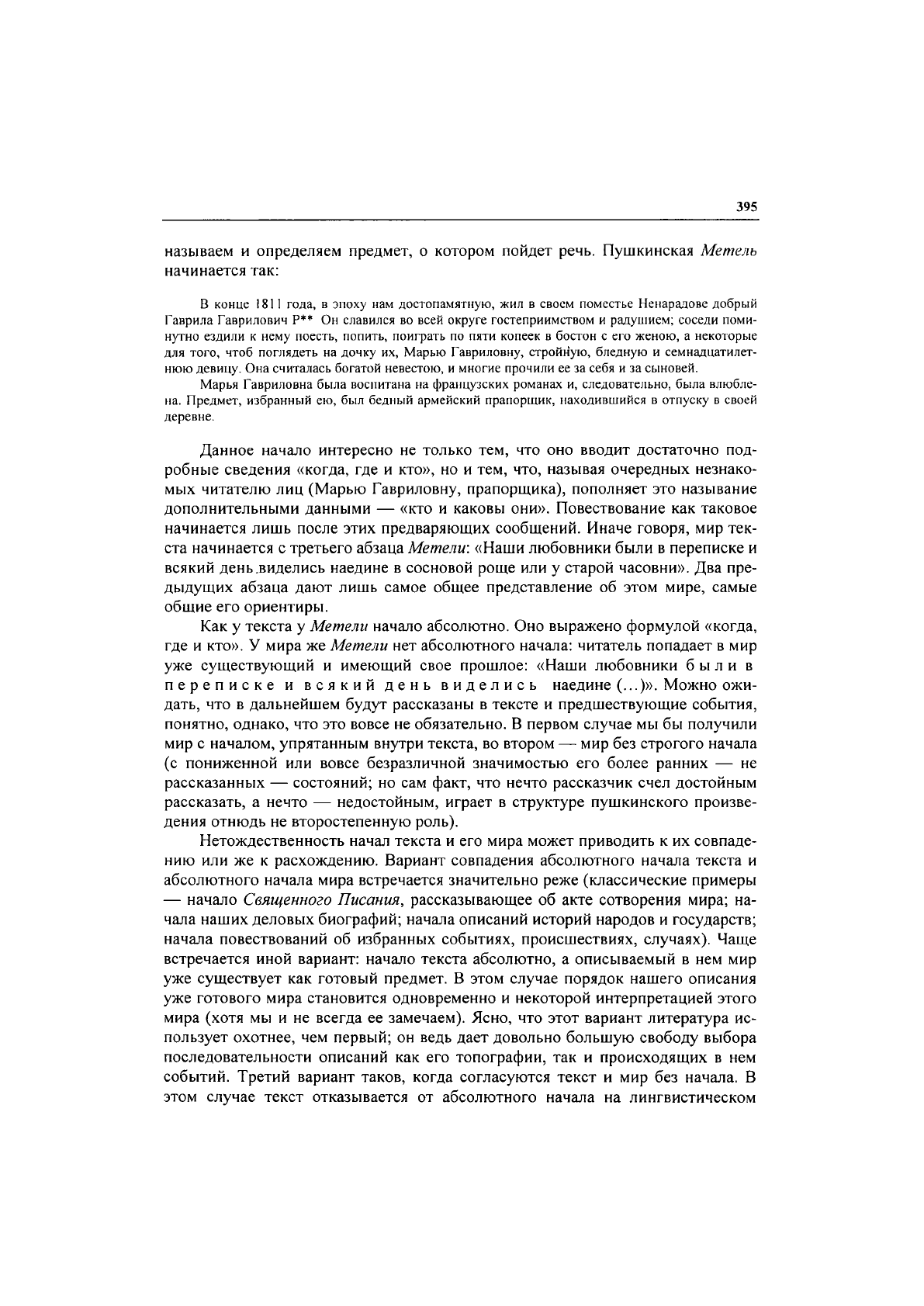
395
называем и определяем предмет, о котором пойдет речь. Пушкинская Метель
начинается так:
В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый
Гаврила Гаврилович Р** Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поми-
нутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые
для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилет-
нюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя и за сыновей.
Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюбле-
на. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей
деревне.
Данное начало интересно не только тем, что оно вводит достаточно под-
робные сведения «когда, где и кто», но и тем, что, называя очередных незнако-
мых читателю лиц (Марью Гавриловну, прапорщика), пополняет это называние
дополнительными данными — «кто и каковы они». Повествование как таковое
начинается лишь после этих предваряющих сообщений. Иначе говоря, мир тек-
ста начинается с третьего абзаца Метели: «Наши любовники были в переписке и
всякий день.виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни». Два пре-
дыдущих абзаца дают лишь самое общее представление об этом мире, самые
общие его ориентиры.
Как у текста у Метели начало абсолютно. Оно выражено формулой «когда,
где и кто». У мира же Метели нет абсолютного начала: читатель попадает в мир
уже существующий и имеющий свое прошлое: «Наши любовники были в
переписке и всякий день виделись наедине (...)». Можно ожи-
дать, что в дальнейшем будут рассказаны в тексте и предшествующие события,
понятно, однако, что это вовсе не обязательно. В первом случае мы бы получили
мир с началом, упрятанным внутри текста, во втором — мир без строгого начала
(с пониженной или вовсе безразличной значимостью его более ранних — не
рассказанных — состояний; но сам факт, что нечто рассказчик счел достойным
рассказать, а нечто — недостойным, играет в структуре пушкинского произве-
дения отнюдь не второстепенную роль).
Нетождественность начал текста и его мира может приводить к их совпаде-
нию или же к расхождению. Вариант совпадения абсолютного начала текста и
абсолютного начала мира встречается значительно реже (классические примеры
— начало Свяіценного Писания, рассказывающее об акте сотворения мира; на-
чала наших деловых биографий; начала описаний историй народов и государств;
начала повествований об избранных событиях, происшествиях, случаях). Чаще
встречается иной вариант: начало текста абсолютно, а описываемый в нем мир
уже существует как готовый предмет. В этом случае порядок нашего описания
уже готового мира становится одновременно и некоторой интерпретацией этого
мира (хотя мы и не всегда ее замечаем). Ясно, что этот вариант литература ис-
пользует охотнее, чем первый; он ведь дает довольно большую свободу выбора
последовательности описаний как его топографии, так и происходящих в нем
событий. Третий вариант таков, когда согласуются текст и мир без начала. В
этом случае текст отказывается от абсолютного начала на лингвистическом
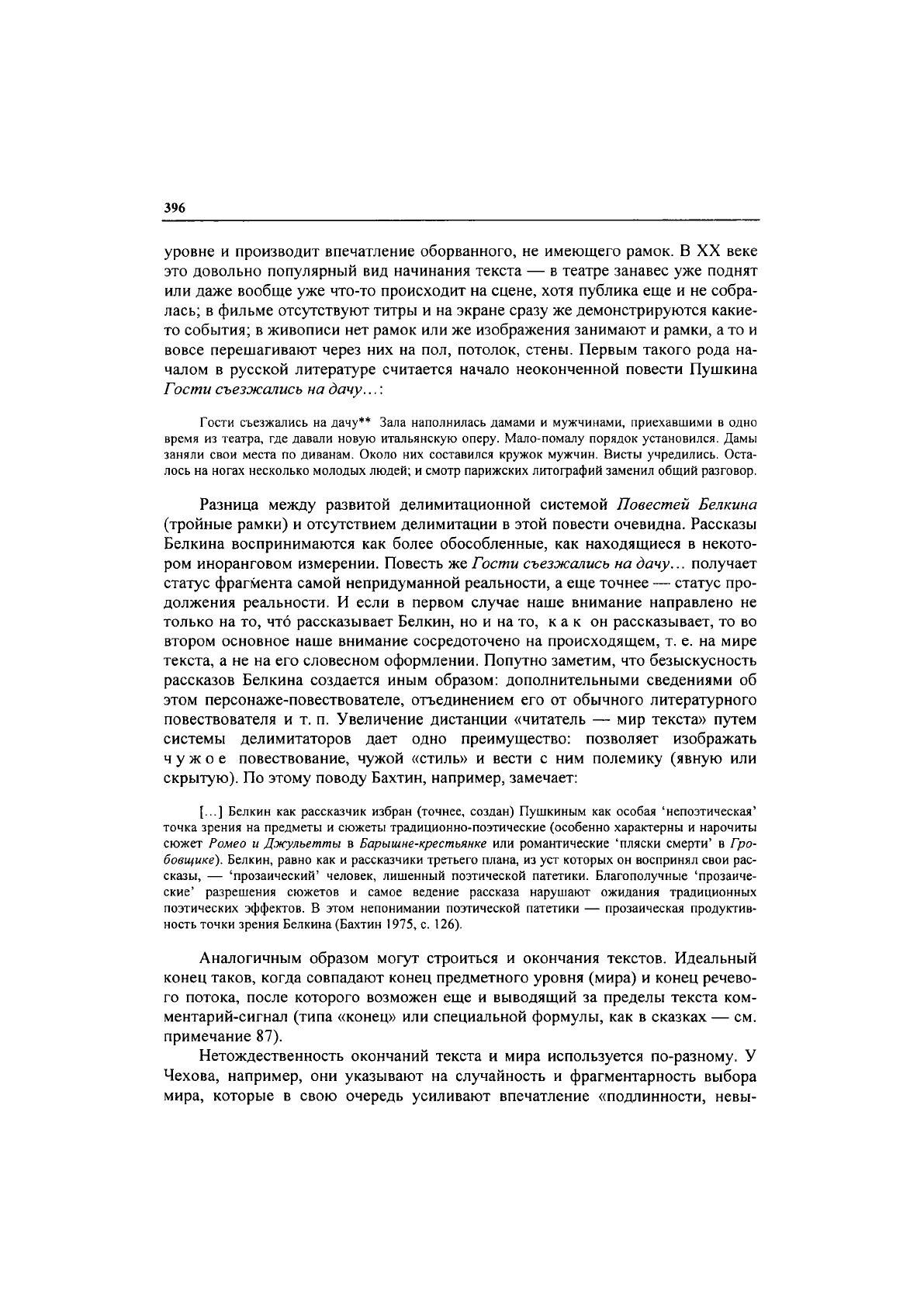
396
уровне и производит впечатление оборванного, не имеющего рамок. В XX веке
это довольно популярный вид начинания текста — в театре занавес уже поднят
или даже вообще уже что-то происходит на сцене, хотя публика еще и не собра-
лась; в фильме отсутствуют титры и на экране сразу же демонстрируются какие-
то события; в живописи нет рамок или же изображения занимают и рамки, а то и
вовсе перешагивают через них на пол, потолок, стены. Первым такого рода на-
чалом в русской литературе считается начало неоконченной повести Пушкина
Гости съезжались на дачу...:
Гости съезжались на дачу** Зала наполнилась дамами и мужчинами, приехавшими в одно
время из театра, где давали новую итальянскую оперу. Мало-помалу порядок установился. Дамы
заняли свои места по диванам. Около них составился кружок мужчин. Висты учредились. Оста-
лось на ногах несколько молодых людей; и смотр парижских литографий заменил общий разговор.
Разница между развитой делимитационной системой Повестей Белкина
(тройные рамки) и отсутствием делимитации в этой повести очевидна. Рассказы
Белкина воспринимаются как более обособленные, как находящиеся в некото-
ром иноранговом измерении. Повесть же Гости съезжались на дачу... получает
статус фрагмента самой непридуманной реальности, а еще точнее — статус про-
должения реальности. И если в первом случае наше внимание направлено не
только на то, что рассказывает Белкин, но и на то, к а к он рассказывает, то во
втором основное наше внимание сосредоточено на происходящем, т. е. на мире
текста, а не на его словесном оформлении. Попутно заметим, что безыскусность
рассказов Белкина создается иным образом: дополнительными сведениями об
этом персонаже-повествователе, отъединением его от обычного литературного
повествователя и т. п. Увеличение дистанции «читатель — мир текста» путем
системы делимитаторов дает одно преимущество: позволяет изображать
чужое повествование, чужой «стиль» и вести с ним полемику (явную или
скрытую). По этому поводу Бахтин, например, замечает:
[...] Белкин как рассказчик избран (точнее, создан) Пушкиным как особая 'непоэтическая'
точка зрения на предметы и сюжеты традиционно-поэтические (особенно характерны и нарочиты
сюжет Ромео и Джульетты в Барышне-крестьянке или романтические 'пляски смерти' в Гро-
бовщике). Белкин, равно как и рассказчики третьего плана, из уст которых он воспринял свои рас-
сказы, — 'прозаический' человек, лишенный поэтической патетики. Благополучные 'прозаиче-
ские' разрешения сюжетов и самое ведение рассказа нарушают ожидания традиционных
поэтических эффектов. В этом непонимании поэтической патетики — прозаическая продуктив-
ность точки зрения Белкина (Бахтин 1975, с. 126).
Аналогичным образом могут строиться и окончания текстов. Идеальный
конец таков, когда совпадают конец предметного уровня (мира) и конец речево-
го потока, после которого возможен еще и выводящий за пределы текста ком-
ментарий-сигнал (типа «конец» или специальной формулы, как в сказках — см.
примечание 87).
Нетождественность окончаний текста и мира используется по-разному. У
Чехова, например, они указывают на случайность и фрагментарность выбора
мира, которые в свою очередь усиливают впечатление «подлинности, невы-
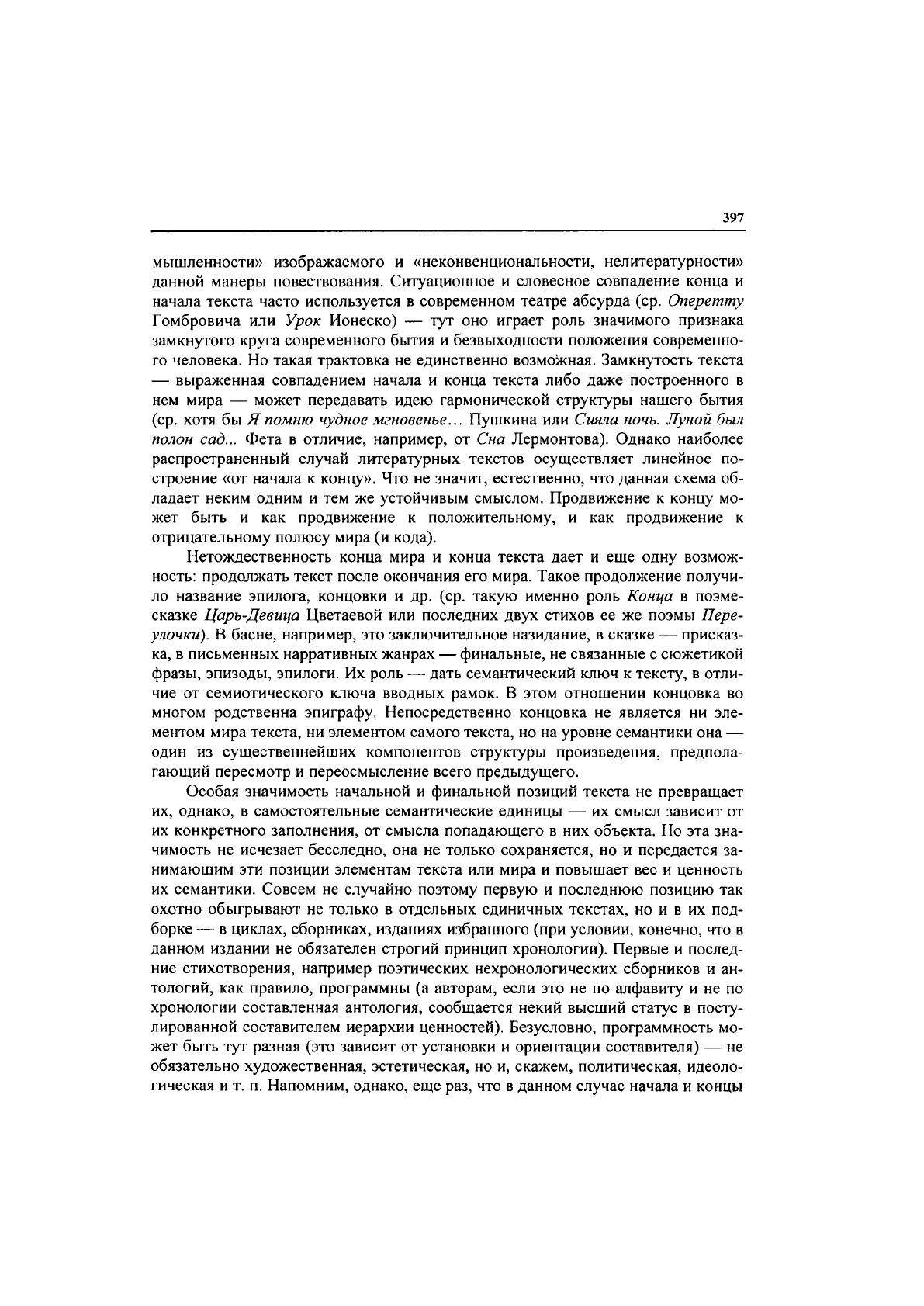
397
мышленности» изображаемого и «неконвенциональности, нелитературности»
данной манеры повествования. Ситуационное и словесное совпадение конца и
начала текста часто используется в современном театре абсурда (ср. Оперетту
Гомбровича или Урок Ионеско) — тут оно играет роль значимого признака
замкнутого круга современного бытия и безвыходности положения современно-
го человека. Но такая трактовка не единственно возможная. Замкнутость текста
— выраженная совпадением начала и конца текста либо даже построенного в
нем мира — может передавать идею гармонической структуры нашего бытия
(ср. хотя бы Я помню чудное мгновенье... Пушкина или Сияла ночь. Луной был
полон сад... Фета в отличие, например, от Сна Лермонтова). Однако наиболее
распространенный случай литературных текстов осуществляет линейное по-
строение «от начала к концу». Что не значит, естественно, что данная схема об-
ладает неким одним и тем же устойчивым смыслом. Продвижение к концу мо-
жет быть и как продвижение к положительному, и как продвижение к
отрицательному полюсу мира (и кода).
Нетождественность конца мира и конца текста дает и еще одну возмож-
ность: продолжать текст после окончания его мира. Такое продолжение получи-
ло название эпилога, концовки и др. (ср. такую именно роль Конца в поэме-
сказке Царь-Девица Цветаевой или последних двух стихов ее же поэмы Пере-
улочки). В басне, например, это заключительное назидание, в сказке — присказ-
ка, в письменных нарративных жанрах — финальные, не связанные с сюжетикой
фразы, эпизоды, эпилоги. Их роль — дать семантический ключ к тексту, в отли-
чие от семиотического ключа вводных рамок. В этом отношении концовка во
многом родственна эпиграфу. Непосредственно концовка не является ни эле-
ментом мира текста, ни элементом самого текста, но на уровне семантики она —
один из существеннейших компонентов структуры произведения, предпола-
гающий пересмотр и переосмысление всего предыдущего.
Особая значимость начальной и финальной позиций текста не превращает
их, однако, в самостоятельные семантические единицы — их смысл зависит от
их конкретного заполнения, от смысла попадающего в них объекта. Но эта зна-
чимость не исчезает бесследно, она не только сохраняется, но и передается за-
нимающим эти позиции элементам текста или мира и повышает вес и ценность
их семантики. Совсем не случайно поэтому первую и последнюю позицию так
охотно обыгрывают не только в отдельных единичных текстах, но и в их под-
борке — в циклах, сборниках, изданиях избранного (при условии, конечно, что в
данном издании не обязателен строгий принцип хронологии). Первые и послед-
ние стихотворения, например поэтических нехронологических сборников и ан-
тологий, как правило, программны (а авторам, если это не по алфавиту и не по
хронологии составленная антология, сообщается некий высший статус в посту-
лированной составителем иерархии ценностей). Безусловно, программность мо-
жет быть тут разная (это зависит от установки и ориентации составителя) — не
обязательно художественная, эстетическая, но и, скажем, политическая, идеоло-
гическая и т. п. Напомним, однако, еще раз, что в данном случае начала и концы
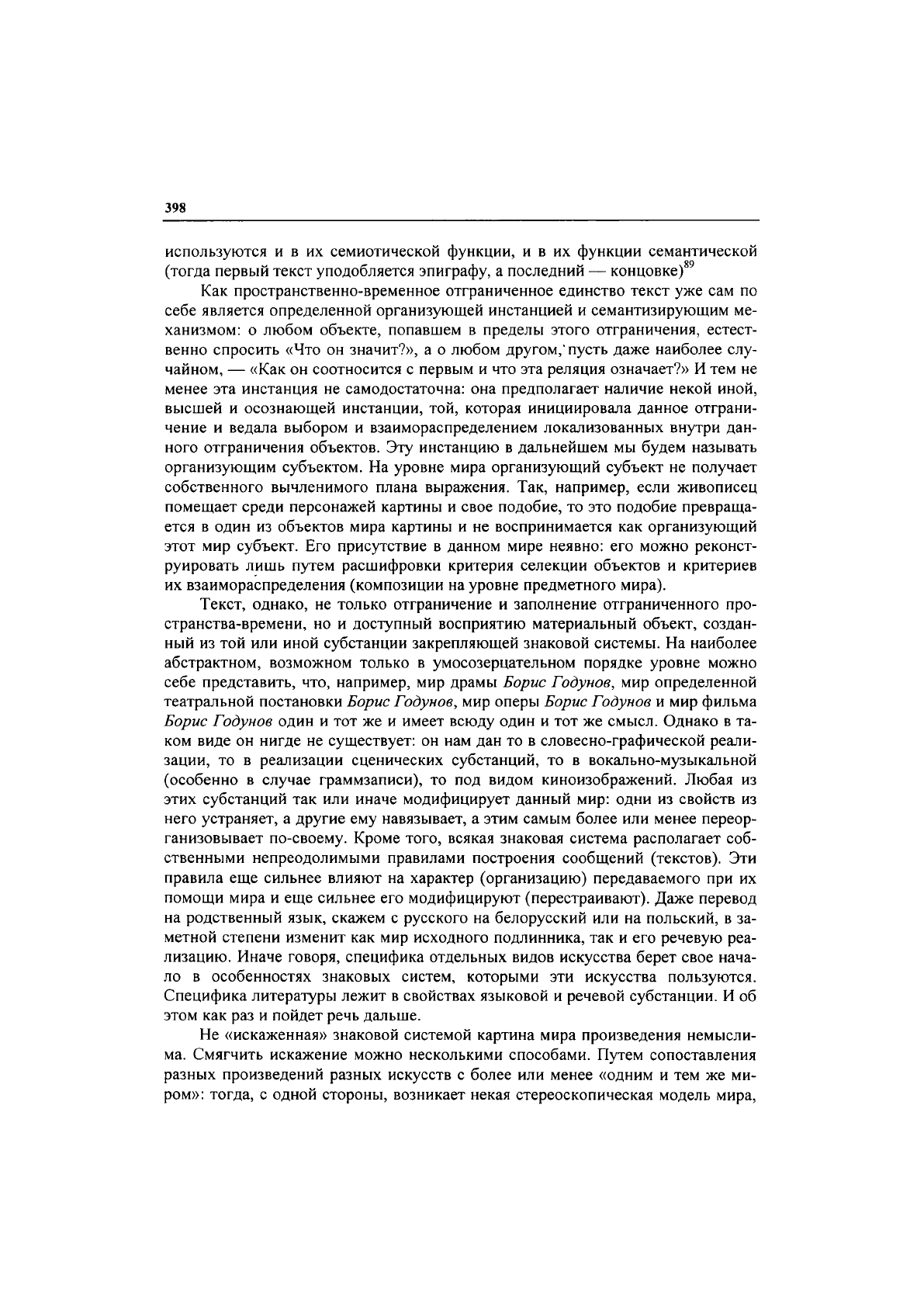
398
используются и в их семиотической функции, и в их функции семантической
(тогда первый текст уподобляется эпиграфу, а последний — концовке)
89
Как пространственно-временное отграниченное единство текст уже сам по
себе является определенной организующей инстанцией и семантизирующим ме-
ханизмом: о любом объекте, попавшем в пределы этого отграничения, естест-
венно спросить «Что он значит?», а о любом другом,'пусть даже наиболее слу-
чайном, — «Как он соотносится с первым и что эта реляция означает?» И тем не
менее эта инстанция не самодостаточна: она предполагает наличие некой иной,
высшей и осознающей инстанции, той, которая инициировала данное отграни-
чение и ведала выбором и взаимораспределением локализованных внутри дан-
ного отграничения объектов. Эту инстанцию в дальнейшем мы будем называть
организующим субъектом. На уровне мира организующий субъект не получает
собственного вычленимого плана выражения. Так, например, если живописец
помещает среди персонажей картины и свое подобие, то это подобие превраща-
ется в один из объектов мира картины и не воспринимается как организующий
этот мир субъект. Его присутствие в данном мире неявно: его можно реконст-
руировать лишь путем расшифровки критерия селекции объектов и критериев
их взаимораспределения (композиции на уровне предметного мира).
Текст, однако, не только отграничение и заполнение отграниченного про-
странства-времени, но и доступный восприятию материальный объект, создан-
ный из той или иной субстанции закрепляющей знаковой системы. На наиболее
абстрактном, возможном только в умосозерцательном порядке уровне можно
себе представить, что, например, мир драмы Борис Годунов, мир определенной
театральной постановки Борис Годунов, мир оперы Борис Годунов и мир фильма
Борис Годунов один и тот же и имеет всюду один и тот же смысл. Однако в та-
ком виде он нигде не существует: он нам дан то в словесно-графической реали-
зации, то в реализации сценических субстанций, то в вокально-музыкальной
(особенно в случае граммзаписи), то под видом киноизображений. Любая из
этих субстанций так или иначе модифицирует данный мир: одни из свойств из
него устраняет, а другие ему навязывает, а этим самым более или менее переор-
ганизовывает по-своему. Кроме того, всякая знаковая система располагает соб-
ственными непреодолимыми правилами построения сообщений (текстов). Эти
правила еще сильнее влияют на характер (организацию) передаваемого при их
помощи мира и еще сильнее его модифицируют (перестраивают). Даже перевод
на родственный язык, скажем с русского на белорусский или на польский, в за-
метной степени изменит как мир исходного подлинника, так и его речевую реа-
лизацию. Иначе говоря, специфика отдельных видов искусства берет свое нача-
ло в особенностях знаковых систем, которыми эти искусства пользуются.
Специфика литературы лежит в свойствах языковой и речевой субстанции. И об
этом как раз и пойдет речь дальше.
Не «искаженная» знаковой системой картина мира произведения немысли-
ма. Смягчить искажение можно несколькими способами. Путем сопоставления
разных произведений разных искусств с более или менее «одним и тем же ми-
ром»: тогда, с одной стороны, возникает некая стереоскопическая модель мира,
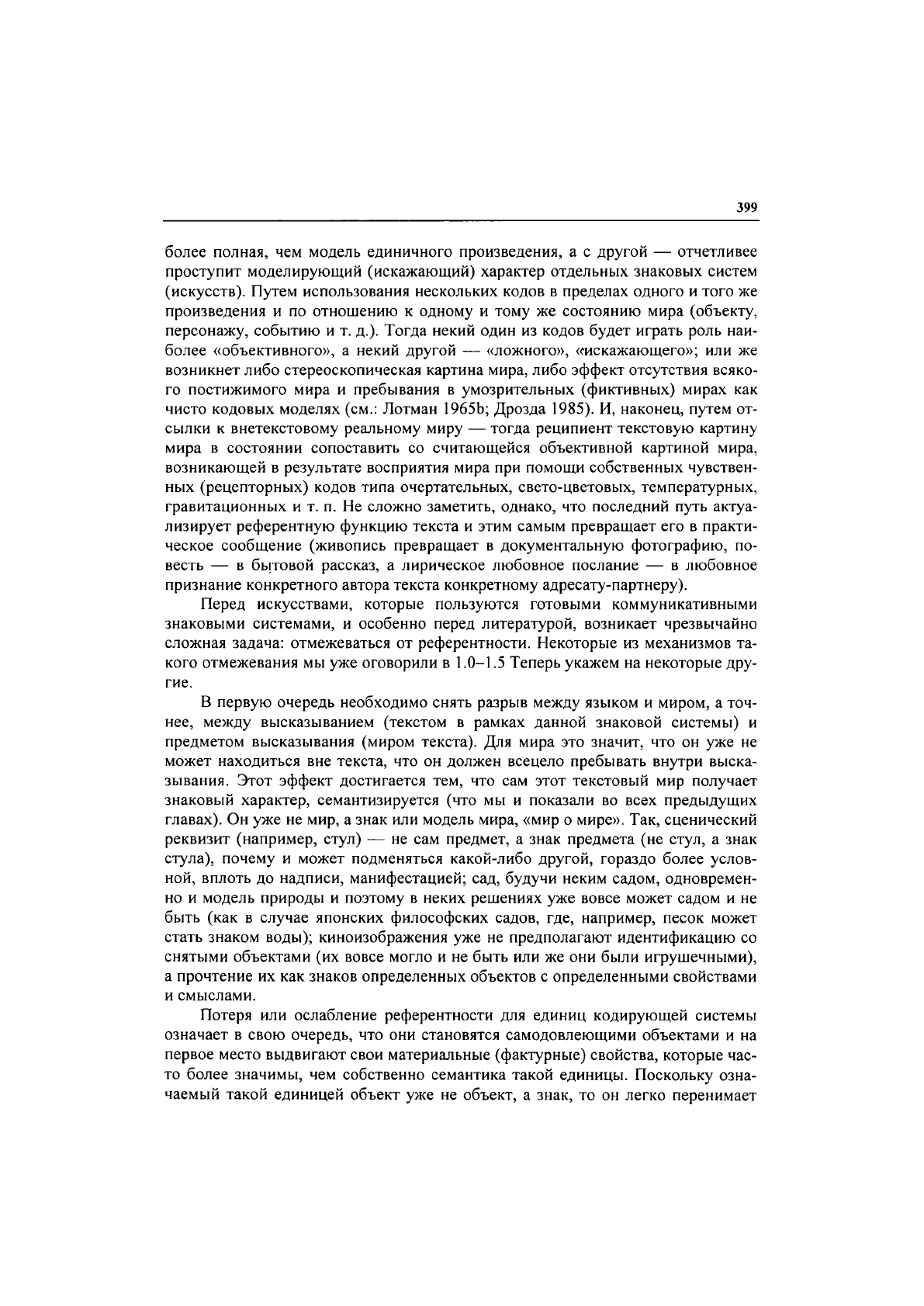
399
более полная, чем модель единичного произведения, а с другой — отчетливее
проступит моделирующий (искажающий) характер отдельных знаковых систем
(искусств). Путем использования нескольких кодов в пределах одного и того же
произведения и по отношению к одному и тому же состоянию мира (объекту,
персонажу, событию и т. д.). Тогда некий один из кодов будет играть роль наи-
более «объективного», а некий другой — «ложного», «искажающего»; или же
возникнет либо стереоскопическая картина мира, либо эффект отсутствия всяко-
го постижимого мира и пребывания в умозрительных (фиктивных) мирах как
чисто кодовых моделях (см.: Лотман 1965b; Дрозда 1985). И, наконец, путем от-
сылки к внетекстовому реальному миру — тогда реципиент текстовую картину
мира в состоянии сопоставить со считающейся объективной картиной мира,
возникающей в результате восприятия мира при помощи собственных чувствен-
ных (рецепторных) кодов типа очертательных, свето-цветовых, температурных,
гравитационных и т. п. Не сложно заметить, однако, что последний путь актуа-
лизирует референтную функцию текста и этим самым превращает его в практи-
ческое сообщение (живопись превращает в документальную фотографию, по-
весть — в бытовой рассказ, а лирическое любовное послание — в любовное
признание конкретного автора текста конкретному адресату-партнеру).
Перед искусствами, которые пользуются готовыми коммуникативными
знаковыми системами, и особенно перед литературой, возникает чрезвычайно
сложная задача: отмежеваться от референтности. Некоторые из механизмов та-
кого отмежевания мы уже оговорили в 1.0-1.5 Теперь укажем на некоторые дру-
гие.
В первую очередь необходимо снять разрыв между языком и миром, а точ-
нее, между высказыванием (текстом в рамках данной знаковой системы) и
предметом высказывания (миром текста). Для мира это значит, что он уже не
может находиться вне текста, что он должен всецело пребывать внутри выска-
зывания. Этот эффект достигается тем, что сам этот текстовый мир получает
знаковый характер, семантизируется (что мы и показали во всех предыдущих
главах). Он уже не мир, а знак или модель мира, «мир о мире». Так, сценический
реквизит (например, стул) — не сам предмет, а знак предмета (не стул, а знак
стула), почему и может подменяться какой-либо другой, гораздо более услов-
ной, вплоть до надписи, манифестацией; сад, будучи неким садом, одновремен-
но и модель природы и поэтому в неких решениях уже вовсе может садом и не
быть (как в случае японских философских садов, где, например, песок может
стать знаком воды); киноизображения уже не предполагают идентификацию со
снятыми объектами (их вовсе могло и не быть или же они были игрушечными),
а прочтение их как знаков определенных объектов с определенными свойствами
и смыслами.
Потеря или ослабление референтности для единиц кодирующей системы
означает в свою очередь, что они становятся самодовлеющими объектами и на
первое место выдвигают свои материальные (фактурные) свойства, которые час-
то более значимы, чем собственно семантика такой единицы. Поскольку озна-
чаемый такой единицей объект уже не объект, а знак, то он легко перенимает
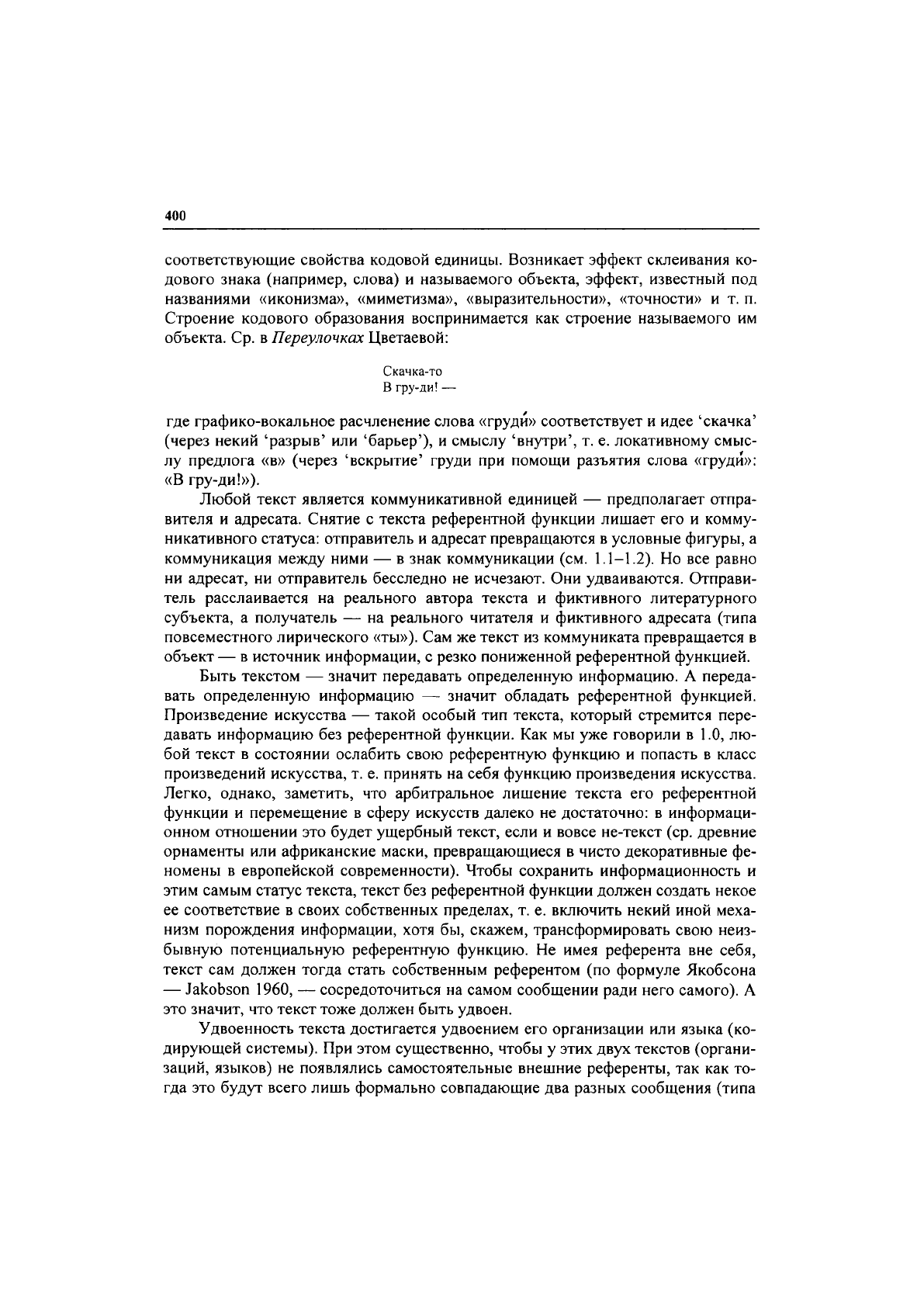
400
соответствующие свойства кодовой единицы. Возникает эффект склеивания ко-
дового знака (например, слова) и называемого объекта, эффект, известный под
названиями «иконизма», «миметизма», «выразительности», «точности» и т. п.
Строение кодового образования воспринимается как строение называемого им
объекта. Ср. в Переулочках Цветаевой:
Скачка-то
В гру-ди! —
где графико-вокальное расчленение слова «груди» соответствует и идее 'скачка
5
(через некий 'разрыв' или 'барьер'), и смыслу 'внутри', т. е. локативному смыс-
лу предлога «в» (через 'вскрытие' груди при помощи разъятия слова «груди»:
«В гру-ди!»).
Любой текст является коммуникативной единицей — предполагает отпра-
вителя и адресата. Снятие с текста референтной функции лишает его и комму-
никативного статуса: отправитель и адресат превращаются в условные фигуры, а
коммуникация между ними — в знак коммуникации (см. 1.1-1.2). Но все равно
ни адресат, ни отправитель бесследно не исчезают. Они удваиваются. Отправи-
тель расслаивается на реального автора текста и фиктивного литературного
субъекта, а получатель — на реального читателя и фиктивного адресата (типа
повсеместного лирического «ты»). Сам же текст из коммуниката превращается в
объект — в источник информации, с резко пониженной референтной функцией.
Быть текстом — значит передавать определенную информацию. А переда-
вать определенную информацию — значит обладать референтной функцией.
Произведение искусства — такой особый тип текста, который стремится пере-
давать информацию без референтной функции. Как мы уже говорили в 1.0, лю-
бой текст в состоянии ослабить свою референтную функцию и попасть в класс
произведений искусства, т. е. принять на себя функцию произведения искусства.
Легко, однако, заметить, что арбитральное лишение текста его референтной
функции и перемещение в сферу искусств далеко не достаточно: в информаци-
онном отношении это будет ущербный текст, если и вовсе не-текст (ср. древние
орнаменты или африканские маски, превращающиеся в чисто декоративные фе-
номены в европейской современности). Чтобы сохранить информационность и
этим самым статус текста, текст без референтной функции должен создать некое
ее соответствие в своих собственных пределах, т. е. включить некий иной меха-
низм порождения информации, хотя бы, скажем, трансформировать свою неиз-
бывную потенциальную референтную функцию. Не имея референта вне себя,
текст сам должен тогда стать собственным референтом (по формуле Якобсона
— Jakobson 1960, — сосредоточиться на самом сообщении ради него самого). А
это значит, что текст тоже должен быть удвоен.
Удвоенность текста достигается удвоением его организации или языка (ко-
дирующей системы). При этом существенно, чтобы у этих двух текстов (органи-
заций, языков) не появлялись самостоятельные внешние референты, так как то-
гда это будут всего лишь формально совпадающие два разных сообщения (типа
