Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

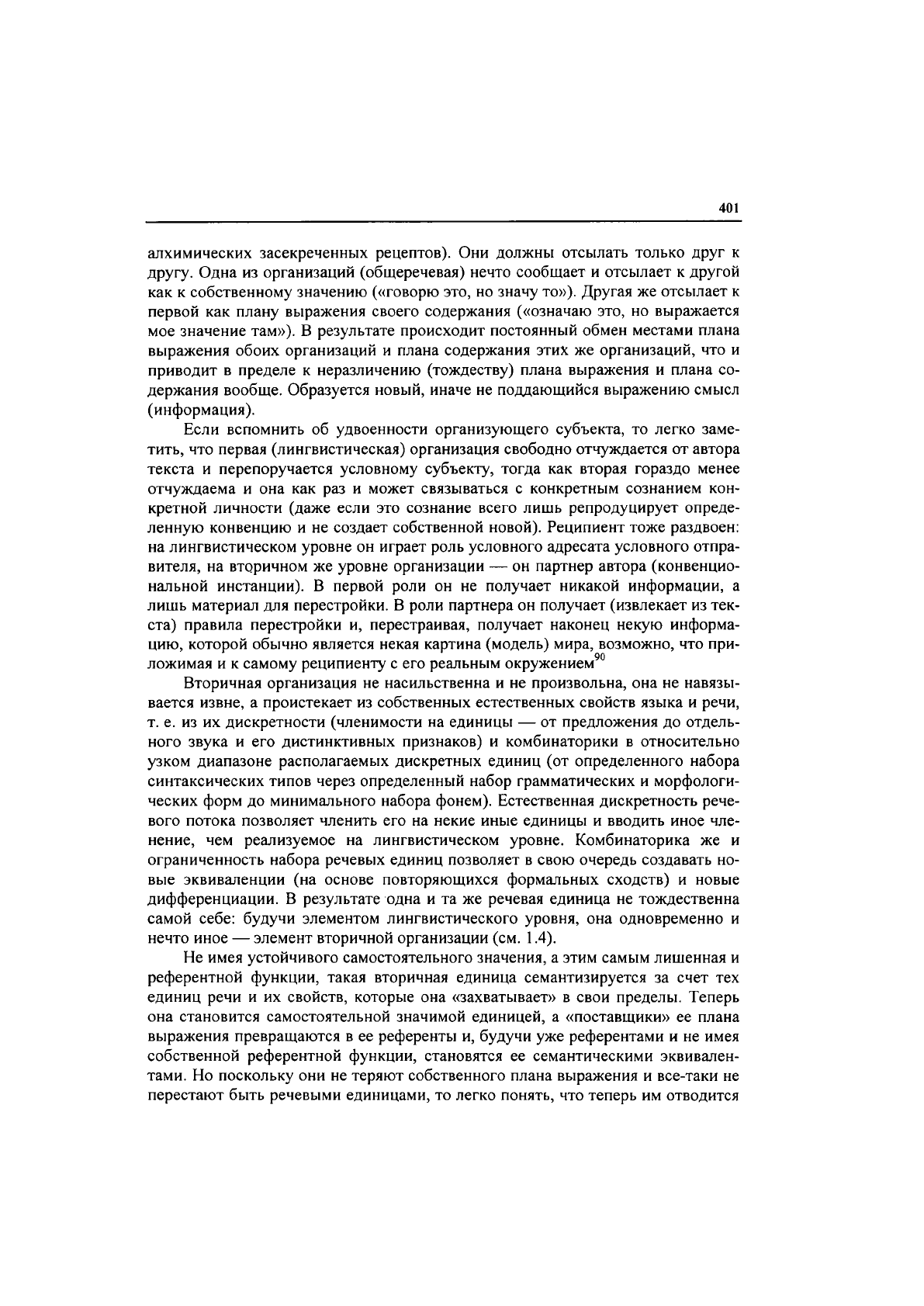
401
алхимических засекреченных рецептов). Они должны отсылать только друг к
другу. Одна из организаций (общеречевая) нечто сообщает и отсылает к другой
как к собственному значению («говорю это, но значу то»). Другая же отсылает к
первой как плану выражения своего содержания («означаю это, но выражается
мое значение там»). В результате происходит постоянный обмен местами плана
выражения обоих организаций и плана содержания этих же организаций, что и
приводит в пределе к неразличению (тождеству) плана выражения и плана со-
держания вообще. Образуется новый, иначе не поддающийся выражению смысл
(информация).
Если вспомнить об удвоенности организующего субъекта, то легко заме-
тить, что первая (лингвистическая) организация свободно отчуждается от автора
текста и перепоручается условному субъекту, тогда как вторая гораздо менее
отчуждаема и она как раз и может связываться с конкретным сознанием кон-
кретной личности (даже если это сознание всего лишь репродуцирует опреде-
ленную конвенцию и не создает собственной новой). Реципиент тоже раздвоен:
на лингвистическом уровне он играет роль условного адресата условного отпра-
вителя, на вторичном же уровне организации — он партнер автора (конвенцио-
нальной инстанции). В первой роли он не получает никакой информации, а
лишь материал для перестройки. В роли партнера он получает (извлекает из тек-
ста) правила перестройки и, перестраивая, получает наконец некую информа-
цию, которой обычно является некая картина (модель) мира, возможно, что при-
ложимая и к самому реципиенту с его реальным окружением
90
Вторичная организация не насильственна и не произвольна, она не навязы-
вается извне, а проистекает из собственных естественных свойств языка и речи,
т. е. из их дискретности (членимости на единицы — от предложения до отдель-
ного звука и его дистинктивных признаков) и комбинаторики в относительно
узком диапазоне располагаемых дискретных единиц (от определенного набора
синтаксических типов через определенный набор грамматических и морфологи-
ческих форм до минимального набора фонем). Естественная дискретность рече-
вого потока позволяет членить его на некие иные единицы и вводить иное чле-
нение, чем реализуемое на лингвистическом уровне. Комбинаторика же и
ограниченность набора речевых единиц позволяет в свою очередь создавать но-
вые эквиваленции (на основе повторяющихся формальных сходств) и новые
дифференциации. В результате одна и та же речевая единица не тождественна
самой себе: будучи элементом лингвистического уровня, она одновременно и
нечто иное — элемент вторичной организации (см. 1.4).
Не имея устойчивого самостоятельного значения, а этим самым лишенная и
референтной функции, такая вторичная единица семантизируется за счет тех
единиц речи и их свойств, которые она «захватывает» в свои пределы. Теперь
она становится самостоятельной значимой единицей, а «поставщики» ее плана
выражения превращаются в ее референты и, будучи уже референтами и не имея
собственной референтной функции, становятся ее семантическими эквивален-
тами. Но поскольку они не теряют собственного плана выражения и все-таки не
перестают быть речевыми единицами, то легко понять, что теперь им отводится
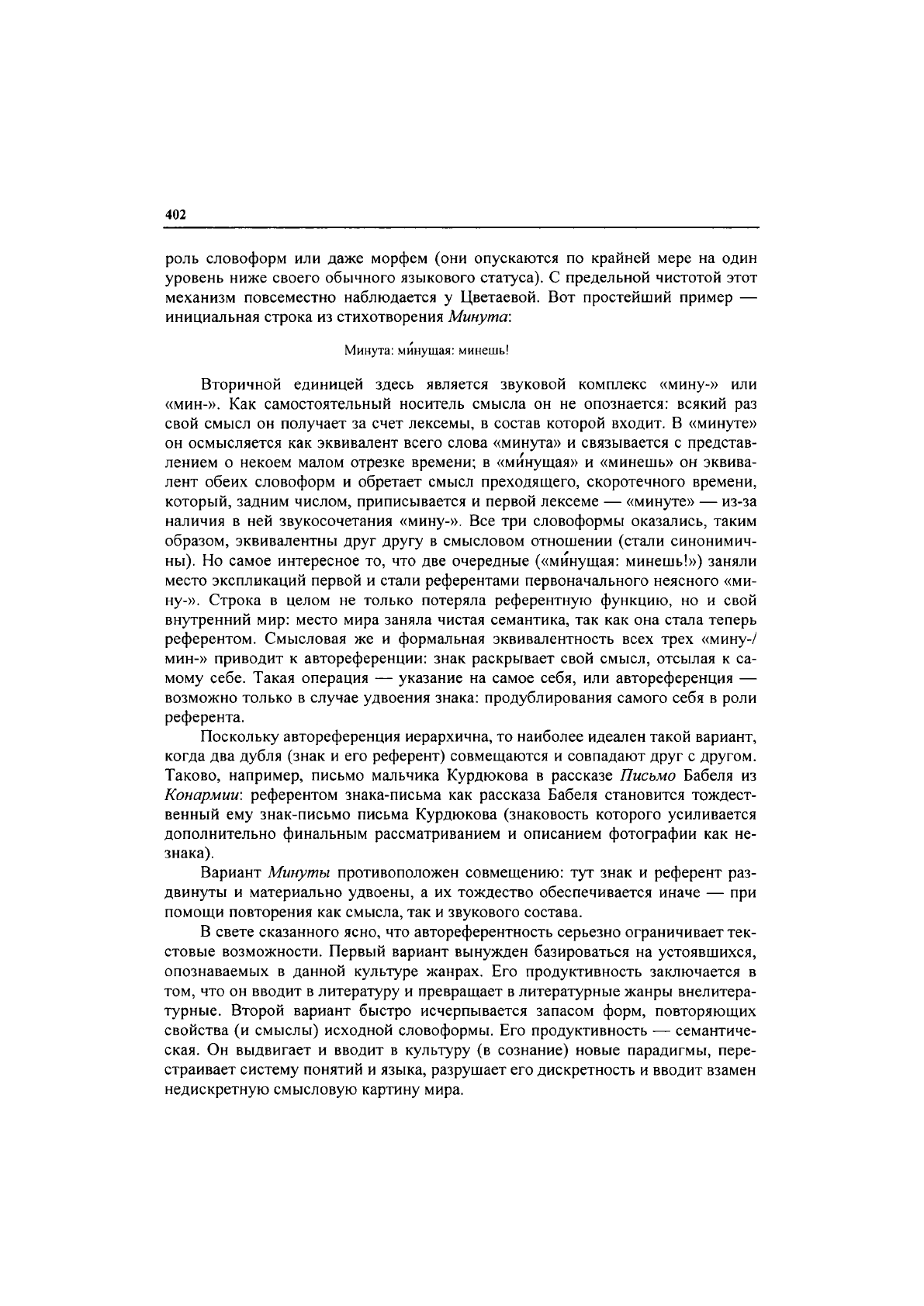
402
роль словоформ или даже морфем (они опускаются по крайней мере на один
уровень ниже своего обычного языкового статуса). С предельной чистотой этот
механизм повсеместно наблюдается у Цветаевой. Вот простейший пример —
инициальная строка из стихотворения Минута:
Минута: минущая: минешь!
Вторичной единицей здесь является звуковой комплекс «мину-» или
«мин-». Как самостоятельный носитель смысла он не опознается: всякий раз
свой смысл он получает за счет лексемы, в состав которой входит. В «минуте»
он осмысляется как эквивалент всего слова «минута» и связывается с представ-
лением о некоем малом отрезке времени; в «минущая» и «минешь» он эквива-
лент обеих словоформ и обретает смысл преходящего, скоротечного времени,
который, задним числом, приписывается и первой лексеме — «минуте» — из-за
наличия в ней звукосочетания «мину-». Все три словоформы оказались, таким
образом, эквивалентны друг другу в смысловом отношении (стали синонимич-
ны). Но самое интересное то, что две очередные («минущая: минешь!») заняли
место экспликаций первой и стали референтами первоначального неясного «ми-
ну-». Строка в целом не только потеряла референтную функцию, но и свой
внутренний мир: место мира заняла чистая семантика, так как она стала теперь
референтом. Смысловая же и формальная эквивалентность всех трех «мину-/
мин-» приводит к автореференции: знак раскрывает свой смысл, отсылая к са-
мому себе. Такая операция — указание на самое себя, или автореференция —
возможно только в случае удвоения знака: продублирования самого себя в роли
референта.
Поскольку автореференция иерархична, то наиболее идеален такой вариант,
когда два дубля (знак и его референт) совмещаются и совпадают друг с другом.
Таково, например, письмо мальчика Курдюкова в рассказе Письмо Бабеля из
Конармии: референтом знака-письма как рассказа Бабеля становится тождест-
венный ему знак-письмо письма Курдюкова (знаковость которого усиливается
дополнительно финальным рассматриванием и описанием фотографии как не-
знака).
Вариант Минуты противоположен совмещению: тут знак и референт раз-
двинуты и материально удвоены, а их тождество обеспечивается иначе — при
помощи повторения как смысла, так и звукового состава.
В свете сказанного ясно, что автореферентность серьезно ограничивает тек-
стовые возможности. Первый вариант вынужден базироваться на устоявшихся,
опознаваемых в данной культуре жанрах. Его продуктивность заключается в
том, что он вводит в литературу и превращает в литературные жанры внелитера-
турные. Второй вариант быстро исчерпывается запасом форм, повторяющих
свойства (и смыслы) исходной словоформы. Его продуктивность — семантиче-
ская. Он выдвигает и вводит в культуру (в сознание) новые парадигмы, пере-
страивает систему понятий и языка, разрушает его дискретность и вводит взамен
недискретную смысловую картину мира.
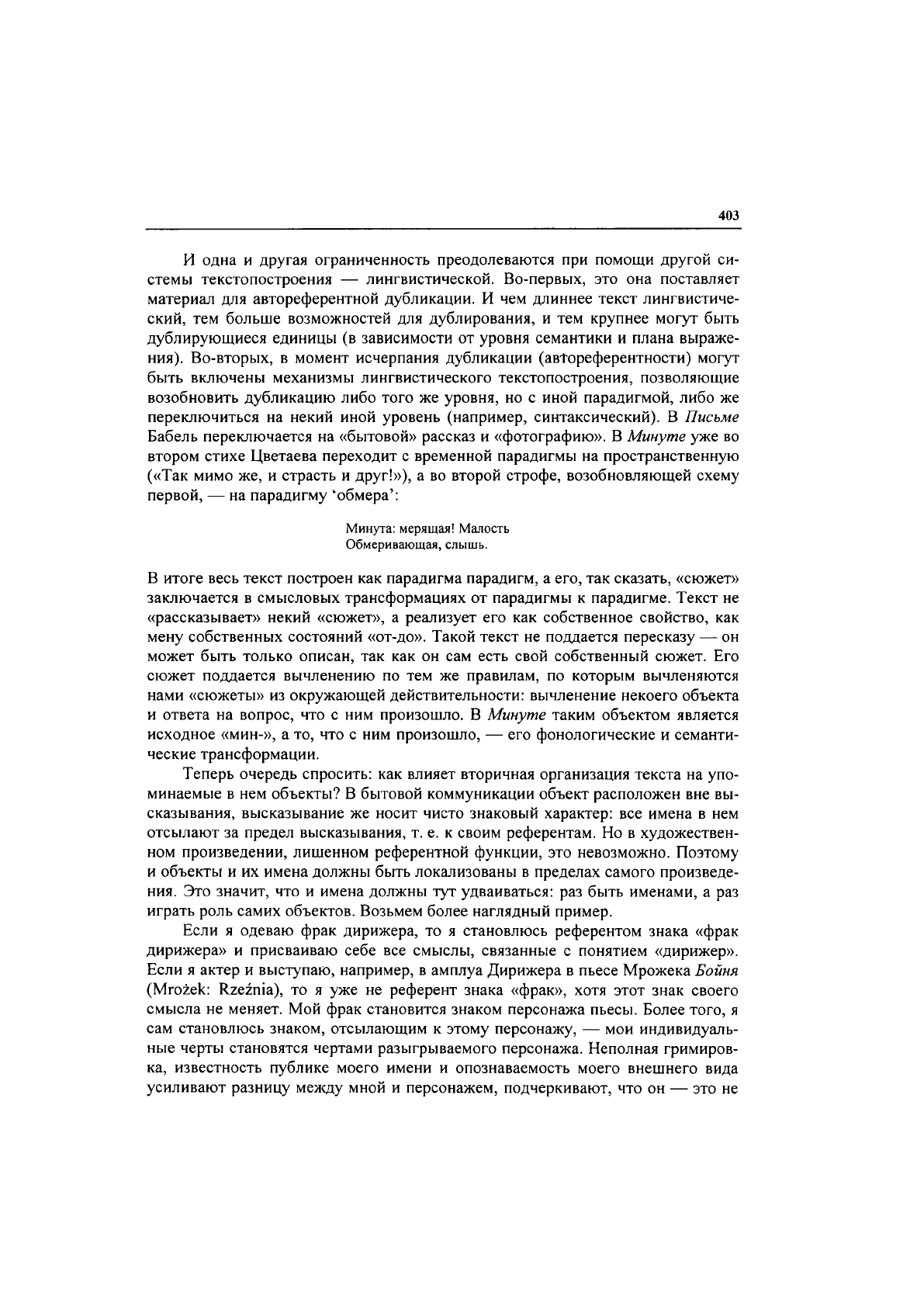
403
И одна и другая ограниченность преодолеваются при помощи другой си-
стемы текстопостроения — лингвистической. Во-первых, это она поставляет
материал для автореферентной дубликации. И чем длиннее текст лингвистиче-
ский, тем больше возможностей для дублирования, и тем крупнее могут быть
дублирующиеся единицы (в зависимости от уровня семантики и плана выраже-
ния). Во-вторых, в момент исчерпания дубликации (авічэреферентности) могут
быть включены механизмы лингвистического текстопостроения, позволяющие
возобновить дубликацию либо того же уровня, но с иной парадигмой, либо же
переключиться на некий иной уровень (например, синтаксический). В Письме
Бабель переключается на «бытовой» рассказ и «фотографию». В Минуте уже во
втором стихе Цветаева переходит с временной парадигмы на пространственную
(«Так мимо же, и страсть и друг!»), а во второй строфе, возобновляющей схему
первой, — на парадигму "обмера':
Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь.
В итоге весь текст построен как парадигма парадигм, а его, так сказать, «сюжет»
заключается в смысловых трансформациях от парадигмы к парадигме. Текст не
«рассказывает» некий «сюжет», а реализует его как собственное свойство, как
мену собственных состояний «от-до». Такой текст не поддается пересказу — он
может быть только описан, так как он сам есть свой собственный сюжет. Его
сюжет поддается вычленению по тем же правилам, по которым вычленяются
нами «сюжеты» из окружающей действительности: вычленение некоего объекта
и ответа на вопрос, что с ним произошло. В Минуте таким объектом является
исходное «мин-», а то, что с ним произошло, — его фонологические и семанти-
ческие трансформации.
Теперь очередь спросить: как влияет вторичная организация текста на упо-
минаемые в нем объекты? В бытовой коммуникации объект расположен вне вы-
сказывания, высказывание же носит чисто знаковый характер: все имена в нем
отсылают за предел высказывания, т. е. к своим референтам. Но в художествен-
ном произведении, лишенном референтной функции, это невозможно. Поэтому
и объекты и их имена должны быть локализованы в пределах самого произведе-
ния. Это значит, что и имена должны тут удваиваться: раз быть именами, а раз
играть роль самих объектов. Возьмем более наглядный пример.
Если я одеваю фрак дирижера, то я становлюсь референтом знака «фрак
дирижера» и присваиваю себе все смыслы, связанные с понятием «дирижер».
Если я актер и выступаю, например, в амплуа Дирижера в пьесе Мрожека Бойня
(Mrożek: Rzeźnia), то я уже не референт знака «фрак», хотя этот знак своего
смысла не меняет. Мой фрак становится знаком персонажа пьесы. Более того, я
сам становлюсь знаком, отсылающим к этому персонажу, — мои индивидуаль-
ные черты становятся чертами разыгрываемого персонажа. Неполная гримиров-
ка, известность публике моего имени и опознаваемость моего внешнего вида
усиливают разницу между мной и персонажем, подчеркивают, что он — это не
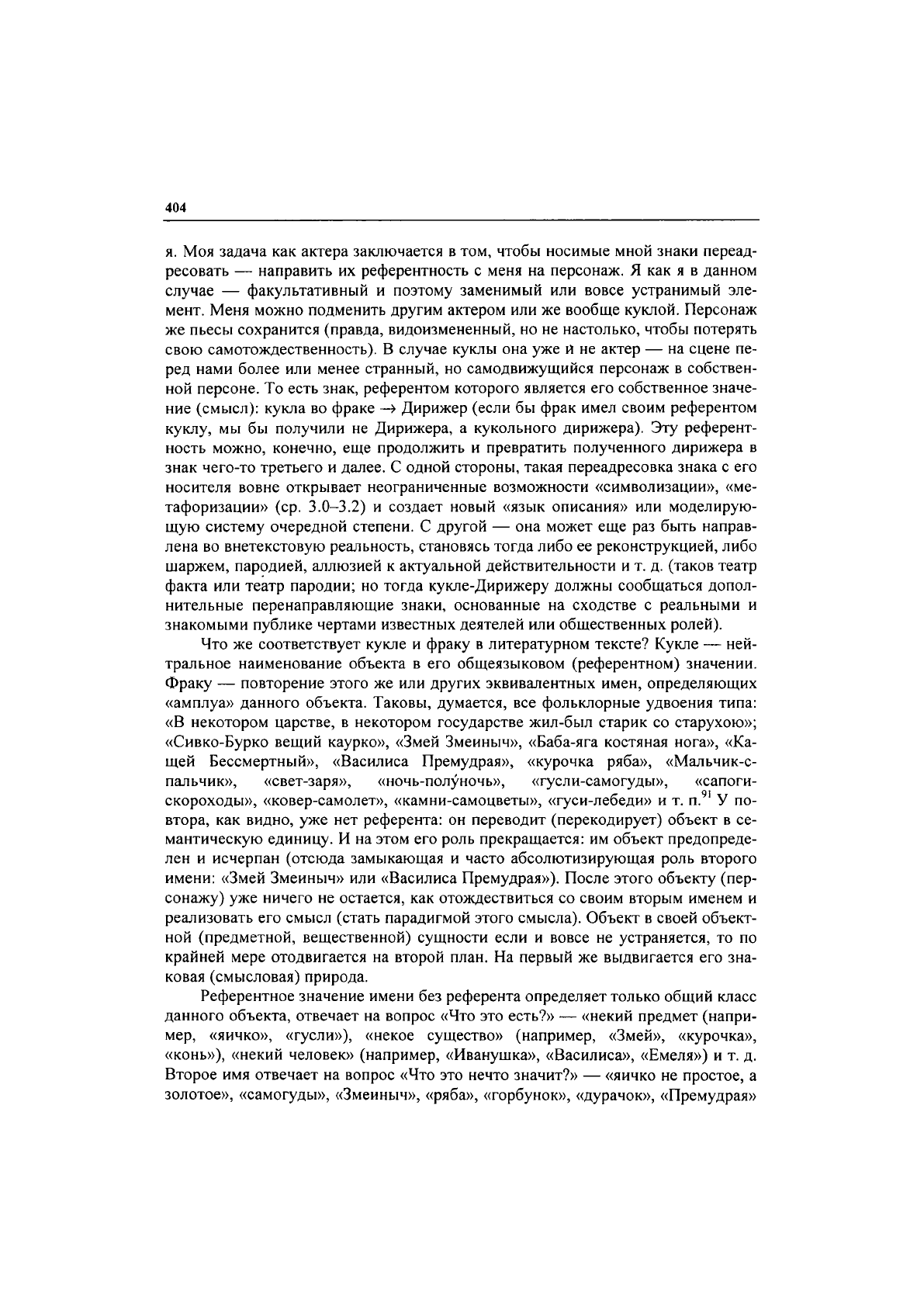
404
я. Моя задача как актера заключается в том, чтобы носимые мной знаки переад-
ресовать — направить их референтность с меня на персонаж. Я как я в данном
случае — факультативный и поэтому заменимый или вовсе устранимый эле-
мент. Меня можно подменить другим актером или же вообще куклой. Персонаж
же пьесы сохранится (правда, видоизмененный, но не настолько, чтобы потерять
свою самотождественность). В случае куклы она уже й не актер — на сцене пе-
ред нами более или менее странный, но самодвижущийся персонаж в собствен-
ной персоне. То есть знак, референтом которого является его собственное значе-
ние (смысл): кукла во фраке —> Дирижер (если бы фрак имел своим референтом
куклу, мы бы получили не Дирижера, а кукольного дирижера). Эту референт-
ность можно, конечно, еще продолжить и превратить полученного дирижера в
знак чего-то третьего и далее. С одной стороны, такая переадресовка знака с его
носителя вовне открывает неограниченные возможности «символизации», «ме-
тафоризации» (ср. 3.0-3.2) и создает новый «язык описания» или моделирую-
щую систему очередной степени. С другой — она может еще раз быть направ-
лена во внетекстовую реальность, становясь тогда либо ее реконструкцией, либо
шаржем, пародией, аллюзией к актуальной действительности и т. д. (таков театр
факта или театр пародии; но тогда кукле-Дирижеру должны сообщаться допол-
нительные перенаправляющие знаки, основанные на сходстве с реальными и
знакомыми публике чертами известных деятелей или общественных ролей).
Что же соответствует кукле и фраку в литературном тексте? Кукле — ней-
тральное наименование объекта в его общеязыковом (референтном) значении.
Фраку — повторение этого же или других эквивалентных имен, определяющих
«амплуа» данного объекта. Таковы, думается, все фольклорные удвоения типа:
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухою»;
«Сивко-Бурко вещий каурко», «Змей Змеиныч», «Баба-яга костяная нога», «Ка-
щей Бессмертный», «Василиса Премудрая», «курочка ряба», «Мальчик-с-
пальчик», «свет-заря», «ночь-полуночь», «гусли-самогуды», «сапоги-
скороходы», «ковер-самолет», «камни-самоцветы», «гуси-лебеди» и т. п.
91
У по-
втора, как видно, уже нет референта: он переводит (перекодирует) объект в се-
мантическую единицу. И на этом его роль прекращается: им объект предопреде-
лен и исчерпан (отсюда замыкающая и часто абсолютизирующая роль второго
имени: «Змей Змеиныч» или «Василиса Премудрая»). После этого объекту (пер-
сонажу) уже ничего не остается, как отождествиться со своим вторым именем и
реализовать его смысл (стать парадигмой этого смысла). Объект в своей объект-
ной (предметной, вещественной) сущности если и вовсе не устраняется, то по
крайней мере отодвигается на второй план. На первый же выдвигается его зна-
ковая (смысловая) природа.
Референтное значение имени без референта определяет только общий класс
данного объекта, отвечает на вопрос «Что это есть?» — «некий предмет (напри-
мер, «яичко», «гусли»), «некое существо» (например, «Змей», «курочка»,
«конь»), «некий человек» (например, «Иванушка», «Василиса», «Емеля») и т. д.
Второе имя отвечает на вопрос «Что это нечто значит?» — «яичко не простое, а
золотое», «самогуды», «Змеиныч», «ряба», «горбунок», «дурачок», «Премудрая»
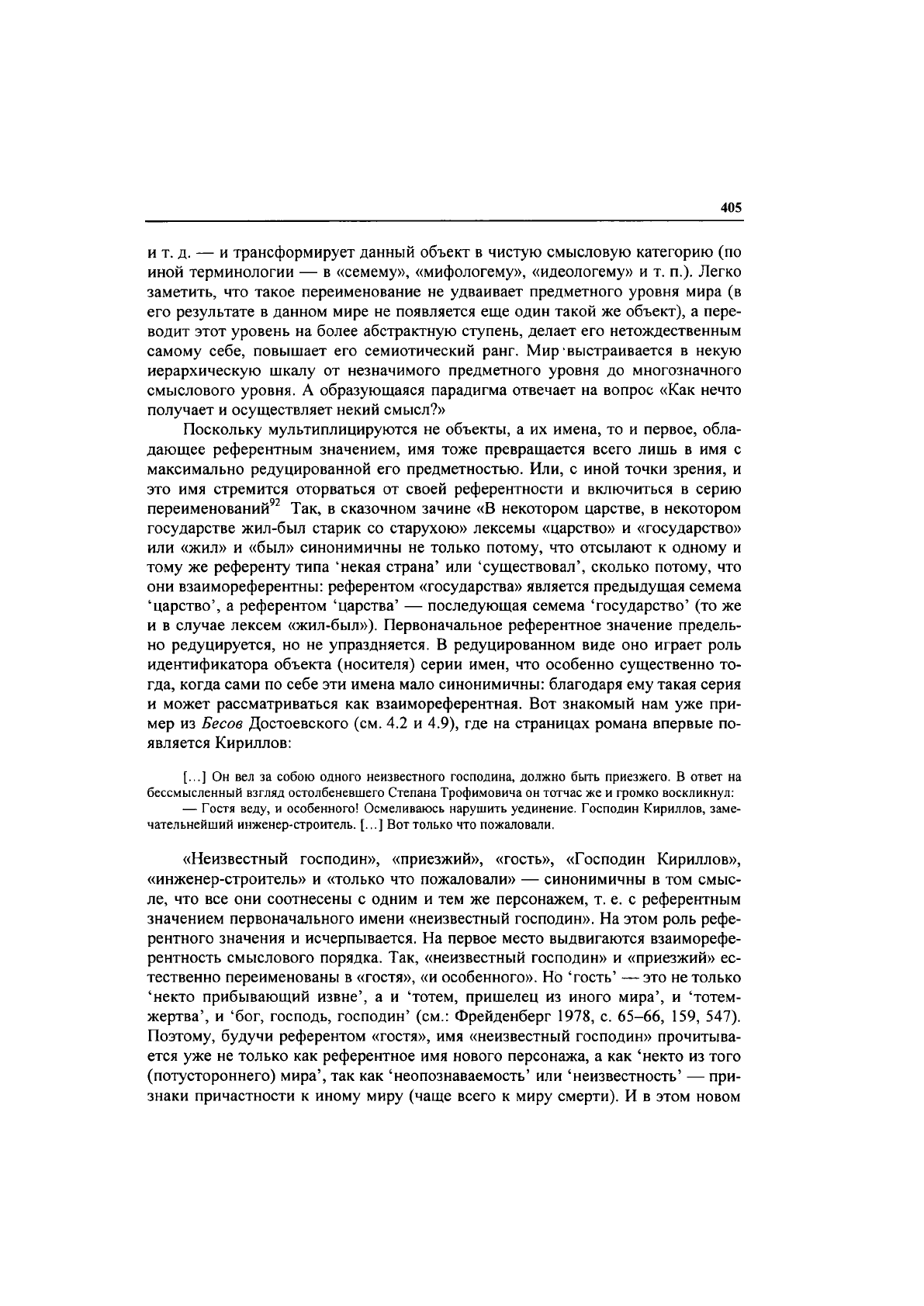
405
и т. д. — и трансформирует данный объект в чистую смысловую категорию (по
иной терминологии — в «семему», «мифологему», «идеологему» и т. п.). Легко
заметить, что такое переименование не удваивает предметного уровня мира (в
его результате в данном мире не появляется еще один такой же объект), а пере-
водит этот уровень на более абстрактную ступень, делает его нетождественным
самому себе, повышает его семиотический ранг. Мир выстраивается в некую
иерархическую шкалу от незначимого предметного уровня до многозначного
смыслового уровня. А образующаяся парадигма отвечает на вопрос «Как нечто
получает и осуществляет некий смысл?»
Поскольку мультиплицируются не объекты, а их имена, то и первое, обла-
дающее референтным значением, имя тоже превращается всего лишь в имя с
максимально редуцированной его предметностью. Или, с иной точки зрения, и
это имя стремится оторваться от своей референтности и включиться в серию
переименований
92
Так, в сказочном зачине «В некотором царстве, в некотором
государстве жил-был старик со старухою» лексемы «царство» и «государство»
или «жил» и «был» синонимичны не только потому, что отсылают к одному и
тому же референту типа 'некая страна' или 'существовал', сколько потому, что
они взаимореферентны: референтом «государства» является предыдущая семема
'царство', а референтом 'царства' — последующая семема 'государство' (то же
и в случае лексем «жил-был»). Первоначальное референтное значение предель-
но редуцируется, но не упраздняется. В редуцированном виде оно играет роль
идентификатора объекта (носителя) серии имен, что особенно существенно то-
гда, когда сами по себе эти имена мало синонимичны: благодаря ему такая серия
и может рассматриваться как взаимореферентная. Вот знакомый нам уже при-
мер из Бесов Достоевского (см. 4.2 и 4.9), где на страницах романа впервые по-
является Кириллов:
[...] Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть приезжего. В ответ на
бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:
— Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, заме-
чательнейший инженер-строитель. [...] Вот только что пожаловали.
«Неизвестный господин», «приезжий», «гость», «Господин Кириллов»,
«инженер-строитель» и «только что пожаловали» — синонимичны в том смыс-
ле, что все они соотнесены с одним и тем же персонажем, т. е. с референтным
значением первоначального имени «неизвестный господин». На этом роль рефе-
рентного значения и исчерпывается. На первое место выдвигаются взаиморефе-
рентность смыслового порядка. Так, «неизвестный господин» и «приезжий» ес-
тественно переименованы в «гостя», «и особенного». Но 'гость' — это не только
'некто прибывающий извне', а и 'тотем, пришелец из иного мира', и 'тотем-
жертва', и 'бог, господь, господин' (см.: Фрейденберг 1978, с. 65-66, 159, 547).
Поэтому, будучи референтом «гостя», имя «неизвестный господин» прочитыва-
ется уже не только как референтное имя нового персонажа, а как 'некто из того
(потустороннего) мира', так как 'неопознаваемость' или 'неизвестность' — при-
знаки причастности к иному миру (чаще всего к миру смерти). И в этом новом
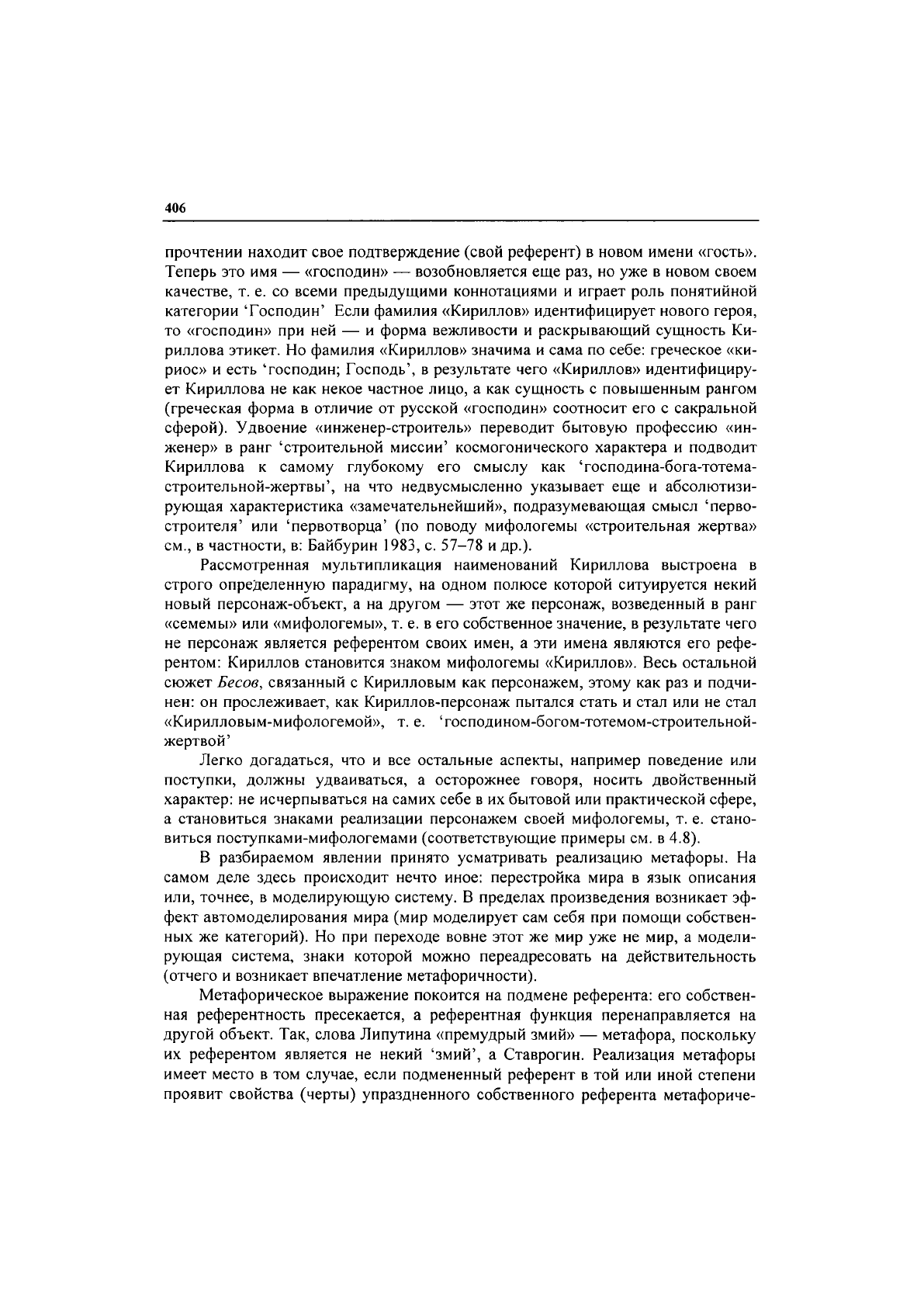
406
прочтении находит свое подтверждение (свой референт) в новом имени «гость».
Теперь это имя — «господин» — возобновляется еще раз, но уже в новом своем
качестве, т. е. со всеми предыдущими коннотациями и играет роль понятийной
категории 'Господин' Если фамилия «Кириллов» идентифицирует нового героя,
то «господин» при ней — и форма вежливости и раскрывающий сущность Ки-
риллова этикет. Но фамилия «Кириллов» значима и сама по себе: греческое «ки-
риос» и есть 'господин; Господь', в результате чего «Кириллов» идентифициру-
ет Кириллова не как некое частное лицо, а как сущность с повышенным рангом
(греческая форма в отличие от русской «господин» соотносит его с сакральной
сферой). Удвоение «инженер-строитель» переводит бытовую профессию «ин-
женер» в ранг 'строительной миссии' космогонического характера и подводит
Кириллова к самому глубокому его смыслу как 'господина-бога-тотема-
строительной-жертвы', на что недвусмысленно указывает еще и абсолютизи-
рующая характеристика «замечательнейший», подразумевающая смысл 'перво-
строителя' или 'первотворца' (по поводу мифологемы «строительная жертва»
см., в частности, в: Байбурин 1983, с. 57-78 и др.).
Рассмотренная мультипликация наименований Кириллова выстроена в
строго определенную парадигму, на одном полюсе которой ситуируется некий
новый персонаж-объект, а на другом — этот же персонаж, возведенный в ранг
«семемы» или «мифологемы», т. е. в его собственное значение, в результате чего
не персонаж является референтом своих имен, а эти имена являются его рефе-
рентом: Кириллов становится знаком мифологемы «Кириллов». Весь остальной
сюжет Бесов, связанный с Кирилловым как персонажем, этому как раз и подчи-
нен: он прослеживает, как Кириллов-персонаж пытался стать и стал или не стал
«Кирилловым-мифологемой», т. е. 'господином-богом-тотемом-строительной-
жертвой'
Легко догадаться, что и все остальные аспекты, например поведение или
поступки, должны удваиваться, а осторожнее говоря, носить двойственный
характер: не исчерпываться на самих себе в их бытовой или практической сфере,
а становиться знаками реализации персонажем своей мифологемы, т. е. стано-
виться поступками-мифологемами (соответствующие примеры см. в 4.8).
В разбираемом явлении принято усматривать реализацию метафоры. На
самом деле здесь происходит нечто иное: перестройка мира в язык описания
или, точнее, в моделирующую систему. В пределах произведения возникает эф-
фект автомоделирования мира (мир моделирует сам себя при помощи собствен-
ных же категорий). Но при переходе вовне этот же мир уже не мир, а модели-
рующая система, знаки которой можно переадресовать на действительность
(отчего и возникает впечатление метафоричности).
Метафорическое выражение покоится на подмене референта: его собствен-
ная референтность пресекается, а референтная функция перенаправляется на
другой объект. Так, слова Липутина «премудрый змий» — метафора, поскольку
их референтом является не некий 'змий', а Ставрогин. Реализация метафоры
имеет место в том случае, если подмененный референт в той или иной степени
проявит свойства (черты) упраздненного собственного референта метафориче-
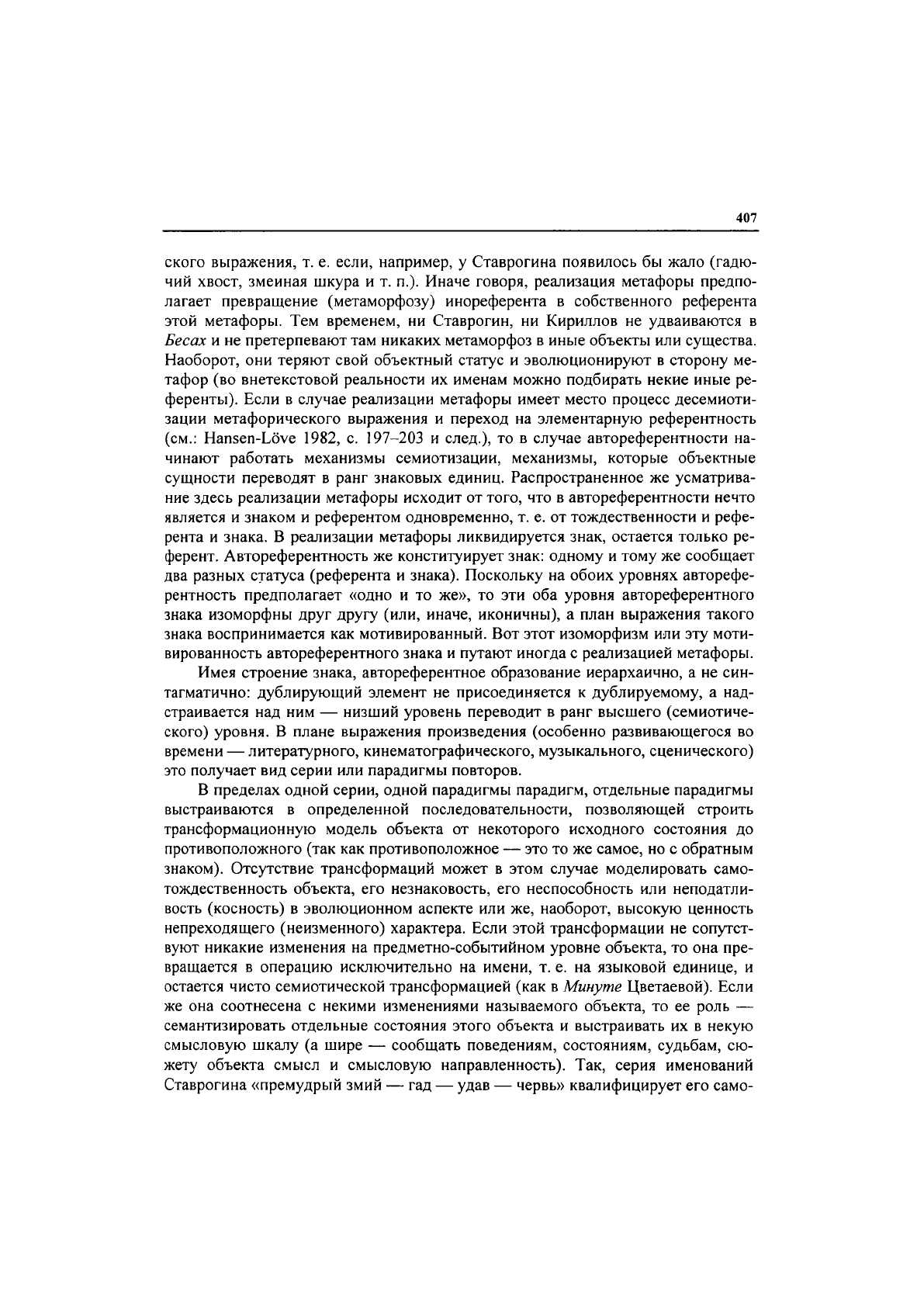
407
ского выражения, т. е. если, например, у Ставрогина появилось бы жало (гадю-
чий хвост, змеиная шкура и т. п.). Иначе говоря, реализация метафоры предпо-
лагает превращение (метаморфозу) инореферента в собственного референта
этой метафоры. Тем временем, ни Ставрогин, ни Кириллов не удваиваются в
Бесах и не претерпевают там никаких метаморфоз в иные объекты или существа.
Наоборот, они теряют свой объектный статус и эволюционируют в сторону ме-
тафор (во внетекстовой реальности их именам можно подбирать некие иные ре-
ференты). Если в случае реализации метафоры имеет место процесс десемиоти-
зации метафорического выражения и переход на элементарную референтность
(см.: Hansen-Löve 1982, с. 197-203 и след.), то в случае автореферентности на-
чинают работать механизмы семиотизации, механизмы, которые объектные
сущности переводят в ранг знаковых единиц. Распространенное же усматрива-
ние здесь реализации метафоры исходит от того, что в автореферентности нечто
является и знаком и референтом одновременно, т. е. от тождественности и рефе-
рента и знака. В реализации метафоры ликвидируется знак, остается только ре-
ферент. Автореферентность же конституирует знак: одному и тому же сообщает
два разных статуса (референта и знака). Поскольку на обоих уровнях авторефе-
рентность предполагает «одно и то же», то эти оба уровня автореферентного
знака изоморфны друг другу (или, иначе, иконичны), а план выражения такого
знака воспринимается как мотивированный. Вот этот изоморфизм или эту моти-
вированность автореферентного знака и путают иногда с реализацией метафоры.
Имея строение знака, автореферентное образование иерархаично, а не син-
тагматично: дублирующий элемент не присоединяется к дублируемому, а над-
страивается над ним — низший уровень переводит в ранг высшего (семиотиче-
ского) уровня. В плане выражения произведения (особенно развивающегося во
времени — литературного, кинематографического, музыкального, сценического)
это получает вид серии или парадигмы повторов.
В пределах одной серии, одной парадигмы парадигм, отдельные парадигмы
выстраиваются в определенной последовательности, позволяющей строить
трансформационную модель объекта от некоторого исходного состояния до
противоположного (так как противоположное — это то же самое, но с обратным
знаком). Отсутствие трансформаций может в этом случае моделировать само-
тождественность объекта, его незнаковость, его неспособность или неподатли-
вость (косность) в эволюционном аспекте или же, наоборот, высокую ценность
непреходящего (неизменного) характера. Если этой трансформации не сопутст-
вуют никакие изменения на предметно-событийном уровне объекта, то она пре-
вращается в операцию исключительно на имени, т. е. на языковой единице, и
остается чисто семиотической трансформацией (как в Минуте Цветаевой). Если
же она соотнесена с некими изменениями называемого объекта, то ее роль —
семантизировать отдельные состояния этого объекта и выстраивать их в некую
смысловую шкалу (а шире — сообщать поведениям, состояниям, судьбам, сю-
жету объекта смысл и смысловую направленность). Так, серия именований
Ставрогина «премудрый змий — гад — удав — червь» квалифицирует его само-
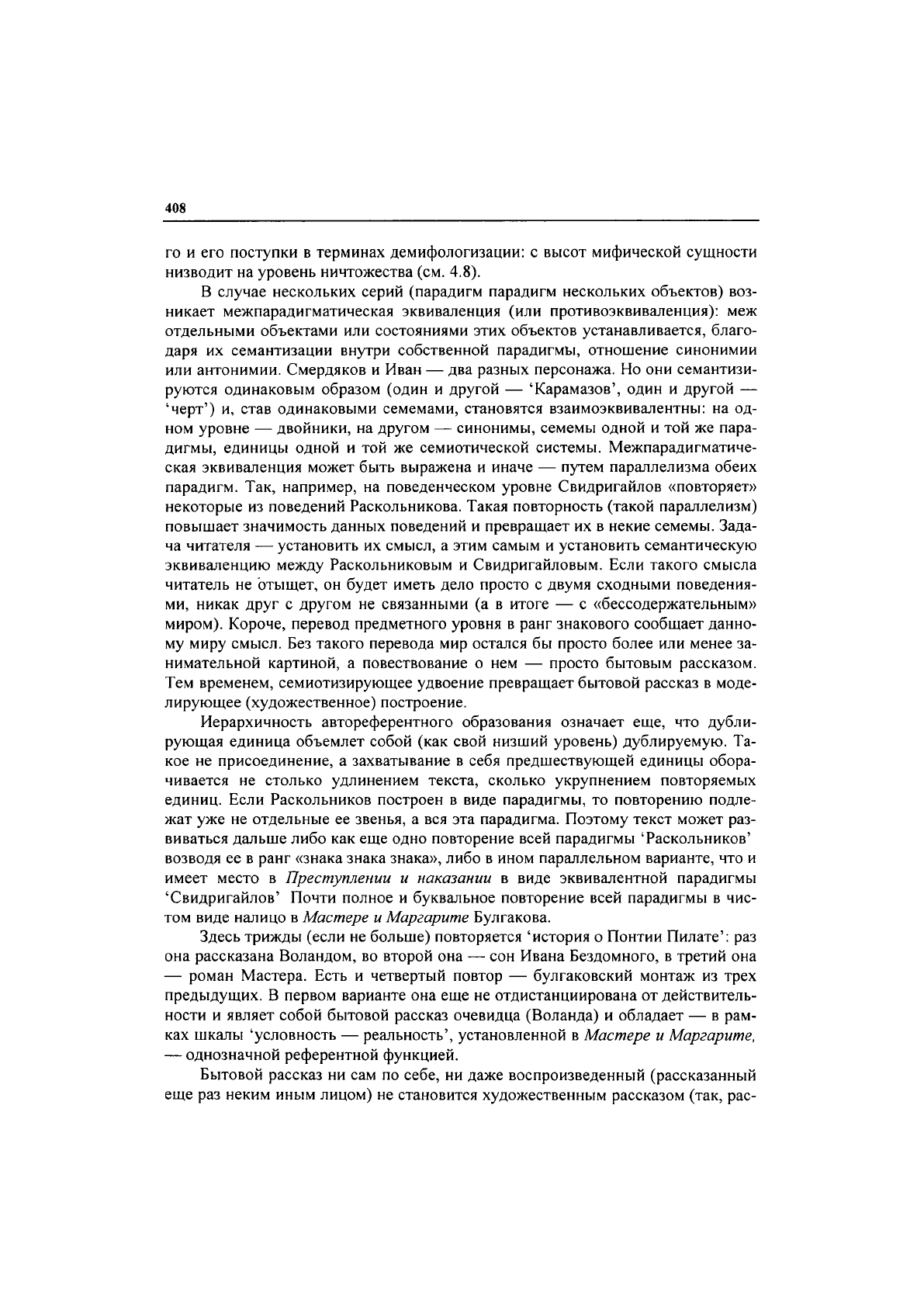
408
го и его поступки в терминах демифологизации: с высот мифической сущности
низводит на уровень ничтожества (см. 4.8).
В случае нескольких серий (парадигм парадигм нескольких объектов) воз-
никает межпарадигматическая эквиваленция (или противоэквиваленция): меж
отдельными объектами или состояниями этих объектов устанавливается, благо-
даря их семантизации внутри собственной парадигмы, отношение синонимии
или антонимии. Смердяков и Иван — два разных персонажа. Но они семантизи-
руются одинаковым образом (один и другой — 'Карамазов', один и другой —
'черт') и, став одинаковыми семемами, становятся взаимоэквивалентны: на од-
ном уровне — двойники, на другом — синонимы, семемы одной и той же пара-
дигмы, единицы одной и той же семиотической системы. Межпарадигматиче-
ская эквиваленция может быть выражена и иначе — путем параллелизма обеих
парадигм. Так, например, на поведенческом уровне Свидригайлов «повторяет»
некоторые из поведений Раскольникова. Такая повторность (такой параллелизм)
повышает значимость данных поведений и превращает их в некие семемы. Зада-
ча читателя — установить их смысл, а этим самым и установить семантическую
эквиваленцию между Раскольниковым и Свидригайловым. Если такого смысла
читатель не отыщет, он будет иметь дело просто с двумя сходными поведения-
ми, никак друг с другом не связанными (а в итоге — с «бессодержательным»
миром). Короче, перевод предметного уровня в ранг знакового сообщает данно-
му миру смысл. Без такого перевода мир остался бы просто более или менее за-
нимательной картиной, а повествование о нем — просто бытовым рассказом.
Тем временем, семиотизирующее удвоение превращает бытовой рассказ в моде-
лирующее (художественное) построение.
Иерархичность автореферентного образования означает еще, что дубли-
рующая единица объемлет собой (как свой низший уровень) дублируемую. Та-
кое не присоединение, а захватывание в себя предшествующей единицы обора-
чивается не столько удлинением текста, сколько укрупнением повторяемых
единиц. Если Раскольников построен в виде парадигмы, то повторению подле-
жат уже не отдельные ее звенья, а вся эта парадигма. Поэтому текст может раз-
виваться дальше либо как еще одно повторение всей парадигмы 'Раскольников'
возводя ее в ранг «знака знака знака», либо в ином параллельном варианте, что и
имеет место в Преступлении и наказании в виде эквивалентной парадигмы
'Свидригайлов' Почти полное и буквальное повторение всей парадигмы в чис-
том виде налицо в Мастере и Маргарите Булгакова.
Здесь трижды (если не больше) повторяется 'история о Понтии Пилате': раз
она рассказана Воландом, во второй она — сон Ивана Бездомного, в третий она
— роман Мастера. Есть и четвертый повтор — булгаковский монтаж из трех
предыдущих. В первом варианте она еще не отдистанциирована от действитель-
ности и являет собой бытовой рассказ очевидца (Воланда) и обладает — в рам-
ках шкалы 'условность — реальность', установленной в Мастере и Маргарите,
— однозначной референтной функцией.
Бытовой рассказ ни сам по себе, ни даже воспроизведенный (рассказанный
еще раз неким иным лицом) не становится художественным рассказом (так, рас-
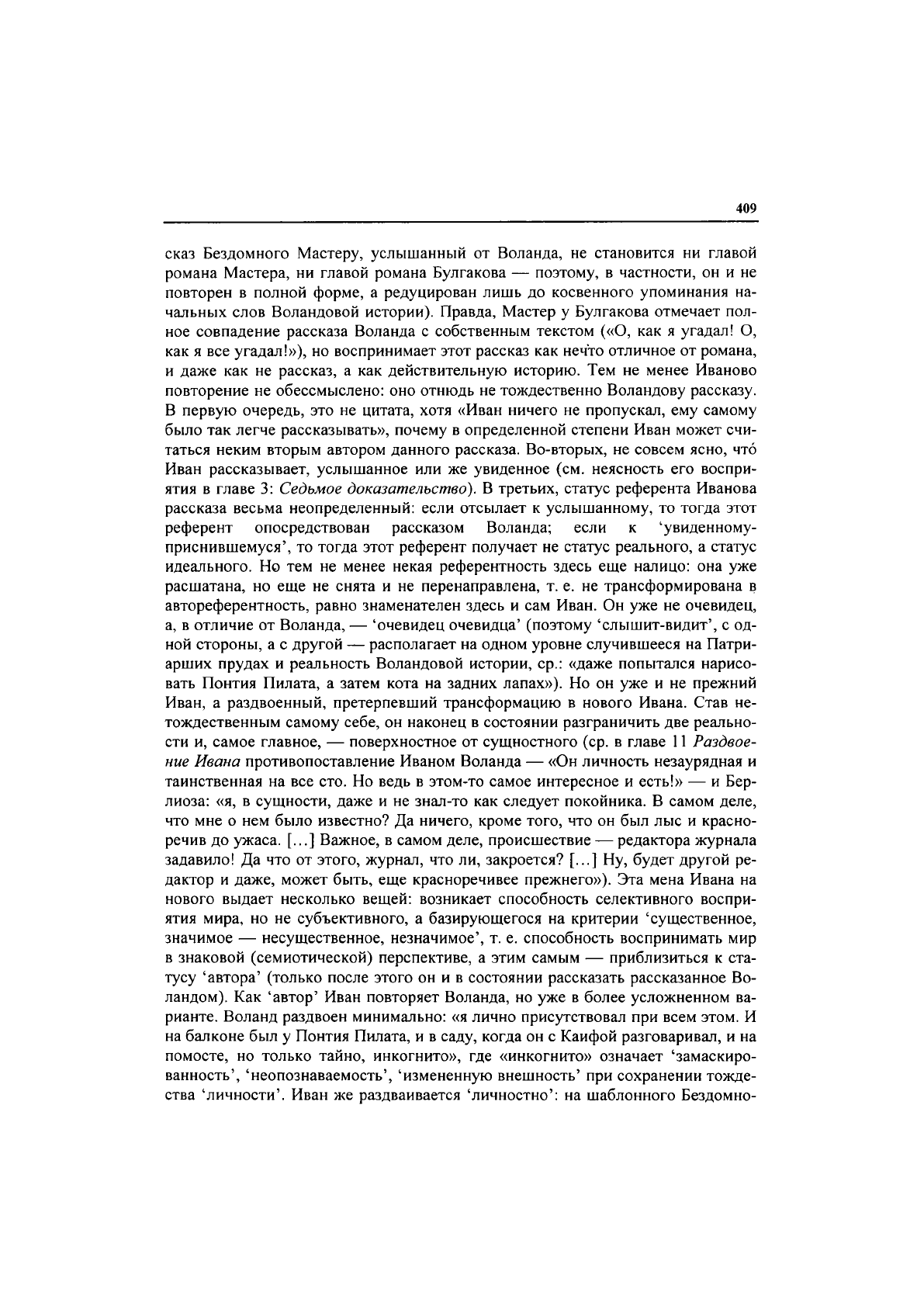
409
сказ Бездомного Мастеру, услышанный от Воланда, не становится ни главой
романа Мастера, ни главой романа Булгакова — поэтому, в частности, он и не
повторен в полной форме, а редуцирован лишь до косвенного упоминания на-
чальных слов Воландовой истории). Правда, Мастер у Булгакова отмечает пол-
ное совпадение рассказа Воланда с собственным текстом («О, как я угадал! О,
как я все угадал!»), но воспринимает этот рассказ как нечто отличное от романа,
и даже как не рассказ, а как действительную историю. Тем не менее Иваново
повторение не обессмыслено: оно отнюдь не тождественно Воландову рассказу.
В первую очередь, это не цитата, хотя «Иван ничего не пропускал, ему самому
было так легче рассказывать», почему в определенной степени Иван может счи-
таться неким вторым автором данного рассказа. Во-вторых, не совсем ясно, что
Иван рассказывает, услышанное или же увиденное (см. неясность его воспри-
ятия в главе 3: Седьмое доказательство). В третьих, статус референта Иванова
рассказа весьма неопределенный: если отсылает к услышанному, то тогда этот
референт опосредствован рассказом Воланда; если к 'увиденному-
приснившемуся', то тогда этот референт получает не статус реального, а статус
идеального. Но тем не менее некая референтность здесь еще налицо: она уже
расшатана, но еще не снята и не перенаправлена, т. е. не трансформирована в
автореферентность, равно знаменателен здесь и сам Иван. Он уже не очевидец,
а, в отличие от Воланда, — 'очевидец очевидца' (поэтому 'слышит-видит', с од-
ной стороны, а с другой — располагает на одном уровне случившееся на Патри-
арших прудах и реальность Воландовой истории, ср.: «даже попытался нарисо-
вать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах»). Но он уже и не прежний
Иван, а раздвоенный, претерпевший трансформацию в нового Ивана. Став не-
тождественным самому себе, он наконец в состоянии разграничить две реально-
сти и, самое главное, — поверхностное от сущностного (ср. в главе 11 Раздвое-
ние Ивана противопоставление Иваном Воланда — «Он личность незаурядная и
таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть!» — и Бер-
лиоза: «я, в сущности, даже и не знал-то как следует покойника. В самом деле,
что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красно-
речив до ужаса. [...] Важное, в самом деле, происшествие — редактора журнала
задавило! Да что от этого, журнал, что ли, закроется? [...] Ну, будет другой ре-
дактор и даже, может быть, еще красноречивее прежнего»). Эта мена Ивана на
нового выдает несколько вещей: возникает способность селективного воспри-
ятия мира, но не субъективного, а базирующегося на критерии 'существенное,
значимое — несущественное, незначимое', т. е. способность воспринимать мир
в знаковой (семиотической) перспективе, а этим самым — приблизиться к ста-
тусу 'автора' (только после этого он и в состоянии рассказать рассказанное Во-
ландом). Как 'автор' Иван повторяет Воланда, но уже в более усложненном ва-
рианте. Воланд раздвоен минимально: «я лично присутствовал при всем этом. И
на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на
помосте, но только тайно, инкогнито», где «инкогнито» означает 'замаскиро-
ванность', 'неопознаваемость', 'измененную внешность' при сохранении тожде-
ства 'личности'. Иван же раздваивается 'личностно': на шаблонного Бездомно-
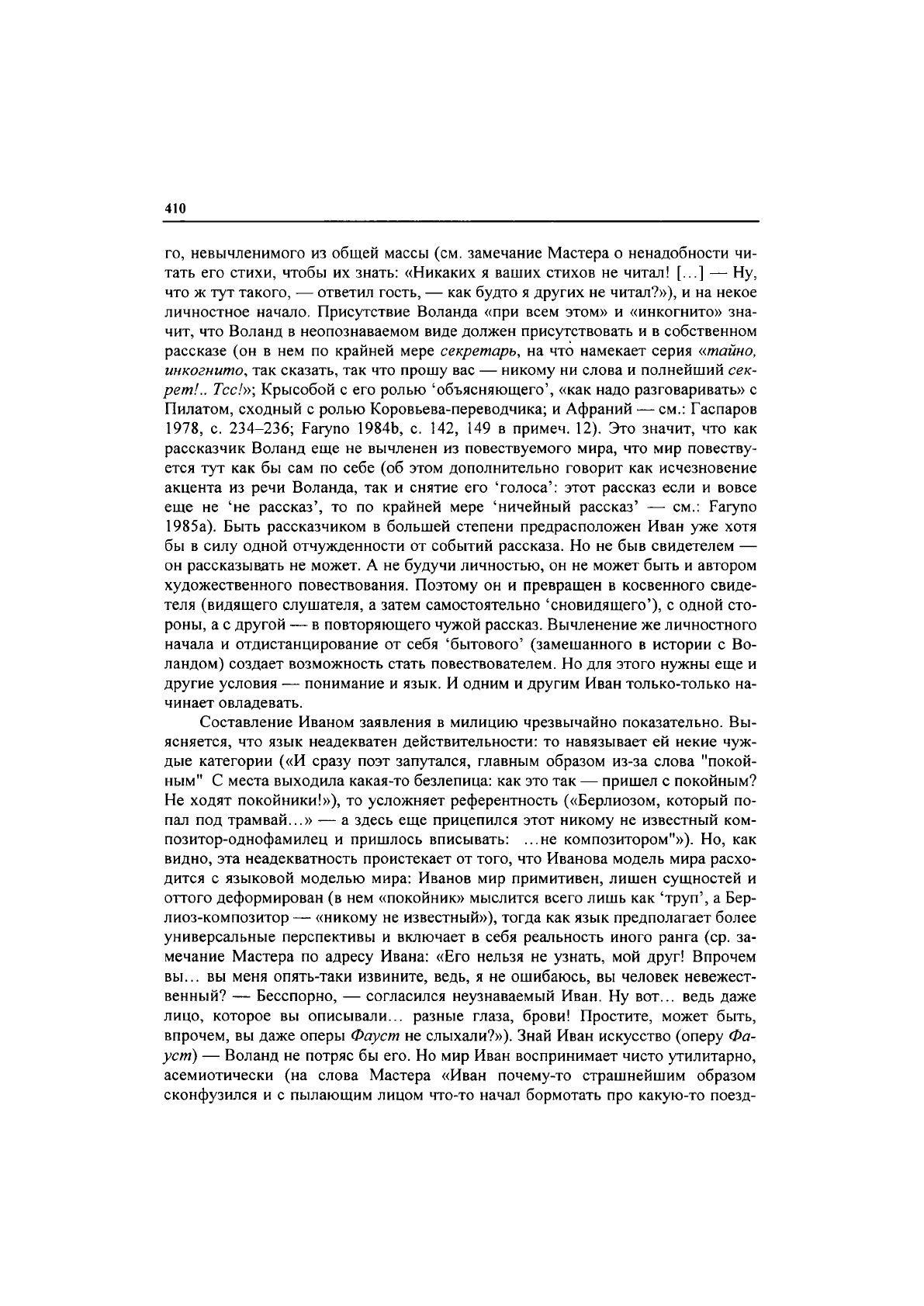
410
го, невычленимого из общей массы (см. замечание Мастера о ненадобности чи-
тать его стихи, чтобы их знать: «Никаких я ваших стихов не читал! [...] — Ну,
что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал?»), и на некое
личностное начало. Присутствие Воланда «при всем этом» и «инкогнито» зна-
чит, что Воланд в неопознаваемом виде должен присутствовать и в собственном
рассказе (он в нем по крайней мере секретарь, на что намекает серия «тайно,
инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший сек-
рет!.. Тсс!»; Крысобой с его ролью 'объясняющего', «как надо разговаривать» с
Пилатом, сходный с ролью Коровьева-переводчика; и Афраний — см.: Гаспаров
1978, с. 234-236; Faryno 1984b, с. 142, 149 в примеч. 12). Это значит, что как
рассказчик Воланд еще не вычленен из повествуемого мира, что мир повеству-
ется тут как бы сам по себе (об этом дополнительно говорит как исчезновение
акцента из речи Воланда, так и снятие его 'голоса': этот рассказ если и вовсе
еще не 'не рассказ', то по крайней мере 'ничейный рассказ' — см.: Faryno
1985а). Быть рассказчиком в большей степени предрасположен Иван уже хотя
бы в силу одной отчужденности от событий рассказа. Но не быв свидетелем —
он рассказывать не может. А не будучи личностью, он не может быть и автором
художественного повествования. Поэтому он и превращен в косвенного свиде-
теля (видящего слушателя, а затем самостоятельно 'сновидящего'), с одной сто-
роны, а с другой — в повторяющего чужой рассказ. Вычленение же личностного
начала и отдистанцирование от себя 'бытового' (замешанного в истории с Во-
ландом) создает возможность стать повествователем. Но для этого нужны еще и
другие условия — понимание и язык. И одним и другим Иван только-только на-
чинает овладевать.
Составление Иваном заявления в милицию чрезвычайно показательно. Вы-
ясняется, что язык неадекватен действительности: то навязывает ей некие чуж-
дые категории («И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова "покой-
ным" С места выходила какая-то безлепица: как это так — пришел с покойным?
Не ходят покойники!»), то усложняет референтность («Берлиозом, который по-
пал под трамвай...» — а здесь еще прицепился этот никому не известный ком-
позитор-однофамилец и пришлось вписывать: ...не композитором"»). Но, как
видно, эта неадекватность проистекает от того, что Иванова модель мира расхо-
дится с языковой моделью мира: Иванов мир примитивен, лишен сущностей и
оттого деформирован (в нем «покойник» мыслится всего лишь как 'труп', а Бер-
лиоз-композитор — «никому не известный»), тогда как язык предполагает более
универсальные перспективы и включает в себя реальность иного ранга (ср. за-
мечание Мастера по адресу Ивана: «Его нельзя не узнать, мой друг! Впрочем
вы... вы меня опять-таки извините, ведь, я не ошибаюсь, вы человек невежест-
венный? — Бесспорно, — согласился неузнаваемый Иван. Ну вот... ведь даже
лицо, которое вы описывали... разные глаза, брови! Простите, может быть,
впрочем, вы даже оперы Фауст не слыхали?»). Знай Иван искусство (оперу Фа-
уст) — Воланд не потряс бы его. Но мир Иван воспринимает чисто утилитарно,
асемиотически (на слова Мастера «Иван почему-то страшнейшим образом
сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поезд-
