Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

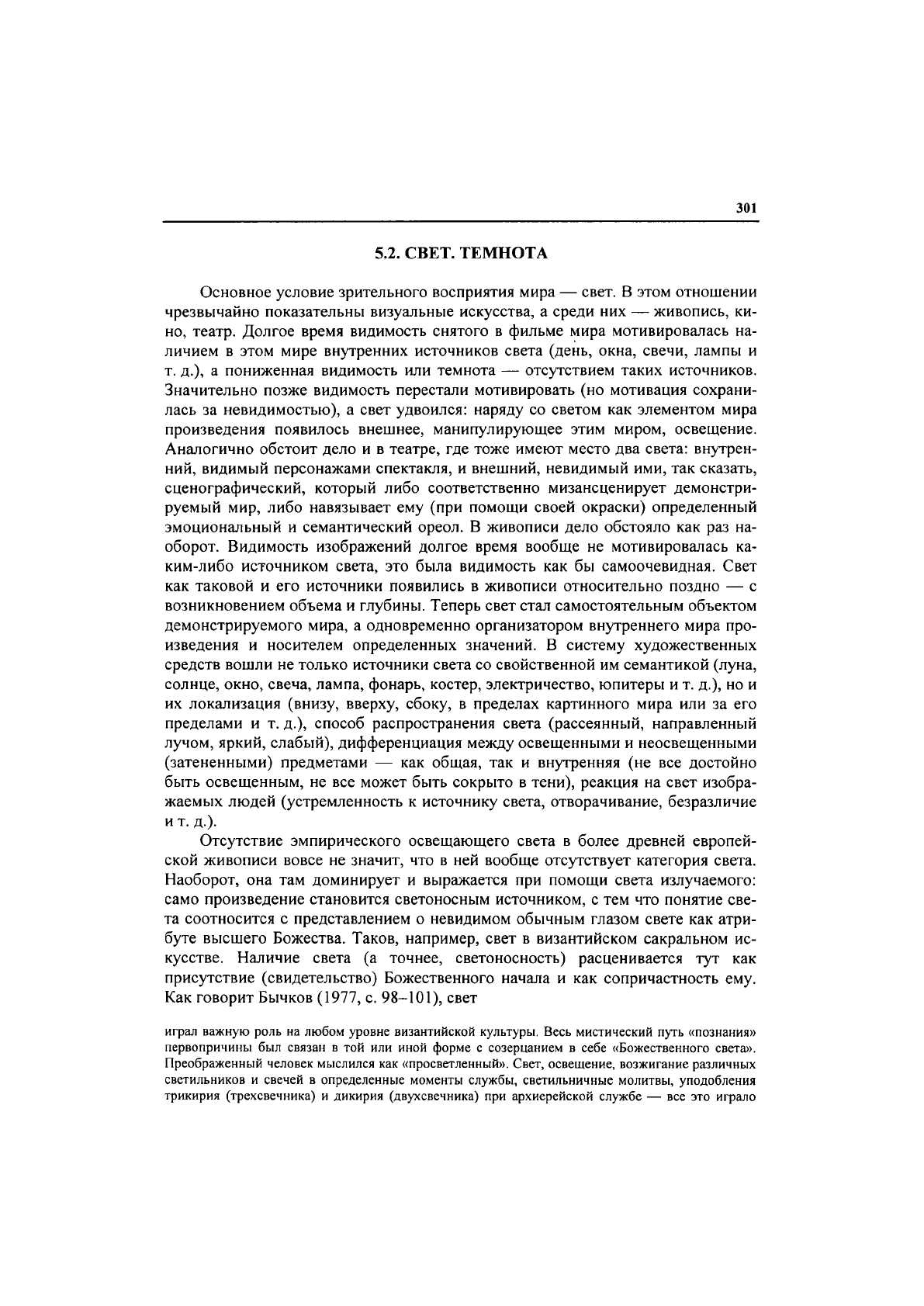
301
5.2. СВЕТ. ТЕМНОТА
Основное условие зрительного восприятия мира — свет. В этом отношении
чрезвычайно показательны визуальные искусства, а среди них — живопись, ки-
но, театр. Долгое время видимость снятого в фильме мира мотивировалась на-
личием в этом мире внутренних источников света (день, окна, свечи, лампы и
т. д.), а пониженная видимость или темнота — отсутствием таких источников.
Значительно позже видимость перестали мотивировать (но мотивация сохрани-
лась за невидимостью), а свет удвоился: наряду со светом как элементом мира
произведения появилось внешнее, манипулирующее этим миром, освещение.
Аналогично обстоит дело и в театре, где тоже имеют место два света: внутрен-
ний, видимый персонажами спектакля, и внешний, невидимый ими, так сказать,
сценографический, который либо соответственно мизансценирует демонстри-
руемый мир, либо навязывает ему (при помощи своей окраски) определенный
эмоциональный и семантический ореол. В живописи дело обстояло как раз на-
оборот. Видимость изображений долгое время вообще не мотивировалась ка-
ким-либо источником света, это была видимость как бы самоочевидная. Свет
как таковой и его источники появились в живописи относительно поздно — с
возникновением объема и глубины. Теперь свет стал самостоятельным объектом
демонстрируемого мира, а одновременно организатором внутреннего мира про-
изведения и носителем определенных значений. В систему художественных
средств вошли не только источники света со свойственной им семантикой (луна,
солнце, окно, свеча, лампа, фонарь, костер, электричество, юпитеры и т. д.), но и
их локализация (внизу, вверху, сбоку, в пределах картинного мира или за его
пределами и т. д.), способ распространения света (рассеянный, направленный
лучом, яркий, слабый), дифференциация между освещенными и неосвещенными
(затененными) предметами — как общая, так и внутренняя (не все достойно
быть освещенным, не все может быть сокрыто в тени), реакция на свет изобра-
жаемых людей (устремленность к источнику света, отворачивание, безразличие
и т. д.).
Отсутствие эмпирического освещающего света в более древней европей-
ской живописи вовсе не значит, что в ней вообще отсутствует категория света.
Наоборот, она там доминирует и выражается при помощи света излучаемого:
само произведение становится светоносным источником, с тем что понятие све-
та соотносится с представлением о невидимом обычным глазом свете как атри-
буте высшего Божества. Таков, например, свет в византийском сакральном ис-
кусстве. Наличие света (а точнее, светоносность) расценивается тут как
присутствие (свидетельство) Божественного начала и как сопричастность ему.
Как говорит Бычков (1977, с. 98-101), свет
играл важную роль на любом уровне византийской культуры. Весь мистический путь «познания»
первопричины был связан в той или иной форме с созерцанием в себе «Божественного света».
Преображенный человек мыслился как «просветленный». Свет, освещение, возжигание различных
светильников и свечей в определенные моменты службы, светильничные молитвы, уподобления
трикирия (трехсвечника) и дикирия (двухсвечника) при архиерейской службе — все это играло
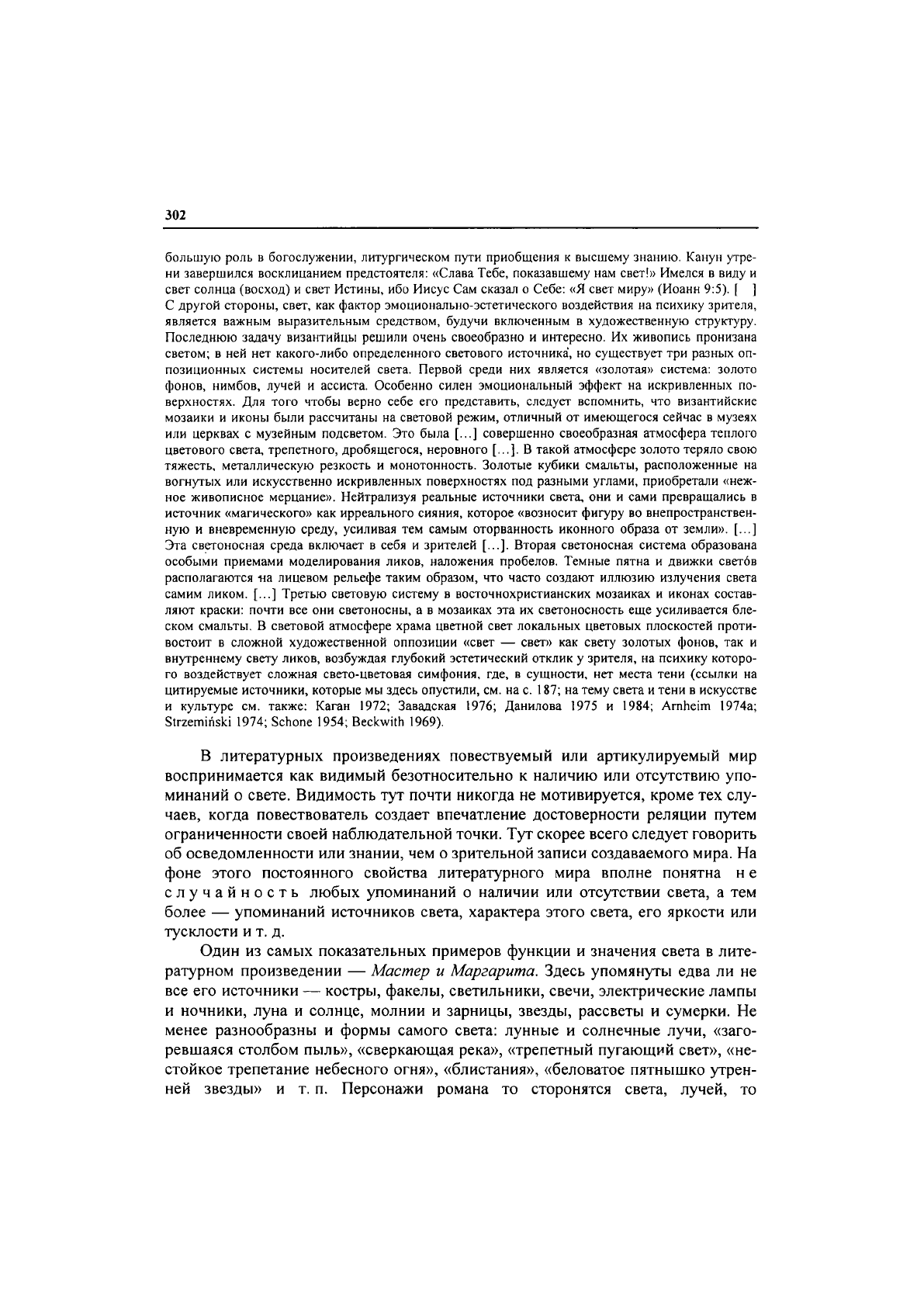
302
большую роль в богослужении, литургическом пути приобщения к высшему знанию. Канун утре-
ни завершился восклицанием предстоятеля: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Имелся в виду и
свет солнца (восход) и свет Истины, ибо Иисус Сам сказал о Себе: «Я свет миру» (Иоанн 9:5). [ ]
С другой стороны, свет, как фактор эмоционально-эстетического воздействия на психику зрителя,
является важным выразительным средством, будучи включенным в художественную структуру.
Последнюю задачу византийцы решили очень своеобразно и интересно. Их живопись пронизана
светом; в ней нет какого-либо определенного светового источника, но существует три разных оп-
позиционных системы носителей света. Первой среди них является «золотая» система: золото
фонов, нимбов, лучей и ассиста. Особенно силен эмоциональный эффект на искривленных по-
верхностях. Для того чтобы верно себе его представить, следует вспомнить, что византийские
мозаики и иконы были рассчитаны на световой режим, отличный от имеющегося сейчас в музеях
или церквах с музейным подсветом. Это была [...] совершенно своеобразная атмосфера теплого
цветового света, трепетного, дробящегося, неровного [...]. В такой атмосфере золото теряло свою
тяжесть, металлическую резкость и монотонность. Золотые кубики смальты, расположенные на
вогнутых или искусственно искривленных поверхностях под разными углами, приобретали «неж-
ное живописное мерцание». Нейтрализуя реальные источники света, они и сами превращались в
источник «магического» как ирреального сияния, которое «возносит фигуру во внепространствен-
ную и вневременную среду, усиливая тем самым оторванность иконного образа от земли». [...]
Эта светоносная среда включает в себя и зрителей [...]. Вторая светоносная система образована
особыми приемами моделирования ликов, наложения пробелов. Темные пятна и движки светбв
располагаются -на лицевом рельефе таким образом, что часто создают иллюзию излучения света
самим ликом. [...] Третью световую систему в восточнохристианских мозаиках и иконах состав-
ляют краски: почти все они светоносны, а в мозаиках эта их светоносность еще усиливается бле-
ском смальты. В световой атмосфере храма цветной свет локальных цветовых плоскостей проти-
востоит в сложной художественной оппозиции «свет — свет» как свету золотых фонов, так и
внутреннему свету ликов, возбуждая глубокий эстетический отклик у зрителя, на психику которо-
го воздействует сложная свето-цветовая симфония, где, в сущности, нет места тени (ссылки на
цитируемые источники, которые мы здесь опустили, см. на с. 187; на тему света и тени в искусстве
и культуре см. также: Каган 1972; Завадская 1976; Данилова 1975 и 1984; Arnheim 1974а;
Strzemiński 1974; Schone 1954; Beckwith 1969).
В литературных произведениях повествуемый или артикулируемый мир
воспринимается как видимый безотносительно к наличию или отсутствию упо-
минаний о свете. Видимость тут почти никогда не мотивируется, кроме тех слу-
чаев, когда повествователь создает впечатление достоверности реляции путем
ограниченности своей наблюдательной точки. Тут скорее всего следует говорить
об осведомленности или знании, чем о зрительной записи создаваемого мира. На
фоне этого постоянного свойства литературного мира вполне понятна н е
случайность любых упоминаний о наличии или отсутствии света, а тем
более — упоминаний источников света, характера этого света, его яркости или
тусклости и т. д.
Один из самых показательных примеров функции и значения света в лите-
ратурном произведении — Мастер и Маргарита. Здесь упомянуты едва ли не
все его источники — костры, факелы, светильники, свечи, электрические лампы
и ночники, луна и солнце, молнии и зарницы, звезды, рассветы и сумерки. Не
менее разнообразны и формы самого света: лунные и солнечные лучи, «заго-
ревшаяся столбом пыль», «сверкающая река», «трепетный пугающий свет», «не-
стойкое трепетание небесного огня», «блистания», «беловатое пятнышко утрен-
ней звезды» и т. п. Персонажи романа то сторонятся света, лучей, то
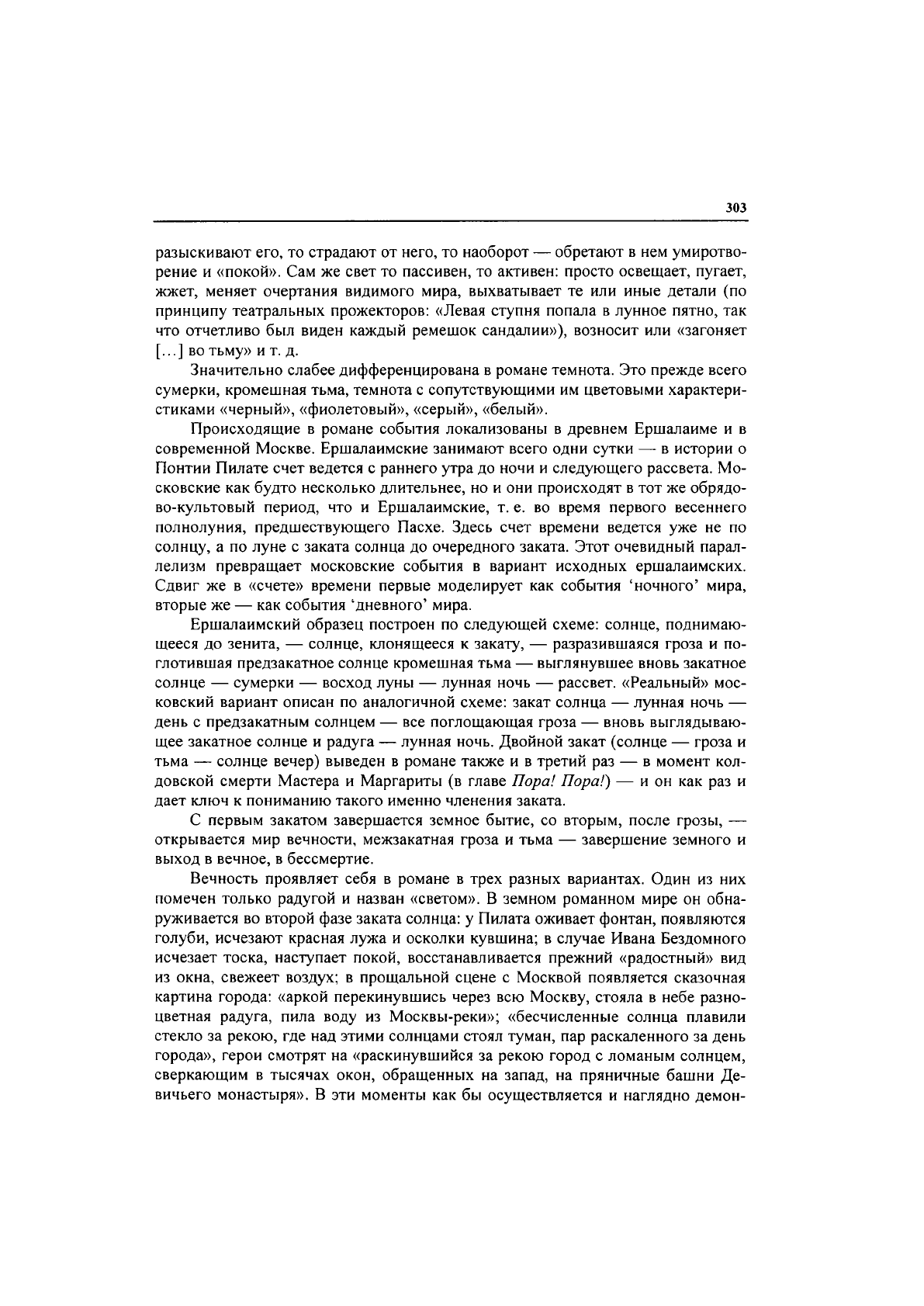
303
разыскивают его, то страдают от него, то наоборот — обретают в нем умиротво-
рение и «покой». Сам же свет то пассивен, то активен: просто освещает, пугает,
жжет, меняет очертания видимого мира, выхватывает те или иные детали (по
принципу театральных прожекторов: «Левая ступня попала в лунное пятно, так
что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии»), возносит или «загоняет
[...] во тьму» и т. д.
Значительно слабее дифференцирована в романе темнота. Это прежде всего
сумерки, кромешная тьма, темнота с сопутствующими им цветовыми характери-
стиками «черный», «фиолетовый», «серый», «белый».
Происходящие в романе события локализованы в древнем Ершалаиме и в
современной Москве. Ершалаимские занимают всего одни сутки — в истории о
Понтии Пилате счет ведется с раннего утра до ночи и следующего рассвета. Мо-
сковские как будто несколько длительнее, но и они происходят в тот же обрядо-
во-культовый период, что и Ершалаимские, т. е. во время первого весеннего
полнолуния, предшествующего Пасхе. Здесь счет времени ведется уже не по
солнцу, а по луне с заката солнца до очередного заката. Этот очевидный парал-
лелизм превращает московские события в вариант исходных ершалаимских.
Сдвиг же в «счете» времени первые моделирует как события 'ночного' мира,
вторые же — как события 'дневного' мира.
Ершалаимский образец построен по следующей схеме: солнце, поднимаю-
щееся до зенита, — солнце, клонящееся к закату, — разразившаяся гроза и по-
глотившая предзакатное солнце кромешная тьма — выглянувшее вновь закатное
солнце — сумерки — восход луны — лунная ночь — рассвет. «Реальный» мос-
ковский вариант описан по аналогичной схеме: закат солнца — лунная ночь —
день с предзакатным солнцем — все поглощающая гроза — вновь выглядываю-
щее закатное солнце и радуга — лунная ночь. Двойной закат (солнце — гроза и
тьма — солнце вечер) выведен в романе также и в третий раз — в момент кол-
довской смерти Мастера и Маргариты (в главе Пора! Пора!) — и он как раз и
дает ключ к пониманию такого именно членения заката.
С первым закатом завершается земное бытие, со вторым, после грозы, —
открывается мир вечности, межзакатная гроза и тьма — завершение земного и
выход в вечное, в бессмертие.
Вечность проявляет себя в романе в трех разных вариантах. Один из них
помечен только радугой и назван «светом». В земном романном мире он обна-
руживается во второй фазе заката солнца: у Пилата оживает фонтан, появляются
голуби, исчезают красная лужа и осколки кувшина; в случае Ивана Бездомного
исчезает тоска, наступает покой, восстанавливается прежний «радостный» вид
из окна, свежеет воздух; в прощальной сцене с Москвой появляется сказочная
картина города: «аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разно-
цветная радуга, пила воду из Москвы-реки»; «бесчисленные солнца плавили
стекло за рекою, где над этими солнцами стоял туман, пар раскаленного за день
города», герои смотрят на «раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем,
сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Де-
вичьего монастыря». В эти моменты как бы осуществляется и наглядно демон-
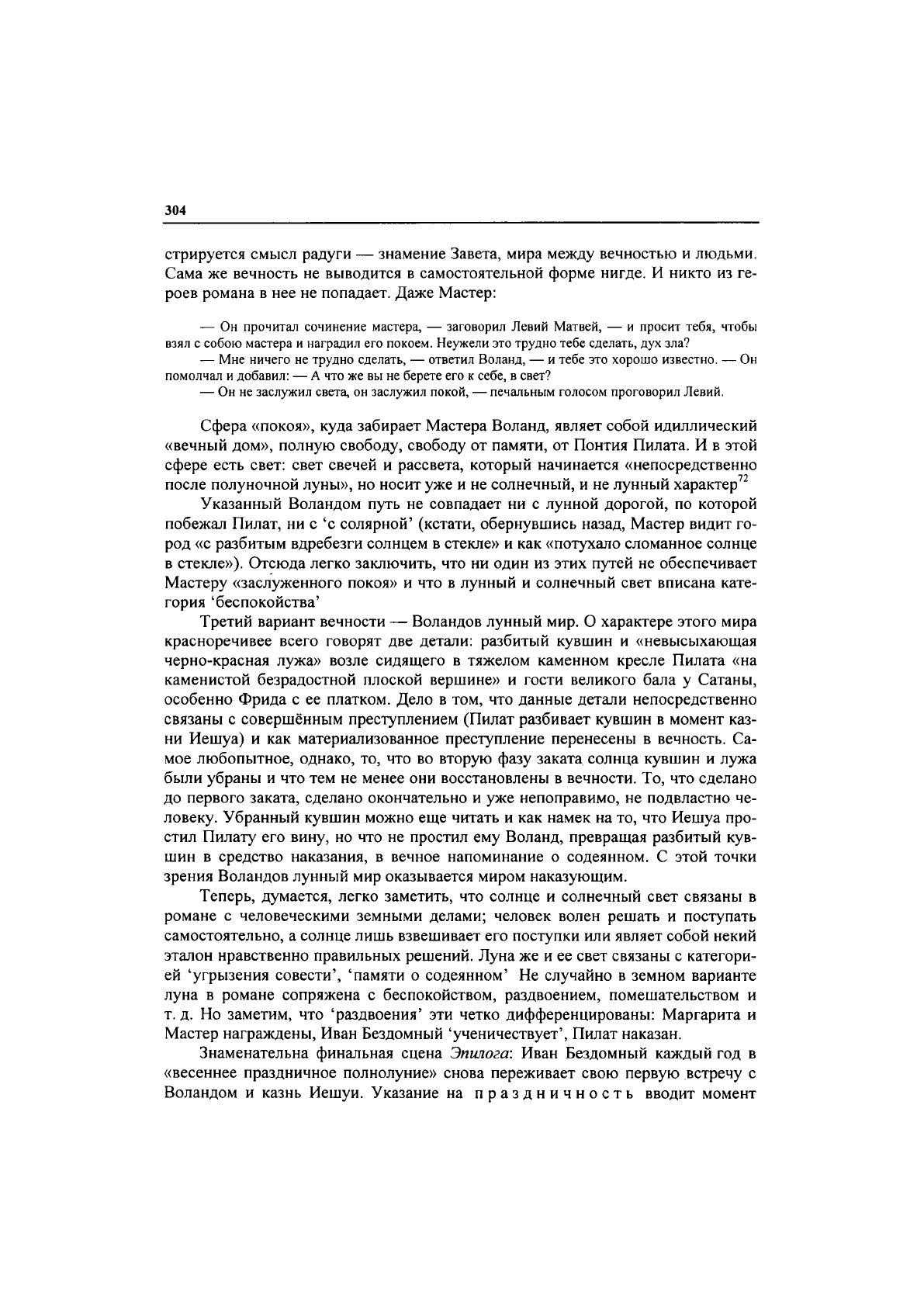
304
стрируется смысл радуги — знамение Завета, мира между вечностью и людьми.
Сама же вечность не выводится в самостоятельной форме нигде. И никто из ге-
роев романа в нее не попадает. Даже Мастер:
— Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы
взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
— Мне ничего не трудно сделать, — ответил Воланд, — и тебе это хорошо известно. — Он
помолчал и добавил: — А что же вы не берете его к себе, в свет?
— Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий.
Сфера «покоя», куда забирает Мастера Воланд, являет собой идиллический
«вечный дом», полную свободу, свободу от памяти, от Понтия Пилата. И в этой
сфере есть свет: свет свечей и рассвета, который начинается «непосредственно
после полуночной луны», но носит уже и не солнечный, и не лунный характер
72
Указанный Воландом путь не совпадает ни с лунной дорогой, по которой
побежал Пилат, ни с 'c солярной' (кстати, обернувшись назад, Мастер видит го-
род «с разбитым вдребезги солнцем в стекле» и как «потухало сломанное солнце
в стекле»). Отсюда легко заключить, что ни один из этих путей не обеспечивает
Мастеру «заслуженного покоя» и что в лунный и солнечный свет вписана кате-
гория 'беспокойства'
Третий вариант вечности — Воландов лунный мир. О характере этого мира
красноречивее всего говорят две детали: разбитый кувшин и «невысыхающая
черно-красная лужа» возле сидящего в тяжелом каменном кресле Пилата «на
каменистой безрадостной плоской вершине» и гости великого бала у Сатаны,
особенно Фрида с ее платком. Дело в том, что данные детали непосредственно
связаны с совершённым преступлением (Пилат разбивает кувшин в момент каз-
ни Иешуа) и как материализованное преступление перенесены в вечность. Са-
мое любопытное, однако, то, что во вторую фазу заката солнца кувшин и лужа
были убраны и что тем не менее они восстановлены в вечности. То, что сделано
до первого заката, сделано окончательно и уже непоправимо, не подвластно че-
ловеку. Убранный кувшин можно еще читать и как намек на то, что Иешуа про-
стил Пилату его вину, но что не простил ему Воланд, превращая разбитый кув-
шин в средство наказания, в вечное напоминание о содеянном. С этой точки
зрения Воландов лунный мир оказывается миром наказующим.
Теперь, думается, легко заметить, что солнце и солнечный свет связаны в
романе с человеческими земными делами; человек волен решать и поступать
самостоятельно, а солнце лишь взвешивает его поступки или являет собой некий
эталон нравственно правильных решений. Луна же и ее свет связаны с категори-
ей 'угрызения совести', 'памяти о содеянном' Не случайно в земном варианте
луна в романе сопряжена с беспокойством, раздвоением, помешательством и
т. д. Но заметим, что 'раздвоения' эти четко дифференцированы: Маргарита и
Мастер награждены, Иван Бездомный 'ученичествует', Пилат наказан.
Знаменательна финальная сцена Эпилога: Иван Бездомный каждый год в
«весеннее праздничное полнолуние» снова переживает свою первую встречу с
Воландом и казнь Иешуи. Указание на праздничность вводит момент
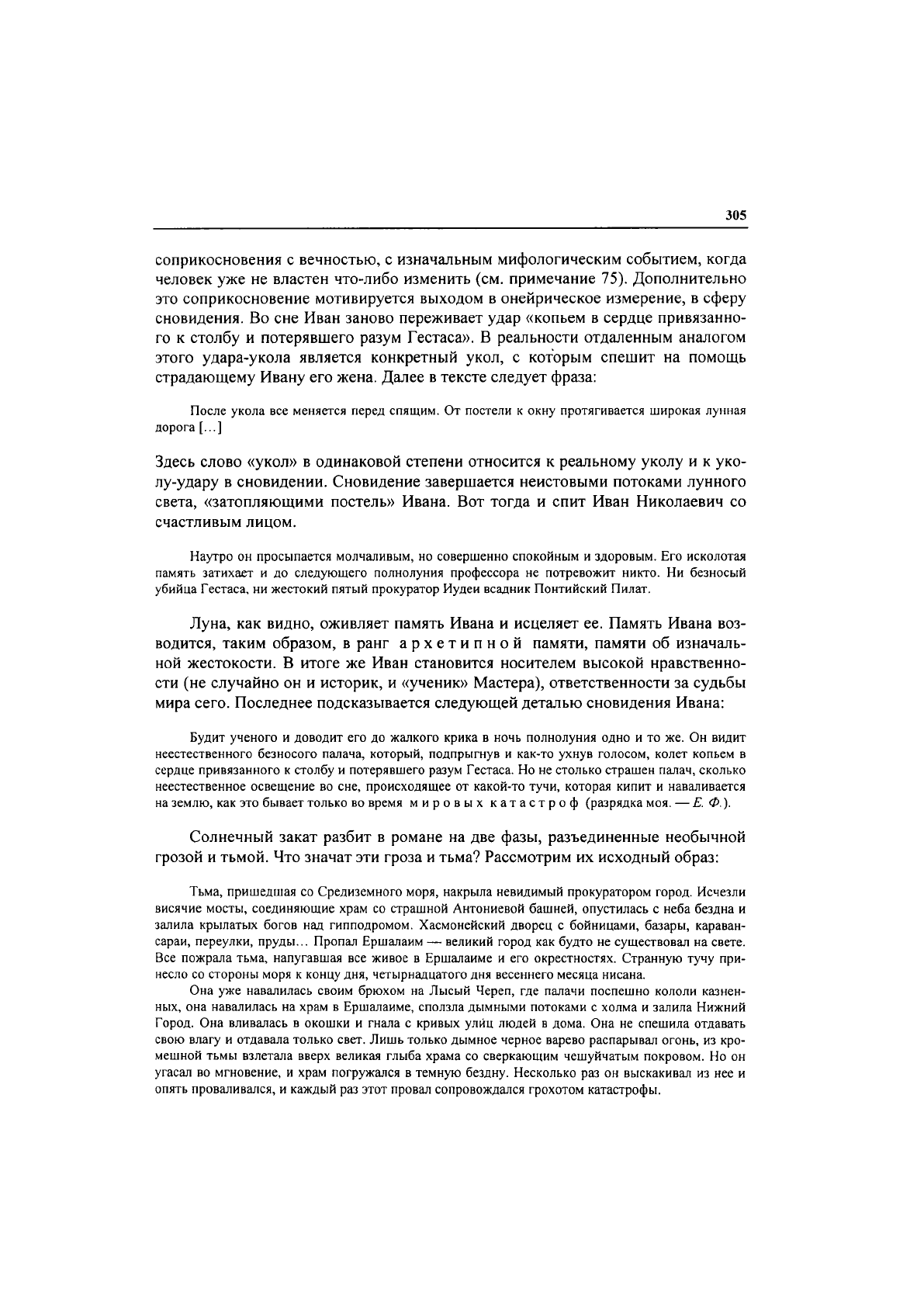
305
соприкосновения с вечностью, с изначальным мифологическим событием, когда
человек уже не властен что-либо изменить (см. примечание 75). Дополнительно
это соприкосновение мотивируется выходом в онейрическое измерение, в сферу
сновидения. Во сне Иван заново переживает удар «копьем в сердце привязанно-
го к столбу и потерявшего разум Гестаса». В реальности отдаленным аналогом
этого удара-укола является конкретный укол, с которым спешит на помощь
страдающему Ивану его жена. Далее в тексте следует фраза:
После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная
дорога [...]
Здесь слово «укол» в одинаковой степени относится к реальному уколу и к уко-
лу-удару в сновидении. Сновидение завершается неистовыми потоками лунного
света, «затопляющими постель» Ивана. Вот тогда и спит Иван Николаевич со
счастливым лицом.
Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая
память затихает и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый
убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат.
Луна, как видно, оживляет память Ивана и исцеляет ее. Память Ивана воз-
водится, таким образом, в ранг архетипной памяти, памяти об изначаль-
ной жестокости. В итоге же Иван становится носителем высокой нравственно-
сти (не случайно он и историк, и «ученик» Мастера), ответственности за судьбы
мира сего. Последнее подсказывается следующей деталью сновидения Ивана:
Будит ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит
неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в
сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько
неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается
на землю, как это бывает только во время мировых катастроф (разрядка моя. — Е. Ф.).
Солнечный закат разбит в романе на две фазы, разъединенные необычной
грозой и тьмой. Что значат эти гроза и тьма? Рассмотрим их исходный образ:
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла невидимый прокуратором город. Исчезли
висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и
залила крылатых богов над гипподромом. Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-
сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город как будто не существовал на свете.
Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу при-
несло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнен-
ных, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма и залила Нижний
Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улйц людей в дома. Она не спешила отдавать
свою влагу и отдавала только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из кро-
мешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он
угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он выскакивал из нее и
опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы.
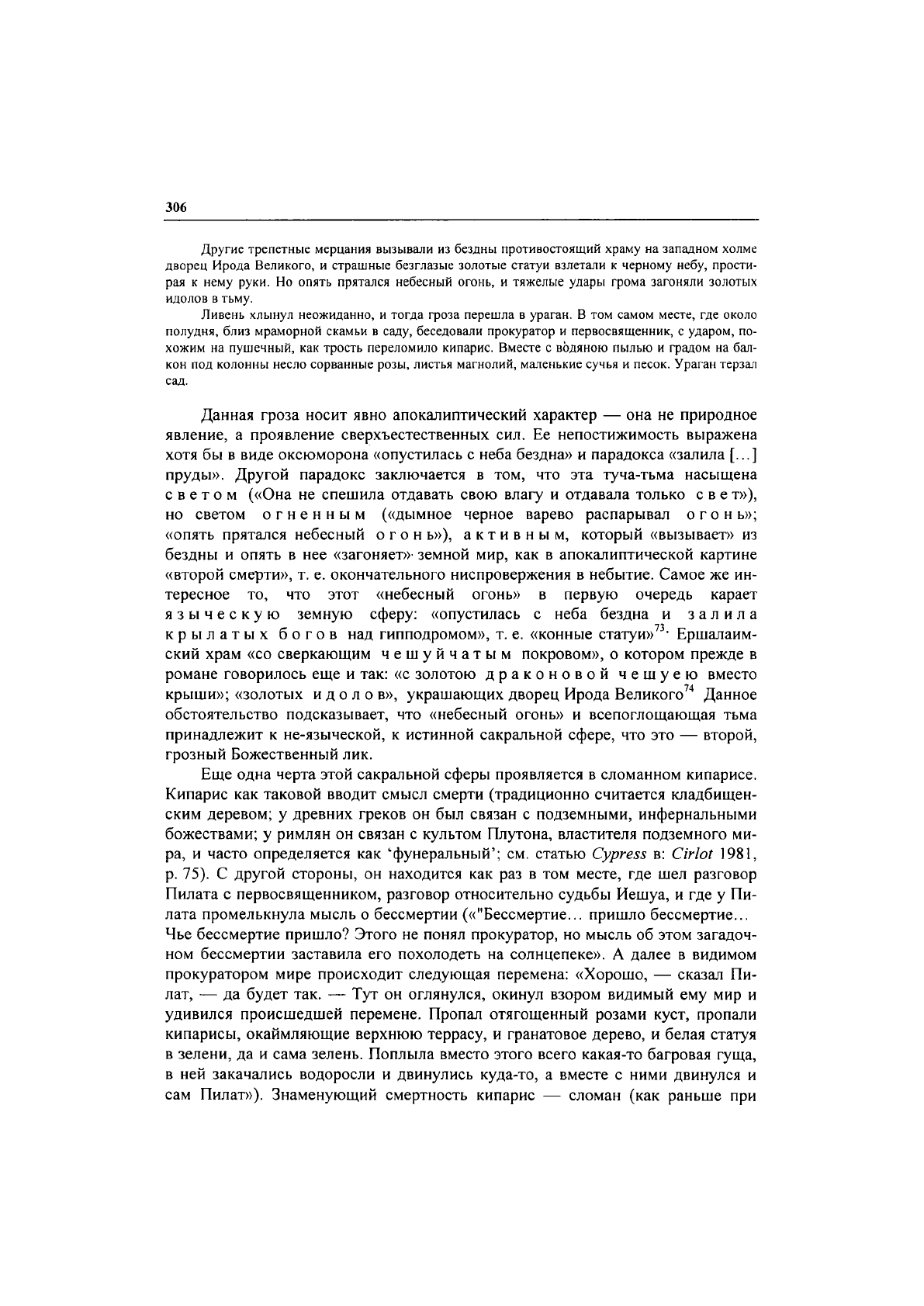
306
Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий храму на западном холме
дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, прости-
рая к нему руки. Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых
идолов в тьму.
Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около
полудня, близ мраморной скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, по-
хожим на пушечный, как трость переломило кипарис. Вместе с водяною пылью и градом на бал-
кон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок. Ураган терзал
сад.
Данная гроза носит явно апокалиптический характер — она не природное
явление, а проявление сверхъестественных сил. Ее непостижимость выражена
хотя бы в виде оксюморона «опустилась с неба бездна» и парадокса «залила [...]
пруды». Другой парадокс заключается в том, что эта туча-тьма насыщена
светом («Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только с в е т»),
но светом огненным («дымное черное варево распарывал огон ь»;
«опять прятался небесный огон ь»), активным, который «вызывает» из
бездны и опять в нее «загоняет» земной мир, как в апокалиптической картине
«второй смерти», т. е. окончательного ниспровержения в небытие. Самое же ин-
тересное то, что этот «небесный огонь» в первую очередь карает
языческую земную сферу: «опустилась с неба бездна и залила
крылатых богов над гипподромом», т. е. «конные статуи»
73,
Ершалаим-
ский храм «со сверкающим чешуйчатым покровом», о котором прежде в
романе говорилось еще и так: «с золотою драконовой чешуею вместо
крыши»; «золотых и д о л о в», украшающих дворец Ирода Великого
74
Данное
обстоятельство подсказывает, что «небесный огонь» и всепоглощающая тьма
принадлежит к не-языческой, к истинной сакральной сфере, что это — второй,
грозный Божественный лик.
Еще одна черта этой сакральной сферы проявляется в сломанном кипарисе.
Кипарис как таковой вводит смысл смерти (традиционно считается кладбищен-
ским деревом; у древних греков он был связан с подземными, инфернальными
божествами; у римлян он связан с культом Плутона, властителя подземного ми-
ра, и часто определяется как 'фунеральный'; см. статью Cypress в: Cirlot 1981,
р. 75). С другой стороны, он находится как раз в том месте, где шел разговор
Пилата с первосвященником, разговор относительно судьбы Иешуа, и где у Пи-
лата промелькнула мысль о бессмертии («"Бессмертие... пришло бессмертие...
Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадоч-
ном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке». А далее в видимом
прокуратором мире происходит следующая перемена: «Хорошо, — сказал Пи-
лат, — да будет так. — Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и
удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали
кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя
в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща,
в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и
сам Пилат»). Знаменующий смертность кипарис — сломан (как раньше при

307
мысли о бессмертии пропали опять-таки «кипарисы»; «розы», предположитель-
но иерихонские, т. е. символизирующие собой смерть и воскресение; «гранато-
вое дерево» с таким же смыслом смерти; «зелень» со смыслом земного прехо-
дящего, быстротечного бытия; «белая статуя», где 'белизна' может читаться как
знак 'смерти', а 'статуя' как знак 'неживого' или как знак 'ложного божества-
идола'; наконец, 'оглядка' — «он оглянулся», — отсылающая к библейской ог-
лядке Лотовой жены и вводящая смысл как наказания за неверие, так и более
общий — приобщение к смерти). А это означает, что сломанный кипарис есть
указание на власть над смертью, что этой сокрушительной силой грозной тучи
устранена смерть, что действительно тут дан знак бессмертия. Конечно, в
вечнозеленом кипарисе можно усматривать также и смысл как раз обратный —
вечности (равно как в иерихонских розах с их способностью 'воскресать'; в гра-
нате — с его символикой периодических возрождений; в статуе — с ее призна-
ком 'долговечности'; в зелени — с ее признаком 'жизни'), но вечности особой.
Дело в том, что завершающий грозу ураган несет розы, листья магнолий, ма-
ленькие сучья вместе с водяной пылью и песком. Пыль и песок, а отчасти и во-
да, — знаки' преходящего бренного мира, знаки темпоральности. Обрамление
остальных элементов упоминания о пыли и песке и их расположение в одном
ряду говорит о том, что приписываемый этим элементам (розам, зелени, а также
кипарису) смысл вечности — не истенен, что это лишь мнимые знаки вечности
(равносильные языческим идолам). Перед Пилатом демонстрируется бренность
всего земного и грозное лицо Бессмертия.
После урагана снова появляется солнце. В московских вариантах грозы, на-
блюдаемых Иваном, Мастером, Маргаритой, Воландом, эта фаза заката помече-
на знамением Завета — радугой. В случае Пилата радуга отсутствует, а солнеч-
ные лучи не доходят до площадки, на которой сидит Пилат:
В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем уйти и утонуть в Средиземном мо-
ре, посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу и золотило ступени
балкона (разрядка моя. — Е. Ф.)
Свой мирный лик сакральная вечность кажет только Ершалаиму, Пилат же
обречен и низвергнут в бездну (доказательство этому — перенесенные в веч-
ность разбитый кувшин и черно-красная лужа). Межзакатная тьма — это тот
предел, за которым ничего уже не меняется и ничего из содеянного нельзя ис-
править. Сомневаться и поправлять можно лишь в период всего солнечного
цикла от восхода до первой фазы заката. Этот период построен в романе как
время испытания свободной воли человека. Поэтому тут солнце всегда неумо-
лимо поднимается к зениту и клонится к закату и поэтому оно распространяет
невыносимый жар.
После грозы ничего не меняется и человек не властен что-либо изменить.
Попытки Пилата исправить свою ошибку уже безуспешны. Даже в окружающем
его ершалаимском мире наступает свое восстановление"вечности, контакт с пер-
возданным миропорядком — наступил в этом мире субботний праздник, момент
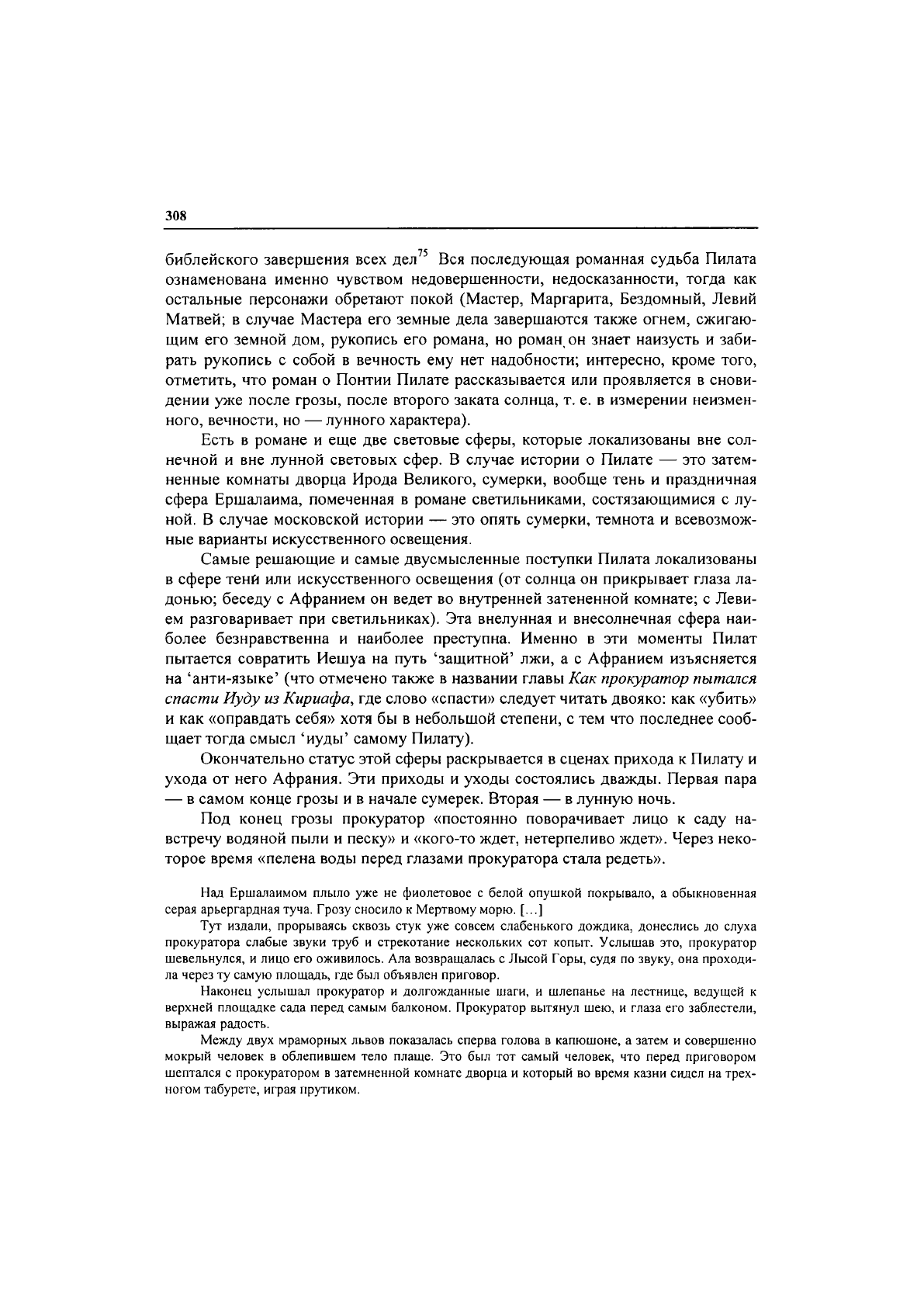
308
библейского завершения всех дел
75
Вся последующая романная судьба Пилата
ознаменована именно чувством недовершенности, недосказанности, тогда как
остальные персонажи обретают покой (Мастер, Маргарита, Бездомный, Левий
Матвей; в случае Мастера его земные дела завершаются также огнем, сжигаю-
щим его земной дом, рукопись его романа, но роман он знает наизусть и заби-
рать рукопись с собой в вечность ему нет надобности; интересно, кроме того,
отметить, что роман о Понтии Пилате рассказывается или проявляется в снови-
дении уже после грозы, после второго заката солнца, т. е. в измерении неизмен-
ного, вечности, но — лунного характера).
Есть в романе и еще две световые сферы, которые локализованы вне сол-
нечной и вне лунной световых сфер. В случае истории о Пилате — это затем-
ненные комнаты дворца Ирода Великого, сумерки, вообще тень и праздничная
сфера Ершалаима, помеченная в романе светильниками, состязающимися с лу-
ной. В случае московской истории — это опять сумерки, темнота и всевозмож-
ные варианты искусственного освещения.
Самые решающие и самые двусмысленные поступки Пилата локализованы
в сфере тенй или искусственного освещения (от солнца он прикрывает глаза ла-
донью; беседу с Афранием он ведет во внутренней затененной комнате; с Леви-
ем разговаривает при светильниках). Эта внелунная и внесолнечная сфера наи-
более безнравственна и наиболее преступна. Именно в эти моменты Пилат
пытается совратить Иешуа на путь 'защитной' лжи, а с Афранием изъясняется
на 'анти-языке' (что отмечено также в названии главы Как прокуратор пытался
спасти Иуду из Кириафа, где слово «спасти» следует читать двояко: как «убить»
и как «оправдать себя» хотя бы в небольшой степени, с тем что последнее сооб-
щает тогда смысл 'иуды' самому Пилату).
Окончательно статус этой сферы раскрывается в сценах прихода к Пилату и
ухода от него Афрания. Эти приходы и уходы состоялись дважды. Первая пара
— в самом конце грозы и в начале сумерек. Вторая — в лунную ночь.
Под конец грозы прокуратор «постоянно поворачивает лицо к саду на-
встречу водяной пыли и песку» и «кого-то ждет, нетерпеливо ждет». Через неко-
торое время «пелена воды перед глазами прокуратора стала редеть».
Над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная
серая арьергардная туча. Грозу сносило к Мертвому морю. [...]
Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дождика, донеслись до слуха
прокуратора слабые звуки труб и стрекотание нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор
шевельнулся, и лицо его оживилось. Ала возвращалась с Лысой Горы, судя по звуку, она проходи-
ла через ту самую площадь, где был объявлен приговор.
Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги, и шлепанье на лестнице, ведущей к
верхней площадке сада перед самым балконом. Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблестели,
выражая радость.
Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и совершенно
мокрый человек в облепившем тело плаще. Это был тот самый человек, что перед приговором
шептался с прокуратором в затемненной комнате дворца и который во время казни сидел на трех-
ногом табурете, играя прутиком.
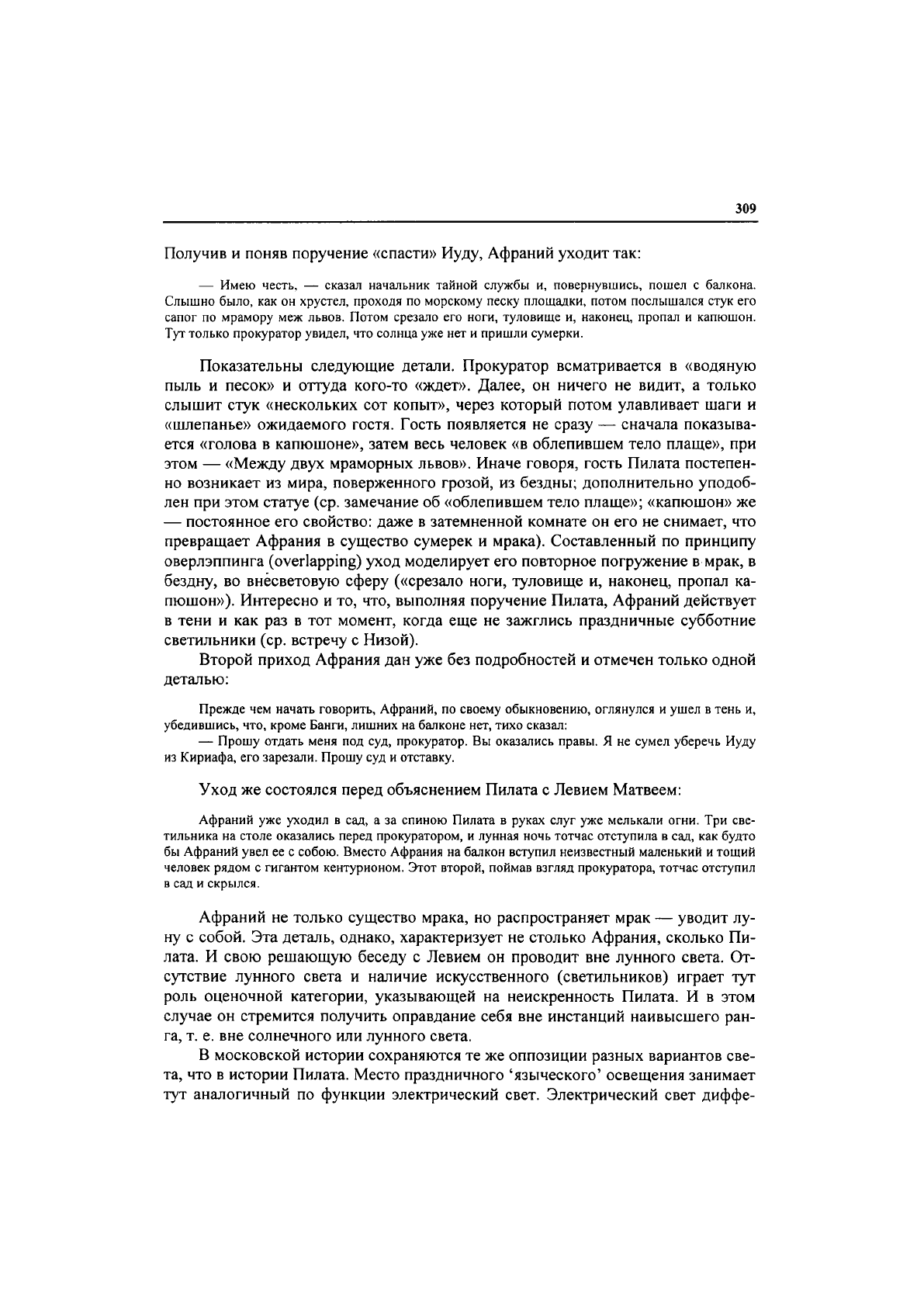
309
Получив и поняв поручение «спасти» Иуду, Афраний уходит так:
— Имею честь, — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балкона.
Слышно было, как он хрустел, проходя по морскому песку площадки, потом послышался стук его
сапог по мрамору меж львов. Потом срезало его ноги, туловище и, наконец, пропал и капюшон.
Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки.
Показательны следующие детали. Прокуратор всматривается в «водяную
пыль и песок» и оттуда кого-то «ждет». Далее, он ничего не видит, а только
слышит стук «нескольких сот копыт», через который потом улавливает шаги и
«шлепанье» ожидаемого гостя. Гость появляется не сразу — сначала показыва-
ется «голова в капюшоне», затем весь человек «в облепившем тело плаще», при
этом — «Между двух мраморных львов». Иначе говоря, гость Пилата постепен-
но возникает из мира, поверженного грозой, из бездны; дополнительно уподоб-
лен при этом статуе (ср. замечание об «облепившем тело плаще»; «капюшон» же
— постоянное его свойство: даже в затемненной комнате он его не снимает, что
превращает Афрания в существо сумерек и мрака). Составленный по принципу
оверлэппинга (overlapping) уход моделирует его повторное погружение в мрак, в
бездну, во внёсветовую сферу («срезало ноги, туловище и, наконец, пропал ка-
пюшон»). Интересно и то, что, выполняя поручение Пилата, Афраний действует
в тени и как раз в тот момент, когда еще не зажглись праздничные субботние
светильники (ср. встречу с Низой).
Второй приход Афрания дан уже без подробностей и отмечен только одной
деталью:
Прежде чем начать говорить, Афраний, по своему обыкновению, оглянулся и ушел в тень и,
убедившись, что, кроме Банги, лишних на балконе нет, тихо сказал:
— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду
из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку.
Уход же состоялся перед объяснением Пилата с Левием Матвеем:
Афраний уже уходил в сад, а за спиною Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три све-
тильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто
бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий
человек рядом с гигантом кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил
в сад и скрылся.
Афраний не только существо мрака, но распространяет мрак — уводит лу-
ну с собой. Эта деталь, однако, характеризует не столько Афрания, сколько Пи-
лата. И свою решающую беседу с Левием он проводит вне лунного света. От-
сутствие лунного света и наличие искусственного (светильников) играет тут
роль оценочной категории, указывающей на неискренность Пилата. И в этом
случае он стремится получить оправдание себя вне инстанций наивысшего ран-
га, т. е. вне солнечного или лунного света.
В московской истории сохраняются те же оппозиции разных вариантов све-
та, что в истории Пилата. Место праздничного 'языческого' освещения занимает
тут аналогичный по функции электрический свет. Электрический свет диффе-
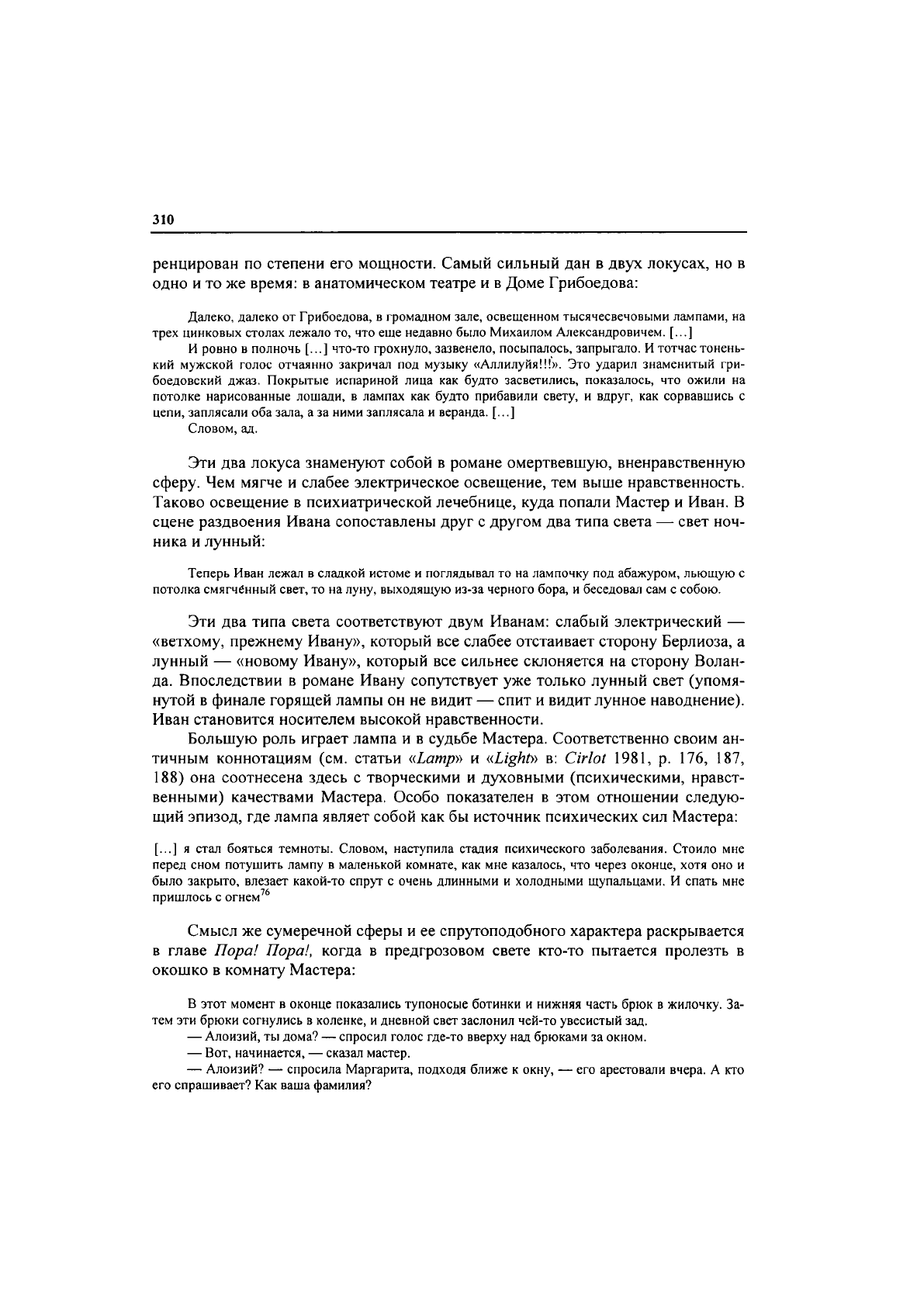
310
ренцирован по степени его мощности. Самый сильный дан в двух локусах, но в
одно и то же время: в анатомическом театре и в Доме Грибоедова:
Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на
трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. [...]
И ровно в полночь [...] что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тонень-
кий мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!!!». Это ударил знаменитый гри-
боедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на
потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как сорвавшись с
цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. [...]
Словом, ад.
Эти два локуса знаменуют собой в романе омертвевшую, вненравственную
сферу. Чем мягче и слабее электрическое освещение, тем выше нравственность.
Таково освещение в психиатрической лечебнице, куда попали Мастер и Иван. В
сцене раздвоения Ивана сопоставлены друг с другом два типа света — свет ноч-
ника и лунный:
Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с
потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бора, и беседовал сам с собою.
Эти два типа света соответствуют двум Иванам: слабый электрический —
«ветхому, прежнему Ивану», который все слабее отстаивает сторону Берлиоза, а
лунный — «новому Ивану», который все сильнее склоняется на сторону Волан-
да. Впоследствии в романе Ивану сопутствует уже только лунный свет (упомя-
нутой в финале горящей лампы он не видит — спит и видит лунное наводнение).
Иван становится носителем высокой нравственности.
Большую роль играет лампа и в судьбе Мастера. Соответственно своим ан-
тичным коннотациям (см. статьи «Lamp» и «Light» в: Cirlot 1981, р. 176, 187,
188) она соотнесена здесь с творческими и духовными (психическими, нравст-
венными) качествами Мастера. Особо показателен в этом отношении следую-
щий эпизод, где лампа являет собой как бы источник психических сил Мастера:
[...] я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне
перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и
было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне
пришлось с огнем
76
Смысл же сумеречной сферы и ее спрутоподобного характера раскрывается
в главе Пора! Пора!, когда в предгрозовом свете кто-то пытается пролезть в
окошко в комнату Мастера:
В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. За-
тем эти брюки согнулись в коленке, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.
— Алоизий, ты дома? — спросил голос где-то вверху над брюками за окном.
— Вот, начинается, — сказал мастер.
— Алоизий? — спросила Маргарита, подходя ближе к окну, — его арестовали вчера. А кто
его спрашивает? Как ваша фамилия?
