Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

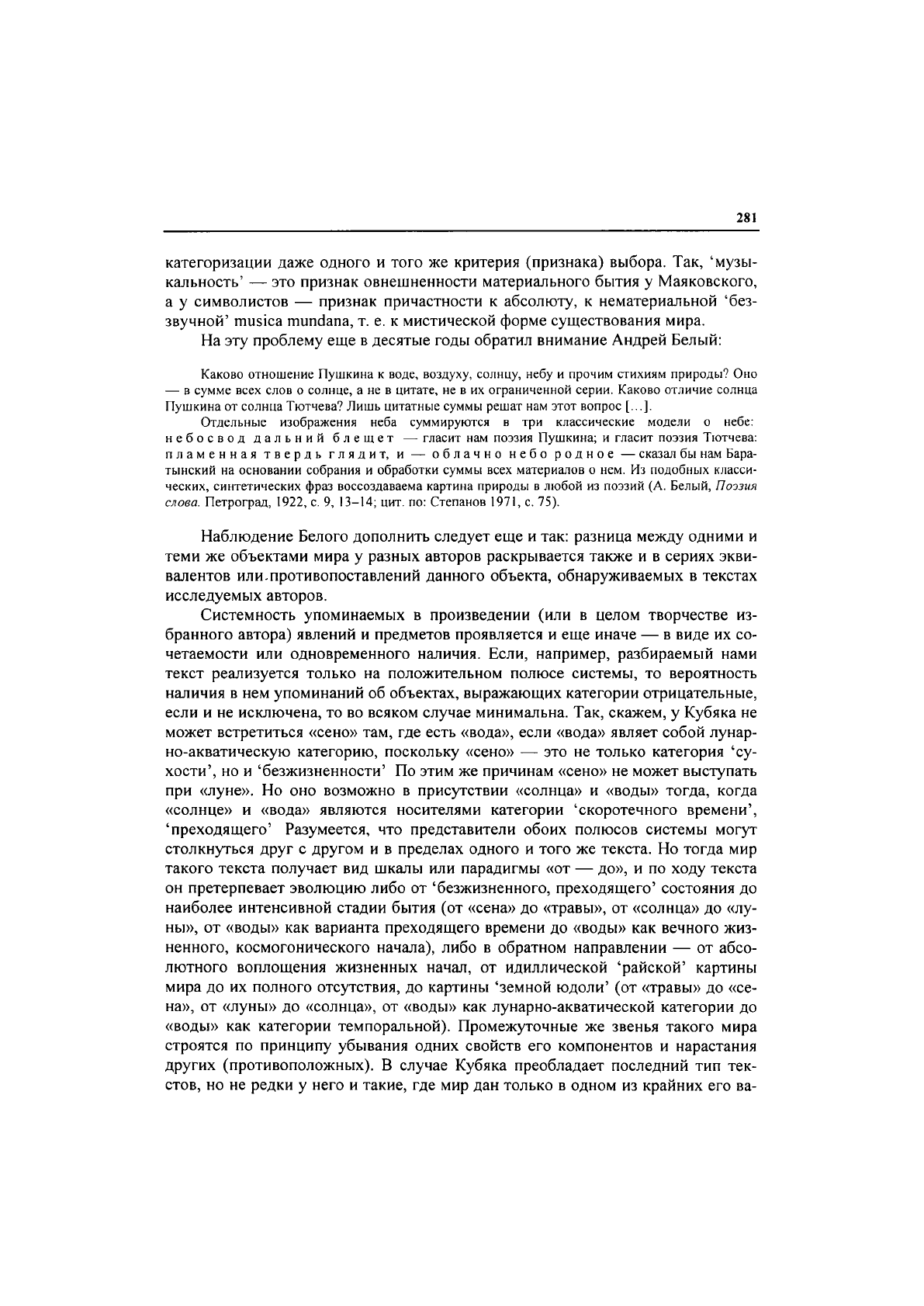
281
категоризации даже одного и того же критерия (признака) выбора. Так, 'музы-
кальность' — это признак овнешненности материального бытия у Маяковского,
а у символистов — признак причастности к абсолюту, к нематериальной 'без-
звучной' musica mundana, т. е. к мистической форме существования мира.
На эту проблему еще в десятые годы обратил внимание Андрей Белый:
Каково отношение Пушкина к воде, воздуху, солнцу, небу и прочим стихиям природы? Оно
— в сумме всех слов о солнце, а не в цитате, не в их ограниченной серии. Каково отличие солнца
Пушкина от солнца Тютчева? Лишь цитатные суммы решат нам этот вопрос [...].
Отдельные изображения неба суммируются в три классические модели о небе:
небосвод дальний блещет — гласит нам поэзия Пушкина; и гласит поэзия Тютчева:
пламенная твердь глядит, и — облачно небо родное — сказал бы нам Бара-
тынский на основании собрания и обработки суммы всех материалов о нем. Из подобных класси-
ческих, синтетических фраз воссоздаваема картина природы в любой из поэзий (А. Белый, Поэзия
слова. Петроград, 1922, с. 9, 13-14; цит. по: Степанов 1971, с. 75).
Наблюдение Белого дополнить следует еще и так: разница между одними и
теми же объектами мира у разных авторов раскрывается также и в сериях экви-
валентов или-противопоставлений данного объекта, обнаруживаемых в текстах
исследуемых авторов.
Системность упоминаемых в произведении (или в целом творчестве из-
бранного автора) явлений и предметов проявляется и еще иначе — в виде их со-
четаемости или одновременного наличия. Если, например, разбираемый нами
текст реализуется только на положительном полюсе системы, то вероятность
наличия в нем упоминаний об объектах, выражающих категории отрицательные,
если и не исключена, то во всяком случае минимальна. Так, скажем, у Кубяка не
может встретиться «сено» там, где есть «вода», если «вода» являет собой лунар-
но-акватическую категорию, поскольку «сено» — это не только категория 'су-
хости', но и 'безжизненности' По этим же причинам «сено» не может выступать
при «луне». Но оно возможно в присутствии «солнца» и «воды» тогда, когда
«солнце» и «вода» являются носителями категории 'скоротечного времени',
'преходящего' Разумеется, что представители обоих полюсов системы могут
столкнуться друг с другом и в пределах одного и того же текста. Но тогда мир
такого текста получает вид шкалы или парадигмы «от — до», и по ходу текста
он претерпевает эволюцию либо от 'безжизненного, преходящего' состояния до
наиболее интенсивной стадии бытия (от «сена» до «травы», от «солнца» до «лу-
ны», от «воды» как варианта преходящего времени до «воды» как вечного жиз-
ненного, космогонического начала), либо в обратном направлении — от абсо-
лютного воплощения жизненных начал, от идиллической 'райской' картины
мира до их полного отсутствия, до картины 'земной юдоли' (от «травы» до «се-
на», от «луны» до «солнца», от «воды» как лунарно-акватической категории до
«воды» как категории темпоральной). Промежуточные же звенья такого мира
строятся по принципу убывания одних свойств его компонентов и нарастания
других (противоположных). В случае Кубяка преобладает последний тип тек-
стов, но не редки у него и такие, где мир дан только в одном из крайних его ва-
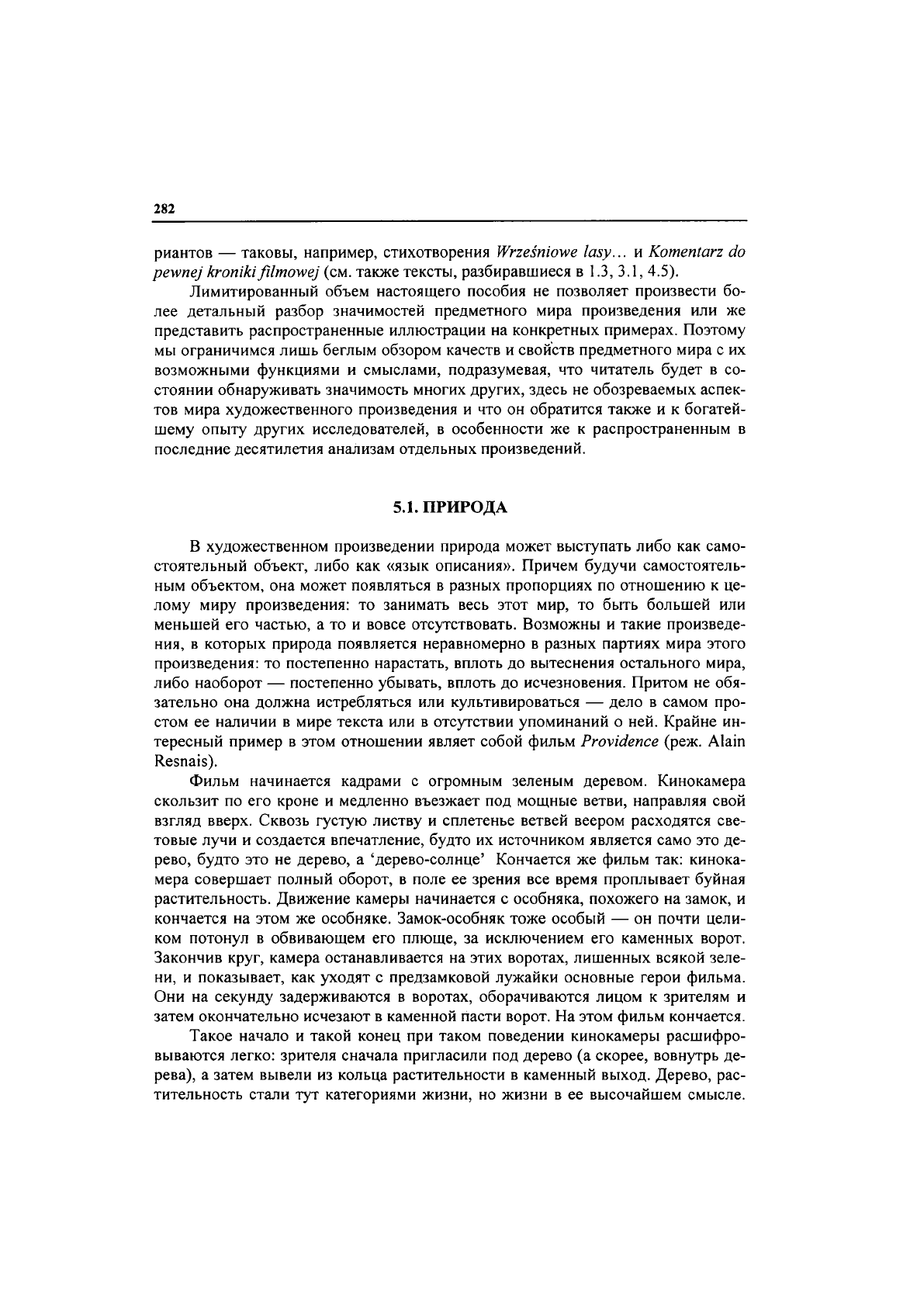
282
риантов — таковы, например, стихотворения Wrześniowe lasy... и Komentarz do
pewnej kroniki filmowej (см. также тексты, разбиравшиеся в 1.3, 3.1, 4.5).
Лимитированный объем настоящего пособия не позволяет произвести бо-
лее детальный разбор значимостей предметного мира произведения или же
представить распространенные иллюстрации на конкретных примерах. Поэтому
мы ограничимся лишь беглым обзором качеств и свойств предметного мира с их
возможными функциями и смыслами, подразумевая, что читатель будет в со-
стоянии обнаруживать значимость многих других, здесь не обозреваемых аспек-
тов мира художественного произведения и что он обратится также и к богатей-
шему опыту других исследователей, в особенности же к распространенным в
последние десятилетия анализам отдельных произведений.
5.1. ПРИРОДА
В художественном произведении природа может выступать либо как само-
стоятельный объект, либо как «язык описания». Причем будучи самостоятель-
ным объектом, она может появляться в разных пропорциях по отношению к це-
лому миру произведения: то занимать весь этот мир, то быть большей или
меньшей его частью, а то и вовсе отсутствовать. Возможны и такие произведе-
ния, в которых природа появляется неравномерно в разных партиях мира этого
произведения: то постепенно нарастать, вплоть до вытеснения остального мира,
либо наоборот — постепенно убывать, вплоть до исчезновения. Притом не обя-
зательно она должна истребляться или культивироваться — дело в самом про-
стом ее наличии в мире текста или в отсутствии упоминаний о ней. Крайне ин-
тересный пример в этом отношении являет собой фильм Providence (реж. Alain
Resnais).
Фильм начинается кадрами с огромным зеленым деревом. Кинокамера
скользит по его кроне и медленно въезжает под мощные ветви, направляя свой
взгляд вверх. Сквозь густую листву и сплетенье ветвей веером расходятся све-
товые лучи и создается впечатление, будто их источником является само это де-
рево, будто это не дерево, а 'дерево-солнце' Кончается же фильм так: кинока-
мера совершает полный оборот, в поле ее зрения все время проплывает буйная
растительность. Движение камеры начинается с особняка, похожего на замок, и
кончается на этом же особняке. Замок-особняк тоже особый — он почти цели-
ком потонул в обвивающем его плюще, за исключением его каменных ворот.
Закончив круг, камера останавливается на этих воротах, лишенных всякой зеле-
ни, и показывает, как уходят с предзамковой лужайки основные герои фильма.
Они на секунду задерживаются в воротах, оборачиваются лицом к зрителям и
затем окончательно исчезают в каменной пасти ворот. На этом фильм кончается.
Такое начало и такой конец при таком поведении кинокамеры расшифро-
вываются легко: зрителя сначала пригласили под дерево (а скорее, вовнутрь де-
рева), а затем вывели из кольца растительности в каменный выход. Дерево, рас-
тительность стали тут категориями жизни, но жизни в ее высочайшем смысле.
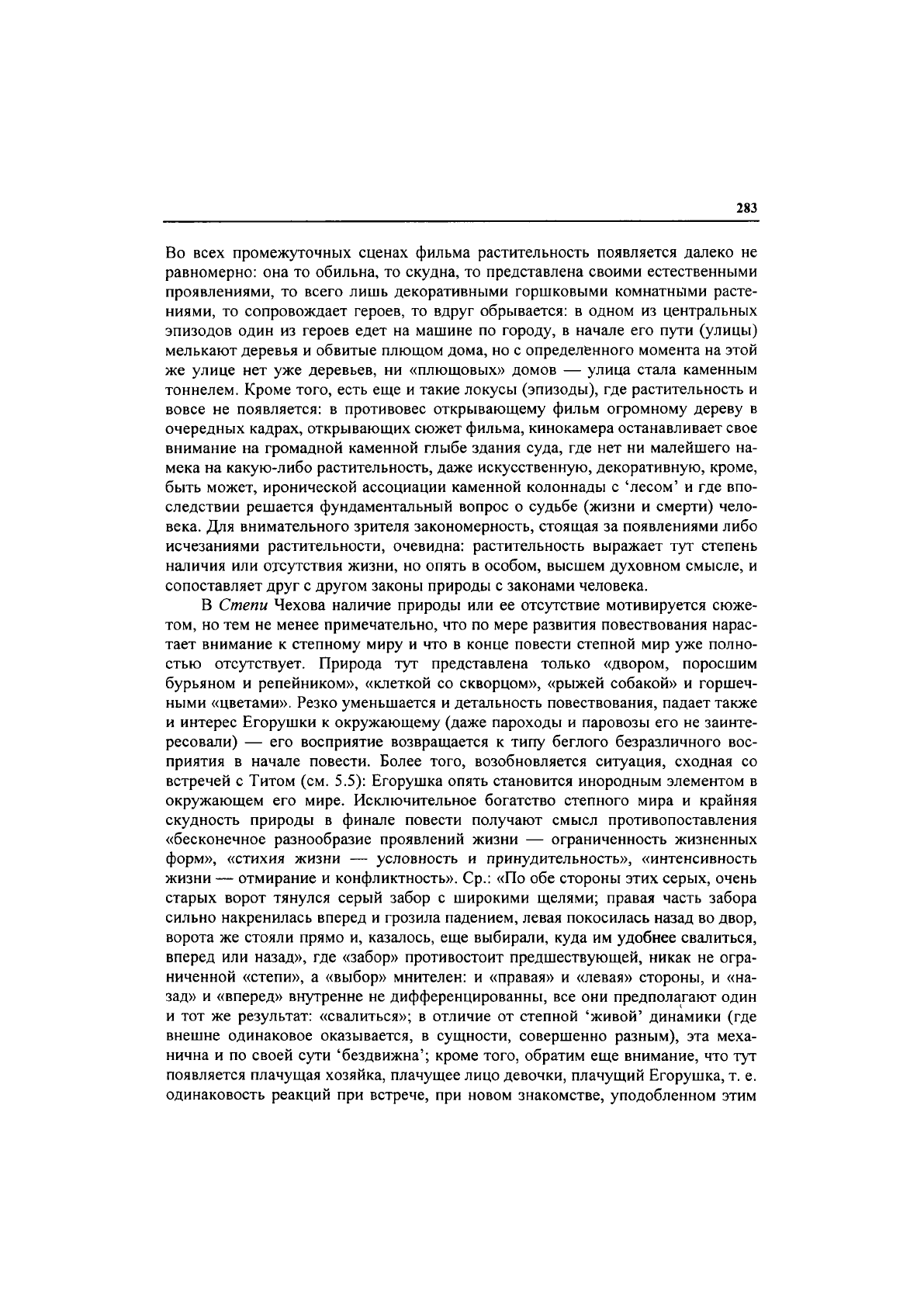
283
Во всех промежуточных сценах фильма растительность появляется далеко не
равномерно: она то обильна, то скудна, то представлена своими естественными
проявлениями, то всего лишь декоративными горшковыми комнатными расте-
ниями, то сопровождает героев, то вдруг обрывается: в одном из центральных
эпизодов один из героев едет на машине по городу, в начале его пути (улицы)
мелькают деревья и обвитые плющом дома, но с определённого момента на этой
же улице нет уже деревьев, ни «плющовых» домов — улица стала каменным
тоннелем. Кроме того, есть еще и такие локусы (эпизоды), где растительность и
вовсе не появляется: в противовес открывающему фильм огромному дереву в
очередных кадрах, открывающих сюжет фильма, кинокамера останавливает свое
внимание на громадной каменной глыбе здания суда, где нет ни малейшего на-
мека на какую-либо растительность, даже искусственную, декоративную, кроме,
быть может, иронической ассоциации каменной колоннады с 'лесом' и где впо-
следствии решается фундаментальный вопрос о судьбе (жизни и смерти) чело-
века. Для внимательного зрителя закономерность, стоящая за появлениями либо
исчезаниями растительности, очевидна: растительность выражает тут степень
наличия или отсутствия жизни, но опять в особом, высшем духовном смысле, и
сопоставляет друг с другом законы природы с законами человека.
В Степи Чехова наличие природы или ее отсутствие мотивируется сюже-
том, но тем не менее примечательно, что по мере развития повествования нарас-
тает внимание к степному миру и что в конце повести степной мир уже полно-
стью отсутствует. Природа тут представлена только «двором, поросшим
бурьяном и репейником», «клеткой со скворцом», «рыжей собакой» и горшеч-
ными «цветами». Резко уменьшается и детальность повествования, падает также
и интерес Егорушки к окружающему (даже пароходы и паровозы его не заинте-
ресовали) — его восприятие возвращается к типу беглого безразличного вос-
приятия в начале повести. Более того, возобновляется ситуация, сходная со
встречей с Титом (см. 5.5): Егорушка опять становится инородным элементом в
окружающем его мире. Исключительное богатство степного мира и крайняя
скудность природы в финале повести получают смысл противопоставления
«бесконечное разнообразие проявлений жизни — ограниченность жизненных
форм», «стихия жизни — условность и принудительность», «интенсивность
жизни — отмирание и конфликтность». Ср.: «По обе стороны этих серых, очень
старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора
сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор,
ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться,
вперед или назад», где «забор» противостоит предшествующей, никак не огра-
ниченной «степи», а «выбор» мнителен: и «правая» и «левая» стороны, и «на-
зад» и «вперед» внутренне не дифференцированны, все они предполагают один
и тот же результат: «свалиться»; в отличие от степной 'живой' динамики (где
внешне одинаковое оказывается, в сущности, совершенно разным), эта меха-
нична и по своей сути 'бездвижна'; кроме того, обратим еще внимание, что тут
появляется плачущая хозяйка, плачущее лицо девочки, плачущий Егорушка, т. е.
одинаковость реакций при встрече, при новом знакомстве, уподобленном этим
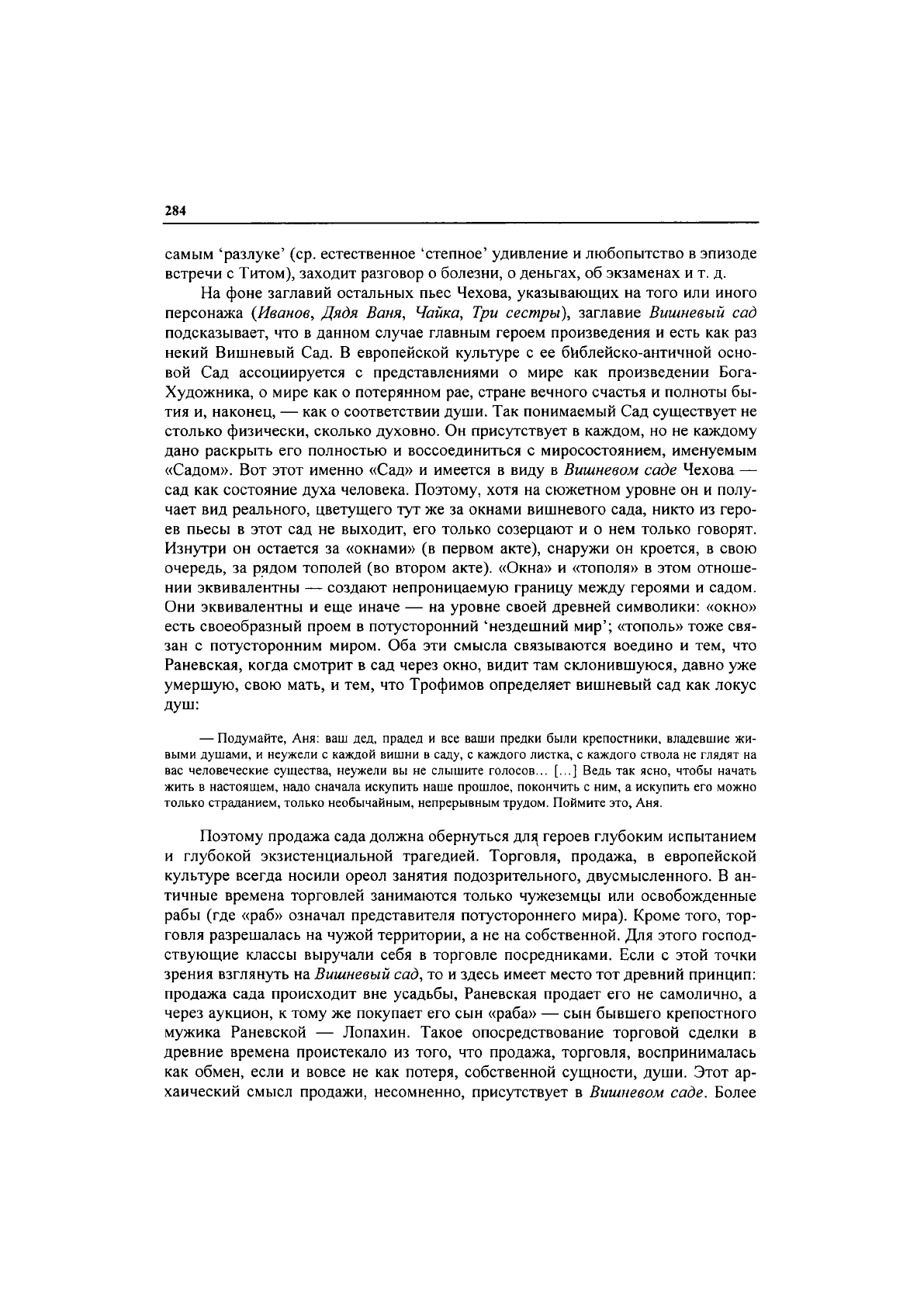
284
самым 'разлуке' (ср. естественное 'степное' удивление и любопытство в эпизоде
встречи с Титом), заходит разговор о болезни, о деньгах, об экзаменах и т. д.
На фоне заглавий остальных пьес Чехова, указывающих на того или иного
персонажа {Иванов, Дядя Ваня, Чайка, Три сестры), заглавие Вишневый сад
подсказывает, что в данном случае главным героем произведения и есть как раз
некий Вишневый Сад. В европейской культуре с ее бйблейско-античной осно-
вой Сад ассоциируется с представлениями о мире как произведении Бога-
Художника, о мире как о потерянном рае, стране вечного счастья и полноты бы-
тия и, наконец, — как о соответствии души. Так понимаемый Сад существует не
столько физически, сколько духовно. Он присутствует в каждом, но не каждому
дано раскрыть его полностью и воссоединиться с миросостоянием, именуемым
«Садом». Вот этот именно «Сад» и имеется в виду в Вишневом саде Чехова —
сад как состояние духа человека. Поэтому, хотя на сюжетном уровне он и полу-
чает вид реального, цветущего тут же за окнами вишневого сада, никто из геро-
ев пьесы в этот сад не выходит, его только созерцают и о нем только говорят.
Изнутри он остается за «окнами» (в первом акте), снаружи он кроется, в свою
очередь, за рядом тополей (во втором акте). «Окна» и «тополя» в этом отноше-
нии эквивалентны — создают непроницаемую границу между героями и садом.
Они эквивалентны и еще иначе — на уровне своей древней символики: «окно»
есть своеобразный проем в потусторонний 'нездешний мир'; «тополь» тоже свя-
зан с потусторонним миром. Оба эти смысла связываются воедино и тем, что
Раневская, когда смотрит в сад через окно, видит там склонившуюся, давно уже
умершую, свою мать, и тем, что Трофимов определяет вишневый сад как локус
душ:
— Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие жи-
выми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на
вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... [...] Ведь так ясно, чтобы начать
жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно
только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
Поэтому продажа сада должна обернуться дл^ героев глубоким испытанием
и глубокой экзистенциальной трагедией. Торговля, продажа, в европейской
культуре всегда носили ореол занятия подозрительного, двусмысленного. В ан-
тичные времена торговлей занимаются только чужеземцы или освобожденные
рабы (где «раб» означал представителя потустороннего мира). Кроме того, тор-
говля разрешалась на чужой территории, а не на собственной. Для этого господ-
ствующие классы выручали себя в торговле посредниками. Если с этой точки
зрения взглянуть на Вишневый сад, то и здесь имеет место тот древний принцип:
продажа сада происходит вне усадьбы, Раневская продает его не самолично, а
через аукцион, к тому же покупает его сын «раба» — сын бывшего крепостного
мужика Раневской — Лопахин. Такое опосредствование торговой сделки в
древние времена проистекало из того, что продажа, торговля, воспринималась
как обмен, если и вовсе не как потеря, собственной сущности, души. Этот ар-
хаический смысл продажи, несомненно, присутствует в Вишневом саде. Более
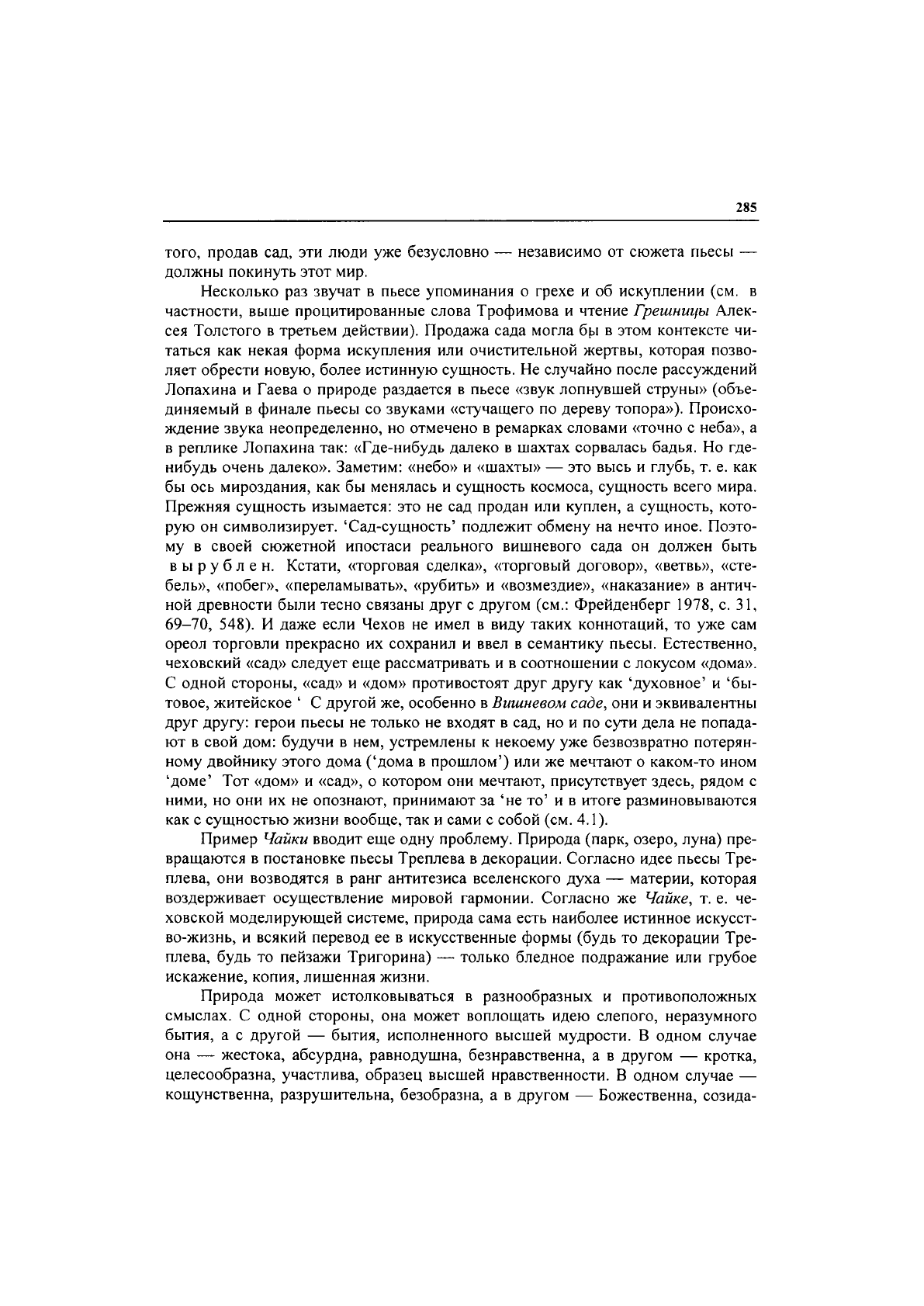
285
того, продав сад, эти люди уже безусловно — независимо от сюжета пьесы —
должны покинуть этот мир.
Несколько раз звучат в пьесе упоминания о грехе и об искуплении (см. в
частности, выше процитированные слова Трофимова и чтение Грешницы Алек-
сея Толстого в третьем действии). Продажа сада могла б^і в этом контексте чи-
таться как некая форма искупления или очистительной жертвы, которая позво-
ляет обрести новую, более истинную сущность. Не случайно после рассуждений
Лопахина и Гаева о природе раздается в пьесе «звук лопнувшей струны» (объе-
диняемый в финале пьесы со звуками «стучащего по дереву топора»). Происхо-
ждение звука неопределенно, но отмечено в ремарках словами «точно с неба», а
в реплике Лопахина так: «Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-
нибудь очень далеко». Заметим: «небо» и «шахты» — это высь и глубь, т. е. как
бы ось мироздания, как бы менялась и сущность космоса, сущность всего мира.
Прежняя сущность изымается: это не сад продан или куплен, а сущность, кото-
рую он символизирует. 'Сад-сущность' подлежит обмену на нечто иное. Поэто-
му в своей сюжетной ипостаси реального вишневого сада он должен быть
вырублен. Кстати, «торговая сделка», «торговый договор», «ветвь», «сте-
бель», «побег», «переламывать», «рубить» и «возмездие», «наказание» в антич-
ной древности были тесно связаны друг с другом (см.: Фрейденберг 1978, с. 31,
69-70, 548). И даже если Чехов не имел в виду таких коннотаций, то уже сам
ореол торговли прекрасно их сохранил и ввел в семантику пьесы. Естественно,
чеховский «сад» следует еще рассматривать и в соотношении с локусом «дома».
С одной стороны, «сад» и «дом» противостоят друг другу как 'духовное' и 'бы-
товое, житейское ' С другой же, особенно в Вишневом саде, они и эквивалентны
друг другу: герои пьесы не только не входят в сад, но и по сути дела не попада-
ют в свой дом: будучи в нем, устремлены к некоему уже безвозвратно потерян-
ному двойнику этого дома ('дома в прошлом') или же мечтают о каком-то ином
'доме' Тот «дом» и «сад», о котором они мечтают, присутствует здесь, рядом с
ними, но они их не опознают, принимают за 'не то' и в итоге разминовываются
как с сущностью жизни вообще, так и сами с собой (см. 4.1).
Пример Чайки вводит еще одну проблему. Природа (парк, озеро, луна) пре-
вращаются в постановке пьесы Треплева в декорации. Согласно идее пьесы Тре-
плева, они возводятся в ранг антитезиса вселенского духа — материи, которая
воздерживает осуществление мировой гармонии. Согласно же Чайке, т. е. че-
ховской моделирующей системе, природа сама есть наиболее истинное искусст-
во-жизнь, и всякий перевод ее в искусственные формы (будь то декорации Тре-
плева, будь то пейзажи Тригорина) — только бледное подражание или грубое
искажение, копия, лишенная жизни.
Природа может истолковываться в разнообразных и противоположных
смыслах. С одной стороны, она может воплощать идею слепого, неразумного
бытия, а с другой — бытия, исполненного высшей мудрости. В одном случае
она — жестока, абсурдна, равнодушна, безнравственна, а в другом — кротка,
целесообразна, участлива, образец высшей нравственности. В одном случае —
кощунственна, разрушительна, безобразна, а в другом — Божественна, созида-
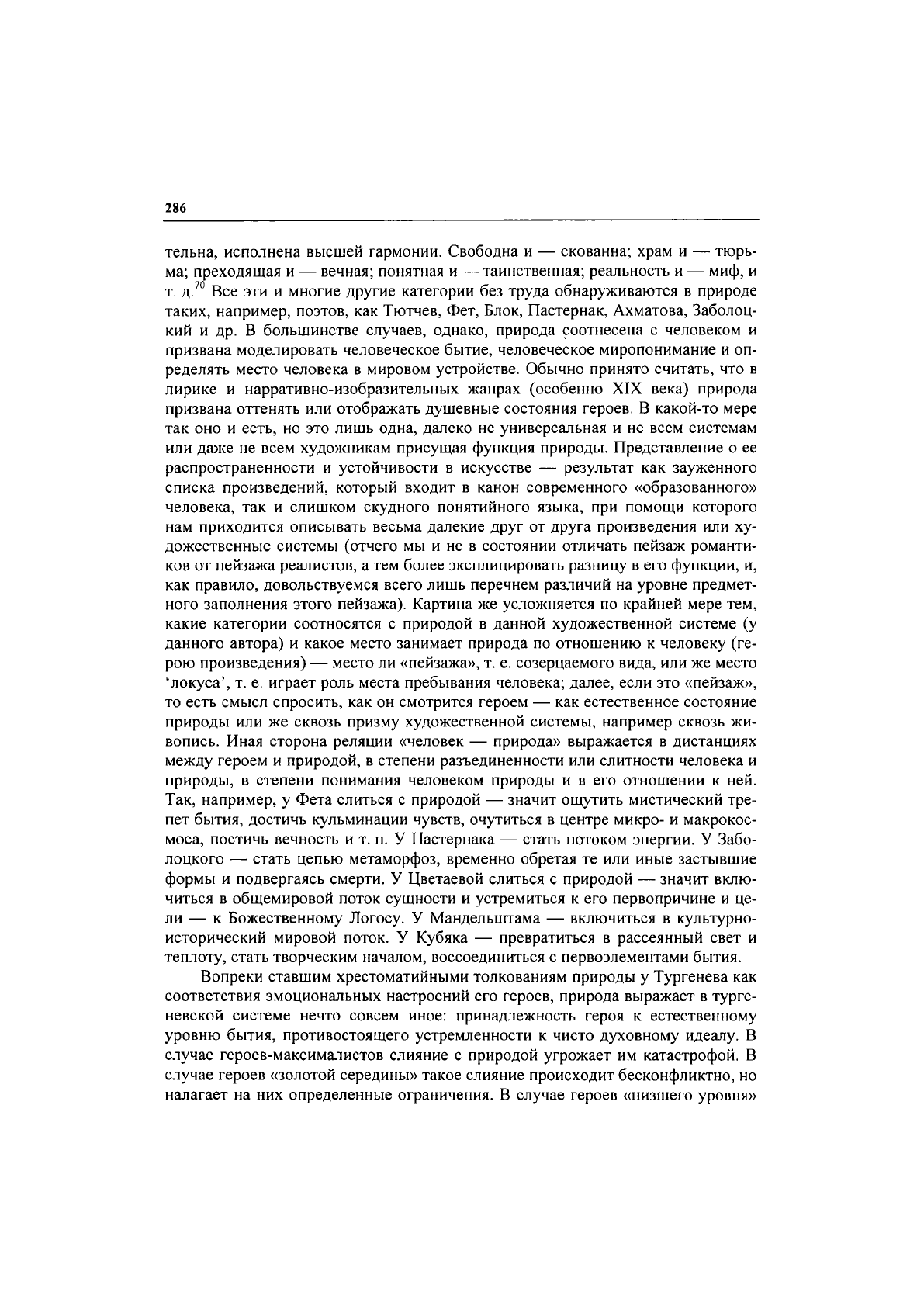
286
тельна, исполнена высшей гармонии. Свободна и — скованна; храм и — тюрь-
ма; преходящая и — вечная; понятная и — таинственная; реальность и — миф, и
т. д.
70
Все эти и многие другие категории без труда обнаруживаются в природе
таких, например, поэтов, как Тютчев, Фет, Блок, Пастернак, Ахматова, Заболоц-
кий и др. В большинстве случаев, однако, природа соотнесена с человеком и
призвана моделировать человеческое бытие, человеческое миропонимание и оп-
ределять место человека в мировом устройстве. Обычно принято считать, что в
лирике и нарративно-изобразительных жанрах (особенно XIX века) природа
призвана оттенять или отображать душевные состояния героев. В какой-то мере
так оно и есть, но это лишь одна, далеко не универсальная и не всем системам
или даже не всем художникам присущая функция природы. Представление о ее
распространенности и устойчивости в искусстве — результат как зауженного
списка произведений, который входит в канон современного «образованного»
человека, так и слишком скудного понятийного языка, при помощи которого
нам приходится описывать весьма далекие друг от друга произведения или ху-
дожественные системы (отчего мы и не в состоянии отличать пейзаж романти-
ков от пейзажа реалистов, а тем более эксплицировать разницу в его функции, и,
как правило, довольствуемся всего лишь перечнем различий на уровне предмет-
ного заполнения этого пейзажа). Картина же усложняется по крайней мере тем,
какие категории соотносятся с природой в данной художественной системе (у
данного автора) и какое место занимает природа по отношению к человеку (ге-
рою произведения) — место ли «пейзажа», т. е. созерцаемого вида, или же место
'локуса', т. е. играет роль места пребывания человека; далее, если это «пейзаж»,
то есть смысл спросить, как он смотрится героем — как естественное состояние
природы или же сквозь призму художественной системы, например сквозь жи-
вопись. Иная сторона реляции «человек — природа» выражается в дистанциях
между героем и природой, в степени разъединенности или слитности человека и
природы, в степени понимания человеком природы и в его отношении к ней.
Так, например, у Фета слиться с природой — значит ощутить мистический тре-
пет бытия, достичь кульминации чувств, очутиться в центре микро- и макрокос-
моса, постичь вечность и т. п. У Пастернака — стать потоком энергии. У Забо-
лоцкого — стать цепью метаморфоз, временно обретая те или иные застывшие
формы и подвергаясь смерти. У Цветаевой слиться с природой — значит вклю-
читься в общемировой поток сущности и устремиться к его первопричине и це-
ли — к Божественному Логосу. У Мандельштама — включиться в культурно-
исторический мировой поток. У Кубяка — превратиться в рассеянный свет и
теплоту, стать творческим началом, воссоединиться с первоэлементами бытия.
Вопреки ставшим хрестоматийными толкованиям природы у Тургенева как
соответствия эмоциональных настроений его героев, природа выражает в турге-
невской системе нечто совсем иное: принадлежность героя к естественному
уровню бытия, противостоящего устремленности к чисто духовному идеалу. В
случае героев-максималистов слияние с природой угрожает им катастрофой. В
случае героев «золотой середины» такое слияние происходит бесконфликтно, но
налагает на них определенные ограничения. В случае героев «низшего уровня»
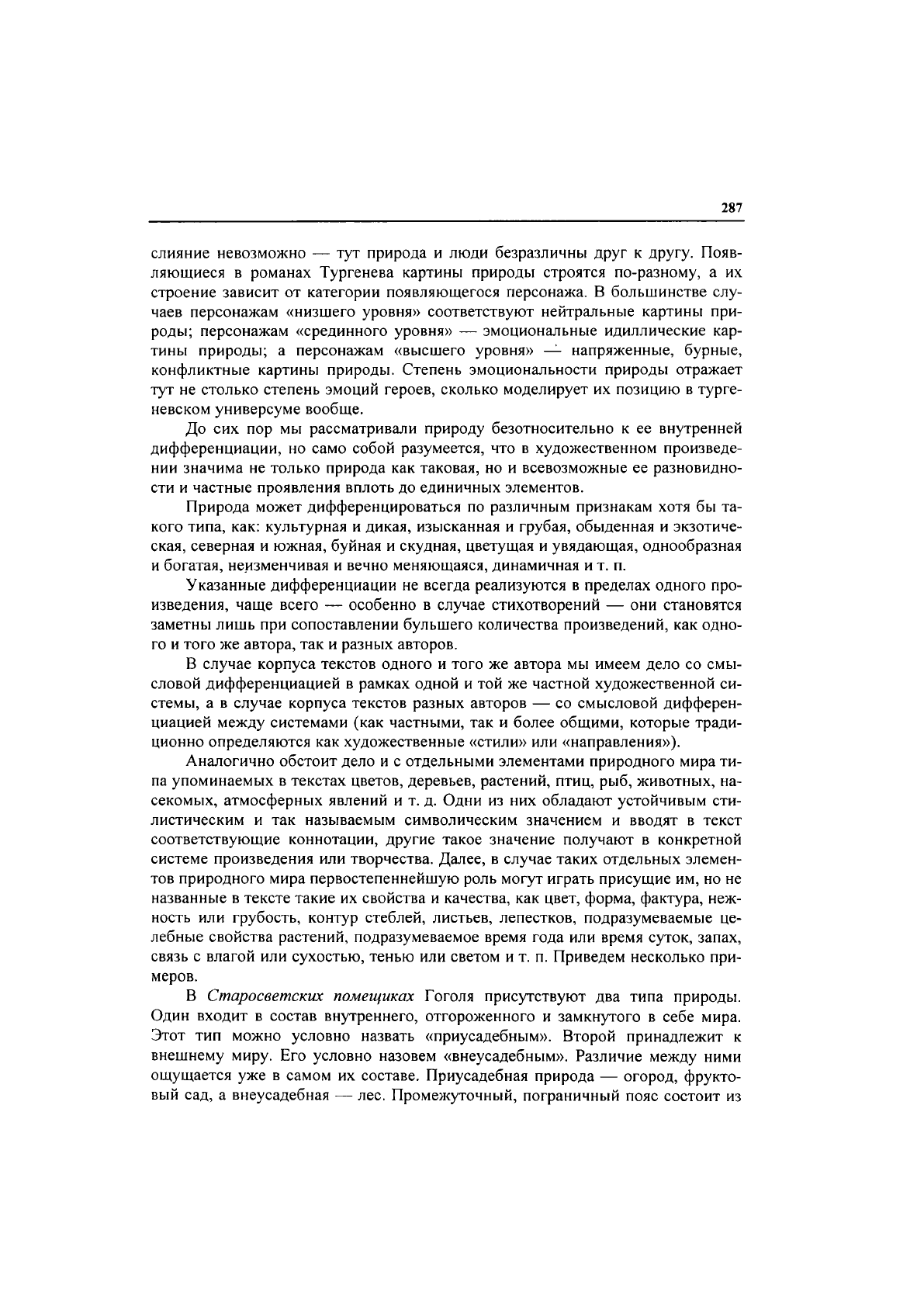
287
слияние невозможно — тут природа и люди безразличны друг к другу. Появ-
ляющиеся в романах Тургенева картины природы строятся по-разному, а их
строение зависит от категории появляющегося персонажа. В большинстве слу-
чаев персонажам «низшего уровня» соответствуют нейтральные картины при-
роды; персонажам «срединного уровня» — эмоциональные идиллические кар-
тины природы; а персонажам «высшего уровня» — напряженные, бурные,
конфликтные картины природы. Степень эмоциональности природы отражает
тут не столько степень эмоций героев, сколько моделирует их позицию в турге-
невском универсуме вообще.
До сих пор мы рассматривали природу безотносительно к ее внутренней
дифференциации, но само собой разумеется, что в художественном произведе-
нии значима не только природа как таковая, но и всевозможные ее разновидно-
сти и частные проявления вплоть до единичных элементов.
Природа может дифференцироваться по различным признакам хотя бы та-
кого типа, как: культурная и дикая, изысканная и грубая, обыденная и экзотиче-
ская, северная и южная, буйная и скудная, цветущая и увядающая, однообразная
и богатая, неизменчивая и вечно меняющаяся, динамичная и т. п.
Указанные дифференциации не всегда реализуются в пределах одного про-
изведения, чаще всего — особенно в случае стихотворений — они становятся
заметны лишь при сопоставлении бульшего количества произведений, как одно-
го и того же автора, так и разных авторов.
В случае корпуса текстов одного и того же автора мы имеем дело со смы-
словой дифференциацией в рамках одной и той же частной художественной си-
стемы, а в случае корпуса текстов разных авторов — со смысловой дифферен-
циацией между системами (как частными, так и более общими, которые тради-
ционно определяются как художественные «стили» или «направления»).
Аналогично обстоит дело и с отдельными элементами природного мира ти-
па упоминаемых в текстах цветов, деревьев, растений, птиц, рыб, животных, на-
секомых, атмосферных явлений и т. д. Одни из них обладают устойчивым сти-
листическим и так называемым символическим значением и вводят в текст
соответствующие коннотации, другие такое значение получают в конкретной
системе произведения или творчества. Далее, в случае таких отдельных элемен-
тов природного мира первостепеннейшую роль могут играть присущие им, но не
названные в тексте такие их свойства и качества, как цвет, форма, фактура, неж-
ность или грубость, контур стеблей, листьев, лепестков, подразумеваемые це-
лебные свойства растений, подразумеваемое время года или время суток, запах,
связь с влагой или сухостью, тенью или светом и т. п. Приведем несколько при-
меров.
В Старосветских помещиках Гоголя присутствуют два типа природы.
Один входит в состав внутреннего, отгороженного и замкнутого в себе мира.
Этот тип можно условно назвать «приусадебным». Второй принадлежит к
внешнему миру. Его условно назовем «внеусадебным». Различие между ними
ощущается уже в самом их составе. Приусадебная природа — огород, фрукто-
вый сад, а внеусадебная — лес. Промежуточный, пограничный пояс состоит из
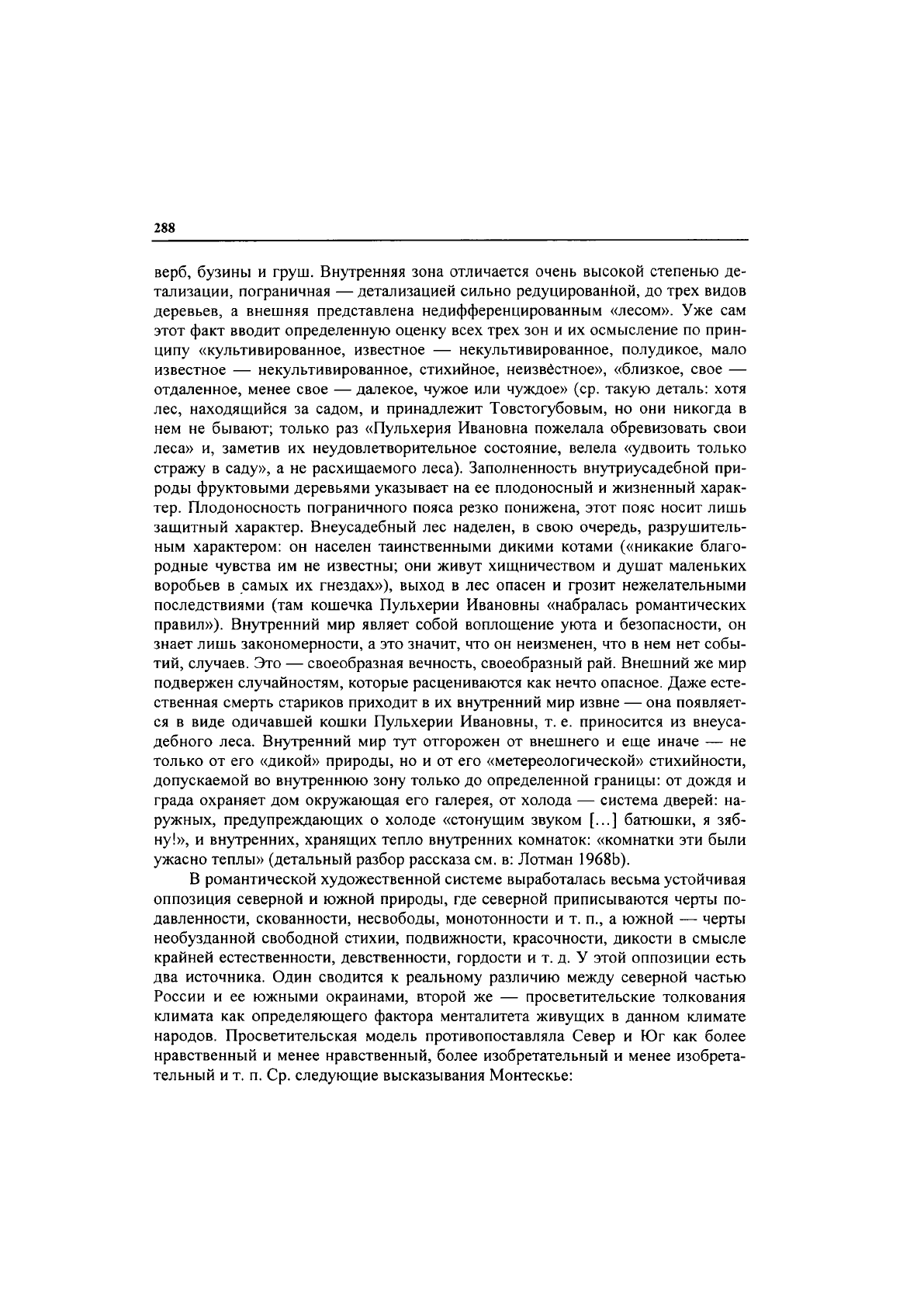
288
верб, бузины и груш. Внутренняя зона отличается очень высокой степенью де-
тализации, пограничная — детализацией сильно редуцированйой, до трех видов
деревьев, а внешняя представлена недифференцированным «лесом». Уже сам
этот факт вводит определенную оценку всех трех зон и их осмысление по прин-
ципу «культивированное, известное — некультивированное, полудикое, мало
известное — некультивированное, стихийное, неизвёстное», «близкое, свое —
отдаленное, менее свое — далекое, чужое или чуждое» (ср. такую деталь: хотя
лес, находящийся за садом, и принадлежит Товстогубовым, но они никогда в
нем не бывают; только раз «Пульхерия Ивановна пожелала обревизовать свои
леса» и, заметив их неудовлетворительное состояние, велела «удвоить только
стражу в саду», а не расхищаемого леса). Заполненность внутриусадебной при-
роды фруктовыми деревьями указывает на ее плодоносный и жизненный харак-
тер. Плодоносность пограничного пояса резко понижена, этот пояс носит лишь
защитный характер. Внеусадебный лес наделен, в свою очередь, разрушитель-
ным характером: он населен таинственными дикими котами («никакие благо-
родные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких
воробьев в самых их гнездах»), выход в лес опасен и грозит нежелательными
последствиями (там кошечка Пульхерии Ивановны «набралась романтических
правил»). Внутренний мир являет собой воплощение уюта и безопасности, он
знает лишь закономерности, а это значит, что он неизменен, что в нем нет собы-
тий, случаев. Это — своеобразная вечность, своеобразный рай. Внешний же мир
подвержен случайностям, которые расцениваются как нечто опасное. Даже есте-
ственная смерть стариков приходит в их внутренний мир извне — она появляет-
ся в виде одичавшей кошки Пульхерии Ивановны, т. е. приносится из внеуса-
дебного леса. Внутренний мир тут отгорожен от внешнего и еще иначе — не
только от его «дикой» природы, но и от его «метереологической» стихийности,
допускаемой во внутреннюю зону только до определенной границы: от дождя и
града охраняет дом окружающая его галерея, от холода — система дверей: на-
ружных, предупреждающих о холоде «стонущим звуком [...] батюшки, я зяб-
ну!», и внутренних, хранящих тепло внутренних комнаток: «комнатки эти были
ужасно теплы» (детальный разбор рассказа см. в: Лотман 1968b).
В романтической художественной системе выработалась весьма устойчивая
оппозиция северной и южной природы, где северной приписываются черты по-
давленности, скованности, несвободы, монотонности и т. п., а южной — черты
необузданной свободной стихии, подвижности, красочности, дикости в смысле
крайней естественности, девственности, гордости и т. д. У этой оппозиции есть
два источника. Один сводится к реальному различию между северной частью
России и ее южными окраинами, второй же — просветительские толкования
климата как определяющего фактора менталитета живущих в данном климате
народов. Просветительская модель противопоставляла Север и Юг как более
нравственный и менее нравственный, более изобретательный и менее изобрета-
тельный и т. п. Ср. следующие высказывания Монтескье:
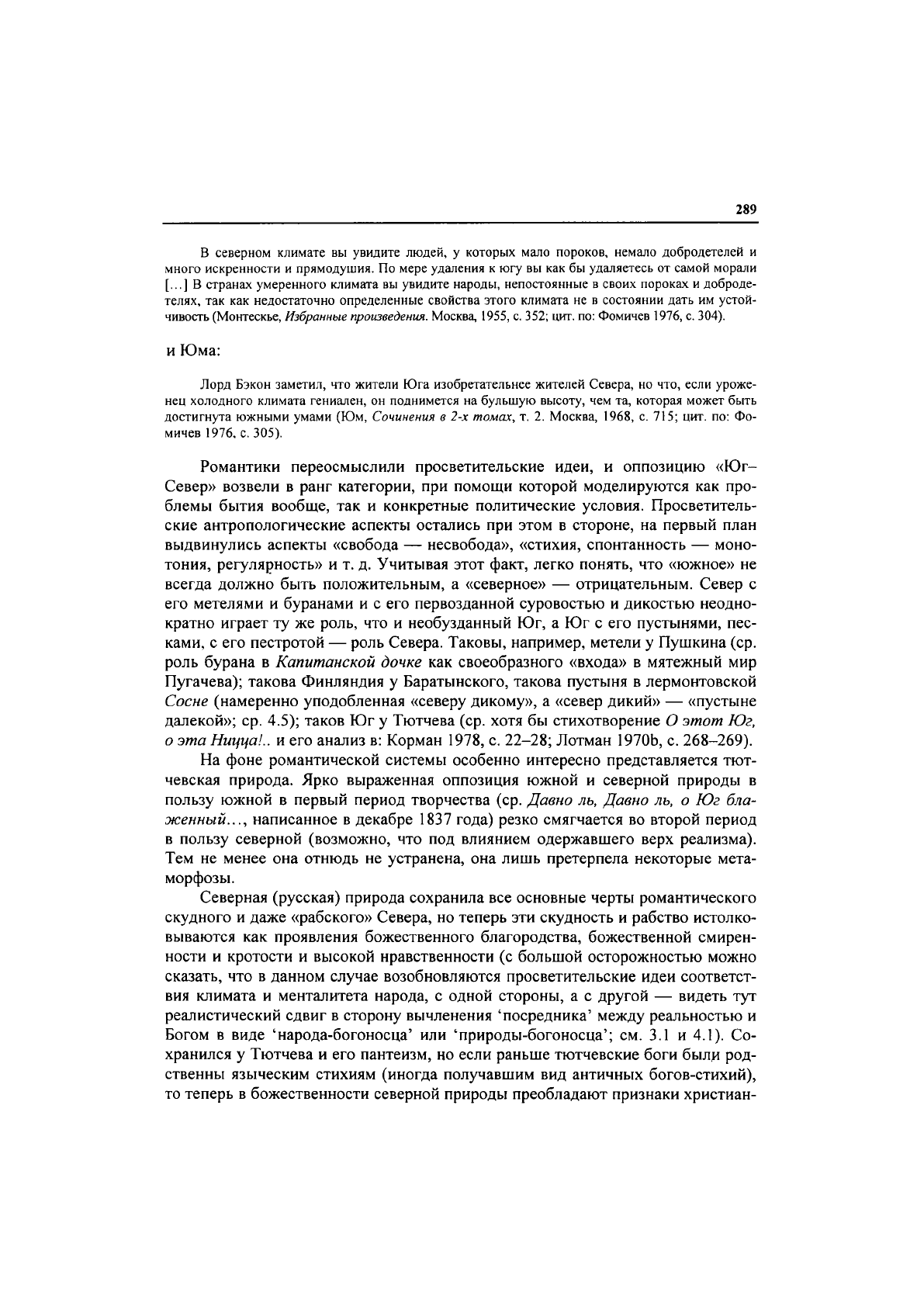
289
В северном климате вы увидите людей, у которых мало пороков, немало добродетелей и
много искренности и прямодушия. По мере удаления к югу вы как бы удаляетесь от самой морали
[...] В странах умеренного климата вы увидите народы, непостоянные в своих пороках и доброде-
телях, так как недостаточно определенные свойства этого климата не в состоянии дать им устой-
чивость (Монтескье, Избранные произведения. Москва, 1955, с. 352; цит. по: Фомичев 1976, с. 304).
и Юма:
Лорд Бэкон заметил, что жители Юга изобретательнее жителей Севера, но что, если уроже-
нец холодного климата гениален, он поднимется на бульшую высоту, чем та, которая может быть
достигнута южными умами (Юм, Сочинения в 2-х томах, т. 2. Москва, 1968, с. 715; цит. по: Фо-
мичев 1976, с. 305).
Романтики переосмыслили просветительские идеи, и оппозицию «Юг-
Север» возвели в ранг категории, при помощи которой моделируются как про-
блемы бытия вообще, так и конкретные политические условия. Просветитель-
ские антропологические аспекты остались при этом в стороне, на первый план
выдвинулись аспекты «свобода — несвобода», «стихия, спонтанность — моно-
тония, регулярность» и т. д. Учитывая этот факт, легко понять, что «южное» не
всегда должно быть положительным, а «северное» — отрицательным. Север с
его метелями и буранами и с его первозданной суровостью и дикостью неодно-
кратно играет ту же роль, что и необузданный Юг, а Юг с его пустынями, пес-
ками, с его пестротой — роль Севера. Таковы, например, метели у Пушкина (ср.
роль бурана в Капитанской дочке как своеобразного «входа» в мятежный мир
Пугачева); такова Финляндия у Баратынского, такова пустыня в лермонтовской
Сосне (намеренно уподобленная «северу дикому», а «север дикий» — «пустыне
далекой»; ср. 4.5); таков Юг у Тютчева (ср. хотя бы стихотворение О этот Юг,
о эта Ницца!., и его анализ в: Корман 1978, с. 22-28; Лотман 1970b, с. 268-269).
На фоне романтической системы особенно интересно представляется тют-
чевская природа. Ярко выраженная оппозиция южной и северной природы в
пользу южной в первый период творчества (ср. Давно ль, Давно ль, о Юг бла-
женный..., написанное в декабре 1837 года) резко смягчается во второй период
в пользу северной (возможно, что под влиянием одержавшего верх реализма).
Тем не менее она отнюдь не устранена, она лишь претерпела некоторые мета-
морфозы.
Северная (русская) природа сохранила все основные черты романтического
скудного и даже «рабского» Севера, но теперь эти скудность и рабство истолко-
вываются как проявления божественного благородства, божественной смирен-
ности и кротости и высокой нравственности (с большой осторожностью можно
сказать, что в данном случае возобновляются просветительские идеи соответст-
вия климата и менталитета народа, с одной стороны, а с другой — видеть тут
реалистический сдвиг в сторону вычленения 'посредника' между реальностью и
Богом в виде 'народа-богоносца' или 'природы-богоносца'; см. 3.1 и 4.1). Со-
хранился у Тютчева и его пантеизм, но если раньше тютчевские боги были род-
ственны языческим стихиям (иногда получавшим вид античных богов-стихий),
то теперь в божественности северной природы преобладают признаки христиан-
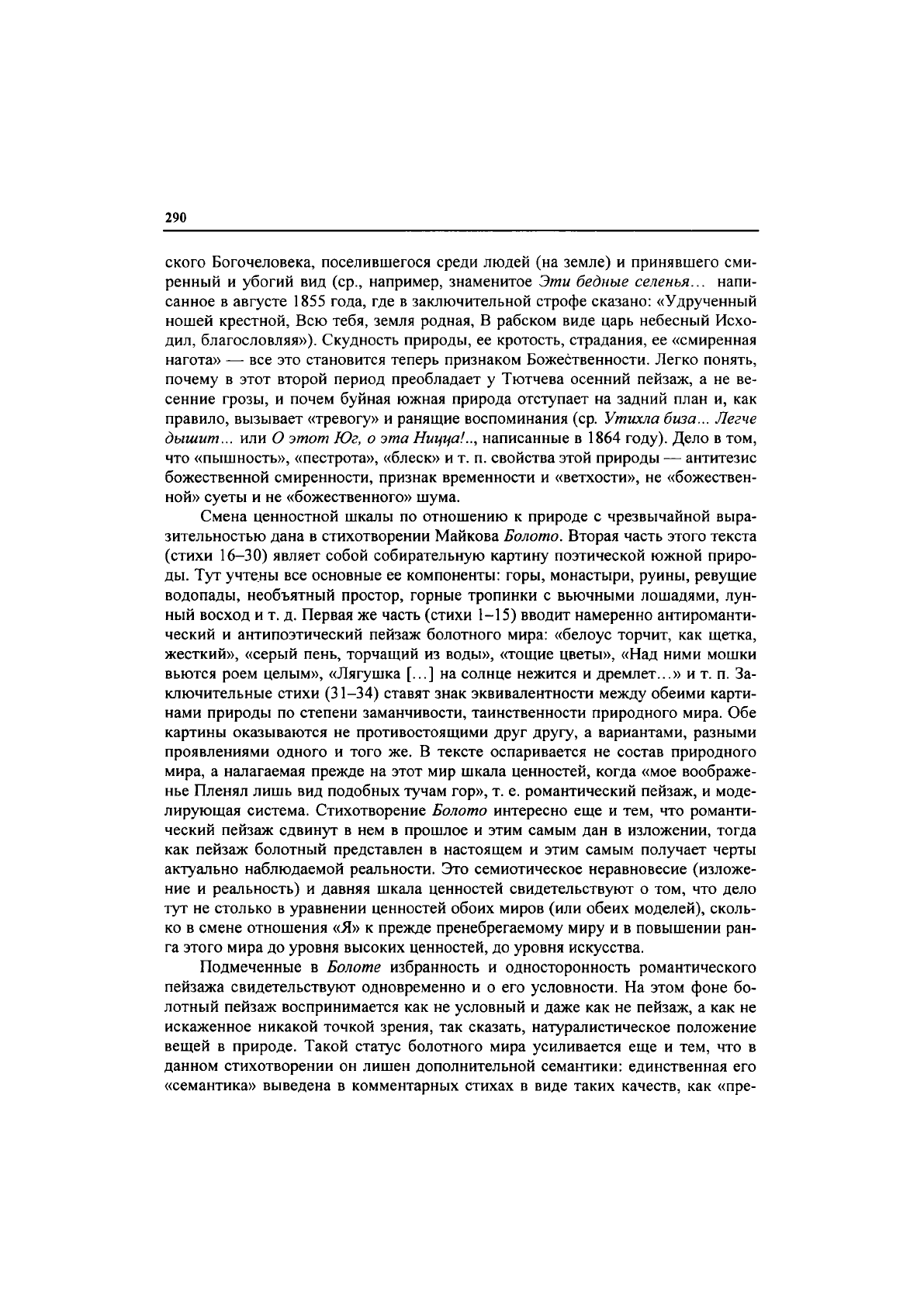
290
ского Богочеловека, поселившегося среди людей (на земле) и принявшего сми-
ренный и убогий вид (ср., например, знаменитое Эти бедные селенья... напи-
санное в августе 1855 года, где в заключительной строфе сказано: «Удрученный
ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исхо-
дил, благословляя»). Скудность природы, ее кротость, страдания, ее «смиренная
нагота» — все это становится теперь признаком Божественности. Легко понять,
почему в этот второй период преобладает у Тютчева осенний пейзаж, а не ве-
сенние грозы, и почем буйная южная природа отступает на задний план и, как
правило, вызывает «тревогу» и ранящие воспоминания (ср. Утихла биза... Легче
дышит... или О этот Юг, о эта Нища!.., написанные в 1864 году). Дело в том,
что «пышность», «пестрота», «блеск» и т. п. свойства этой природы — антитезис
божественной смиренности, признак временности и «ветхости», не «божествен-
ной» суеты и не «божественного» шума.
Смена ценностной шкалы по отношению к природе с чрезвычайной выра-
зительностью дана в стихотворении Майкова Болото. Вторая часть этого текста
(стихи 16-30) являет собой собирательную картину поэтической южной приро-
ды. Тут учтены все основные ее компоненты: горы, монастыри, руины, ревущие
водопады, необъятный простор, горные тропинки с вьючными лошадями, лун-
ный восход и т. д. Первая же часть (стихи 1-15) вводит намеренно антироманти-
ческий и антипоэтический пейзаж болотного мира: «белоус торчит, как щетка,
жесткий», «серый пень, торчащий из воды», «тощие цветы», «Над ними мошки
вьются роем целым», «Лягушка [...] на солнце нежится и дремлет...» и т. п. За-
ключительные стихи (31-34) ставят знак эквивалентности между обеими карти-
нами природы по степени заманчивости, таинственности природного мира. Обе
картины оказываются не противостоящими друг другу, а вариантами, разными
проявлениями одного и того же. В тексте оспаривается не состав природного
мира, а налагаемая прежде на этот мир шкала ценностей, когда «мое воображе-
нье Пленял лишь вид подобных тучам гор», т. е. романтический пейзаж, и моде-
лирующая система. Стихотворение Болото интересно еще и тем, что романти-
ческий пейзаж сдвинут в нем в прошлое и этим самым дан в изложении, тогда
как пейзаж болотный представлен в настоящем и этим самым получает черты
актуально наблюдаемой реальности. Это семиотическое неравновесие (изложе-
ние и реальность) и давняя шкала ценностей свидетельствуют о том, что дело
тут не столько в уравнении ценностей обоих миров (или обеих моделей), сколь-
ко в смене отношения «Я» к прежде пренебрегаемому миру и в повышении ран-
га этого мира до уровня высоких ценностей, до уровня искусства.
Подмеченные в Болоте избранность и односторонность романтического
пейзажа свидетельствуют одновременно и о его условности. На этом фоне бо-
лотный пейзаж воспринимается как не условный и даже как не пейзаж, а как не
искаженное никакой точкой зрения, так сказать, натуралистическое положение
вещей в природе. Такой статус болотного мира усиливается еще и тем, что в
данном стихотворении он лишен дополнительной семантики: единственная его
«семантика» выведена в комментарных стихах в виде таких качеств, как «пре-
