Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

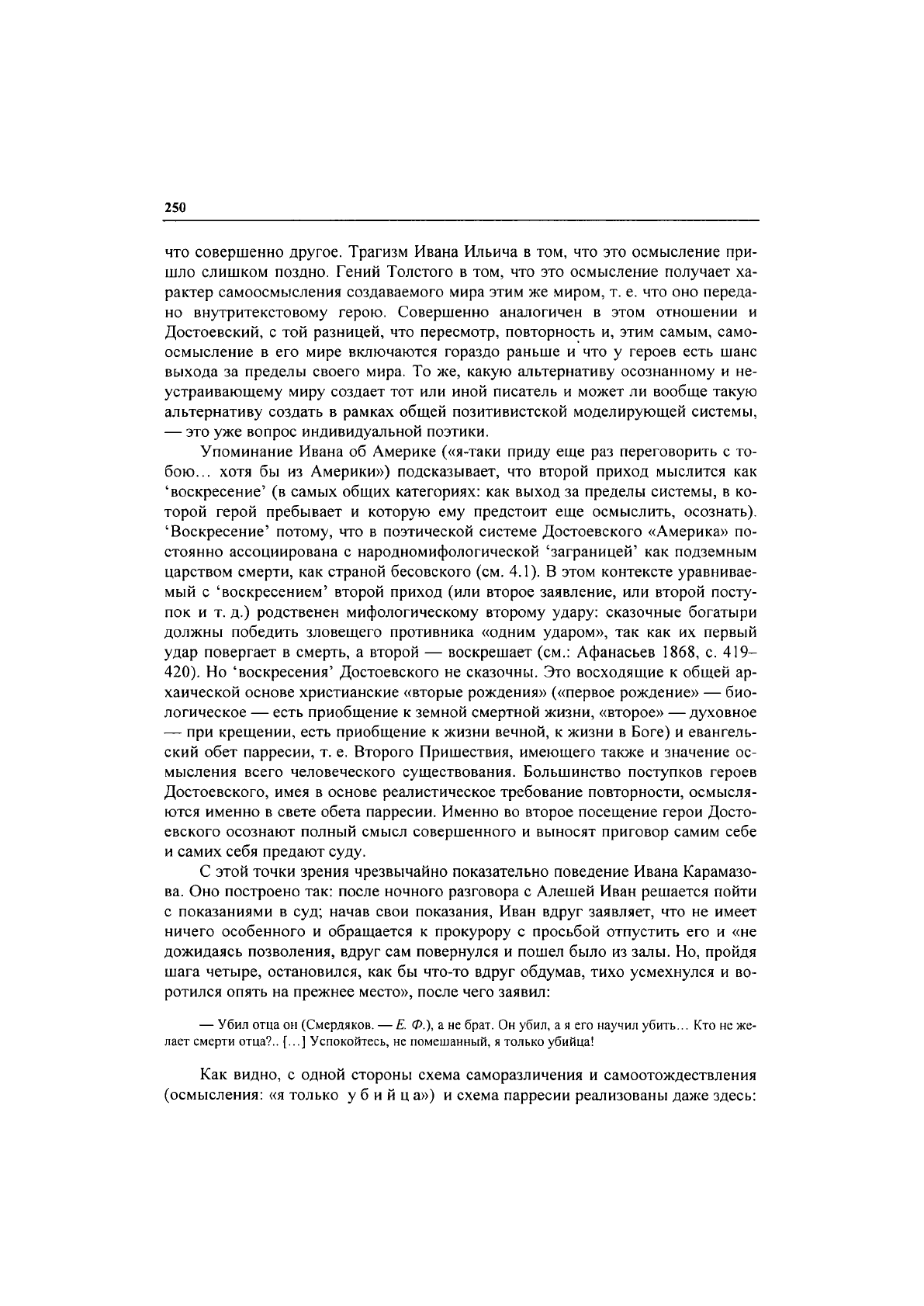
250
что совершенно другое. Трагизм Ивана Ильича в том, что это осмысление при-
шло слишком поздно. Гений Толстого в том, что это осмысление получает ха-
рактер самоосмысления создаваемого мира этим же миром, т. е. что оно переда-
но внутритекстовому герою. Совершенно аналогичен в этом отношении и
Достоевский, с той разницей, что пересмотр, повторность и, этим самым, само-
осмысление в его мире включаются гораздо раньше и что у героев есть шанс
выхода за пределы своего мира. То же, какую альтернативу осознанному и не-
устраивающему миру создает тот или иной писатель и может ли вообще такую
альтернативу создать в рамках общей позитивистской моделирующей системы,
— это уже вопрос индивидуальной поэтики.
Упоминание Ивана об Америке («я-таки приду еще раз переговорить с то-
бою... хотя бы из Америки») подсказывает, что второй приход мыслится как
'воскресение' (в самых общих категориях: как выход за пределы системы, в ко-
торой герой пребывает и которую ему предстоит еще осмыслить, осознать).
'Воскресение' потому, что в поэтической системе Достоевского «Америка» по-
стоянно ассоциирована с народномифологической 'заграницей' как подземным
царством смерти, как страной бесовского (см. 4.1). В этом контексте уравнивае-
мый с 'воскресением' второй приход (или второе заявление, или второй посту-
пок и т. д.) родственен мифологическому второму удару: сказочные богатыри
должны победить зловещего противника «одним ударом», так как их первый
удар повергает в смерть, а второй — воскрешает (см.: Афанасьев 1868, с. 419-
420). Но 'воскресения' Достоевского не сказочны. Это восходящие к общей ар-
хаической основе христианские «вторые рождения» («первое рождение» — био-
логическое — есть приобщение к земной смертной жизни, «второе» — духовное
— при крещении, есть приобщение к жизни вечной, к жизни в Боге) и евангель-
ский обет парресии, т. е. Второго Пришествия, имеющего также и значение ос-
мысления всего человеческого существования. Большинство поступков героев
Достоевского, имея в основе реалистическое требование повторное™, осмысля-
ются именно в свете обета парресии. Именно во второе посещение герои Досто-
евского осознают полный смысл совершенного и выносят приговор самим себе
и самих себя предают суду.
С этой точки зрения чрезвычайно показательно поведение Ивана Карамазо-
ва. Оно построено так: после ночного разговора с Алешей Иван решается пойти
с показаниями в суд; начав свои показания, Иван вдруг заявляет, что не имеет
ничего особенного и обращается к прокурору с просьбой отпустить его и «не
дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя
шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и во-
ротился опять на прежнее место», после чего заявил:
— Убил отца он (Смердяков. — Е. Ф.), а не брат. Он убил, а я его научил убить... Кто не же-
лает смерти отца?.. [...] Успокойтесь, не помешанный, я только убийца!
Как видно, с одной стороны схема саморазличения и самоотождествления
(осмысления: «я только убийца») и схема парресии реализованы даже здесь:
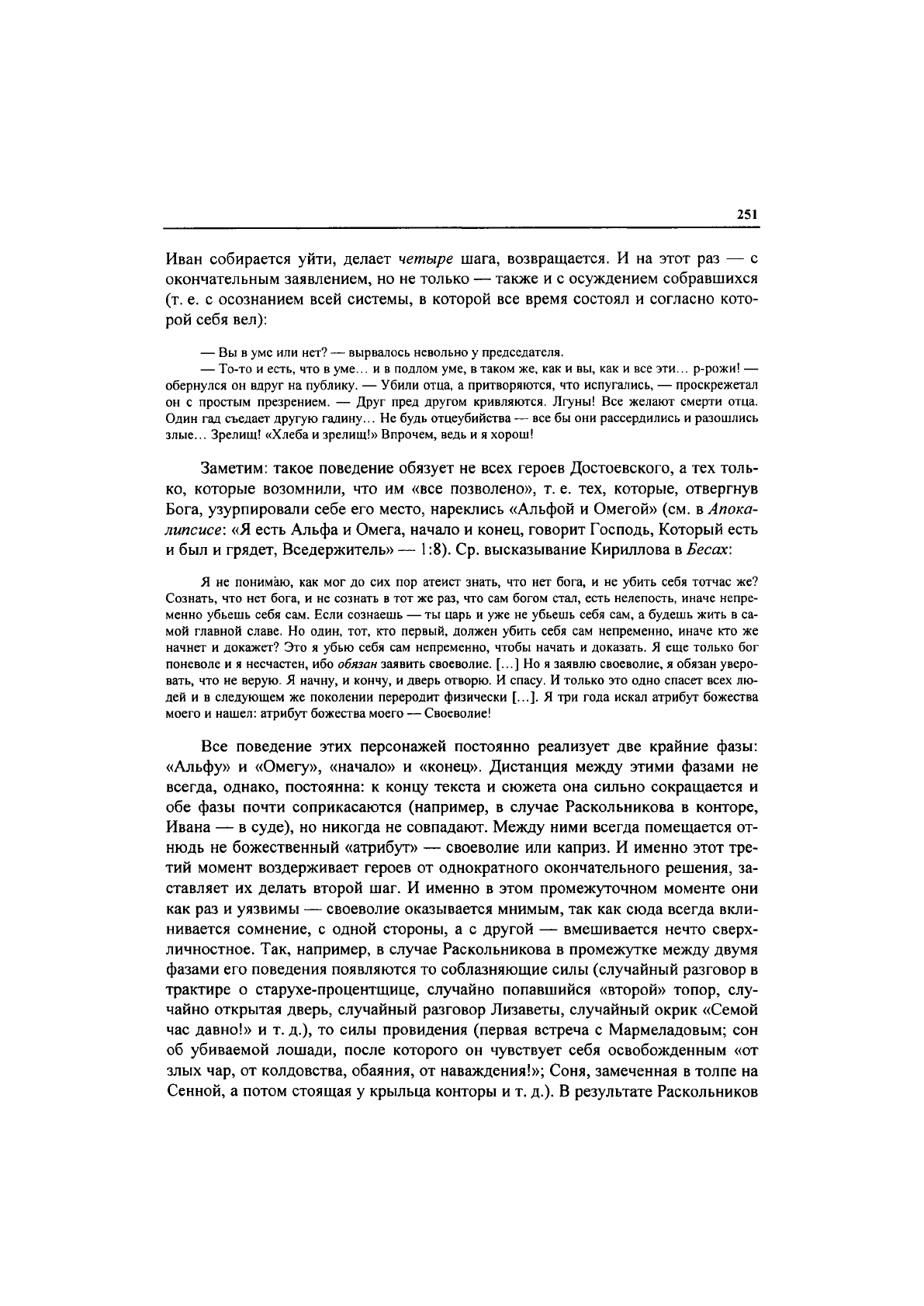
251
Иван собирается уйти, делает четыре шага, возвращается. И на этот раз — с
окончательным заявлением, но не только — также и с осуждением собравшихся
(т. е. с осознанием всей системы, в которой все время состоял и согласно кото-
рой себя вел):
— Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя.
— То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти... р-рожи! —
обернулся он вдруг на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал
он с простым презрением. — Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца.
Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись
злые... Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я хорош!
Заметим: такое поведение обязует не всех героев Достоевского, а тех толь-
ко, которые возомнили, что им «все позволено», т. е. тех, которые, отвергнув
Бога, узурпировали себе его место, нареклись «Альфой и Омегой» (см. в Апока-
липсисе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть
и был и грядет, Вседержитель» — 1:8). Ср. высказывание Кириллова в Бесах:
Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же?
Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непре-
менно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в са-
мой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же
начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог
поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. [...] Но я заявлю своеволие, я обязан уверо-
вать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. И только это одно спасет всех лю-
дей и в следующем же поколении переродит физически [...]. Я три года искал атрибут божества
моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие!
Все поведение этих персонажей постоянно реализует две крайние фазы:
«Альфу» и «Омегу», «начало» и «конец». Дистанция между этими фазами не
всегда, однако, постоянна: к концу текста и сюжета она сильно сокращается и
обе фазы почти соприкасаются (например, в случае Раскольникова в конторе,
Ивана — в суде), но никогда не совпадают. Между ними всегда помещается от-
нюдь не божественный «атрибут» — своеволие или каприз. И именно этот тре-
тий момент воздерживает героев от однократного окончательного решения, за-
ставляет их делать второй шаг. И именно в этом промежуточном моменте они
как раз и уязвимы — своеволие оказывается мнимым, так как сюда всегда вкли-
нивается сомнение, с одной стороны, а с другой — вмешивается нечто сверх-
личностное. Так, например, в случае Раскольникова в промежутке между двумя
фазами его поведения появляются то соблазняющие силы (случайный разговор в
трактире о старухе-процентщице, случайно попавшийся «второй» топор, слу-
чайно открытая дверь, случайный разговор Лизаветы, случайный окрик «Семой
час давно!» и т. д.), то силы провидения (первая встреча с Мармеладовым; сон
об убиваемой лошади, после которого он чувствует себя освобожденным «от
злых чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»; Соня, замеченная в толпе на
Сенной, а потом стоящая у крыльца конторы и т. д.). В результате Раскольников
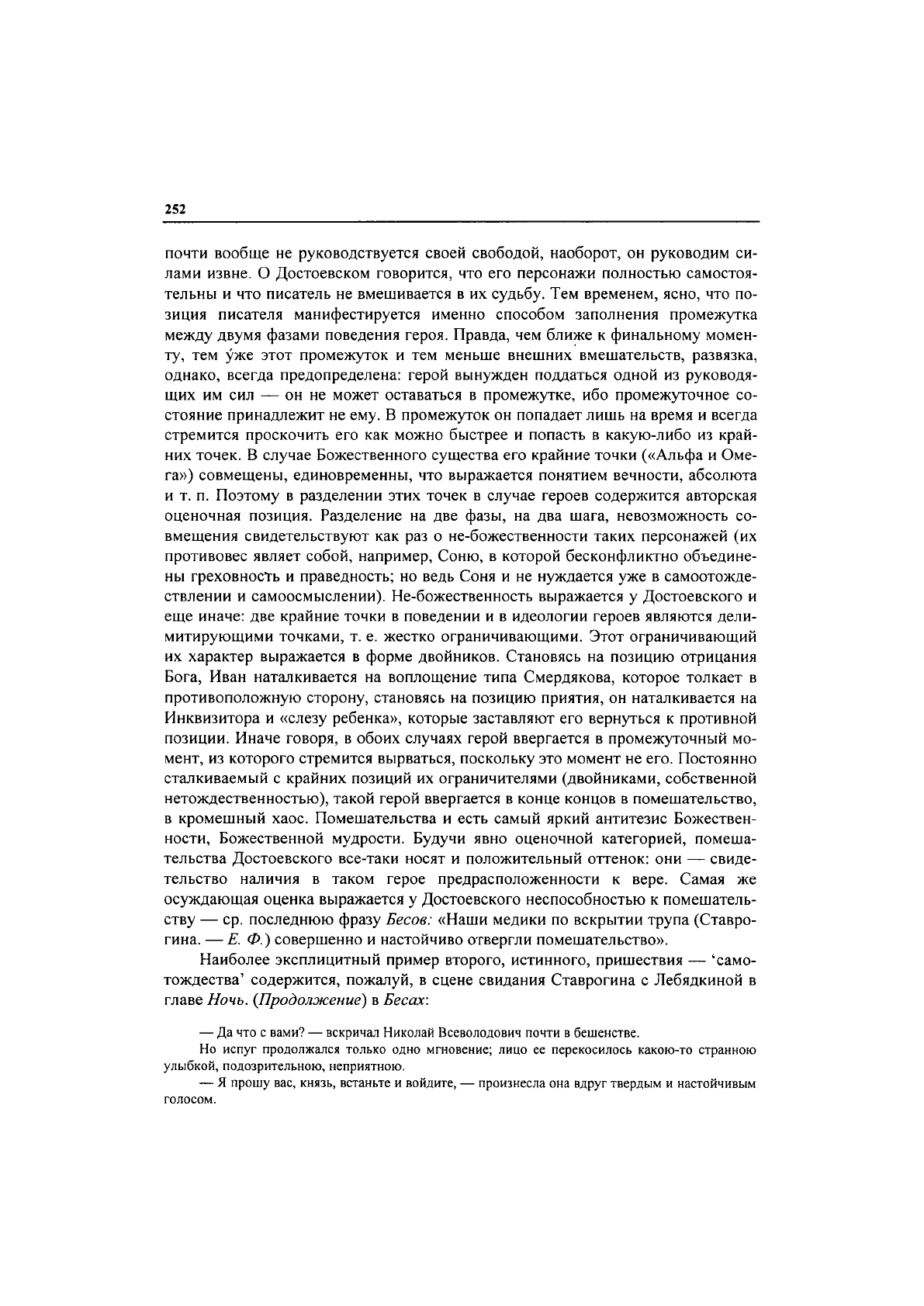
252
почти вообще не руководствуется своей свободой, наоборот, он руководим си-
лами извне. О Достоевском говорится, что его персонажи полностью самостоя-
тельны и что писатель не вмешивается в их судьбу. Тем временем, ясно, что по-
зиция писателя манифестируется именно способом заполнения промежутка
между двумя фазами поведения героя. Правда, чем ближе к финальному момен-
ту, тем уже этот промежуток и тем меньше внешних вмешательств, развязка,
однако, всегда предопределена: герой вынужден поддаться одной из руководя-
щих им сил — он не может оставаться в промежутке, ибо промежуточное со-
стояние принадлежит не ему. В промежуток он попадает лишь на время и всегда
стремится проскочить его как можно быстрее и попасть в какую-либо из край-
них точек. В случае Божественного существа его крайние точки («Альфа и Оме-
га») совмещены, единовременны, что выражается понятием вечности, абсолюта
и т. п. Поэтому в разделении этих точек в случае героев содержится авторская
оценочная позиция. Разделение на две фазы, на два шага, невозможность со-
вмещения свидетельствуют как раз о не-божественности таких персонажей (их
противовес являет собой, например, Соню, в которой бесконфликтно объедине-
ны греховность и праведность; но ведь Соня и не нуждается уже в самоотожде-
ствлении и самоосмыслении). Не-божественность выражается у Достоевского и
еще иначе: две крайние точки в поведении и в идеологии героев являются дели-
митирующими точками, т. е. жестко ограничивающими. Этот ограничивающий
их характер выражается в форме двойников. Становясь на позицию отрицания
Бога, Иван наталкивается на воплощение типа Смердякова, которое толкает в
противоположную сторону, становясь на позицию приятия, он наталкивается на
Инквизитора и «слезу ребенка», которые заставляют его вернуться к противной
позиции. Иначе говоря, в обоих случаях герой ввергается в промежуточный мо-
мент, из которого стремится вырваться, поскольку это момент не его. Постоянно
сталкиваемый с крайних позиций их ограничителями (двойниками, собственной
нетождественностью), такой герой ввергается в конце концов в помешательство,
в кромешный хаос. Помешательства и есть самый яркий антитезис Божествен-
ности, Божественной мудрости. Будучи явно оценочной категорией, помеша-
тельства Достоевского все-таки носят и положительный оттенок: они — свиде-
тельство наличия в таком герое предрасположенности к вере. Самая же
осуждающая оценка выражается у Достоевского неспособностью к помешатель-
ству — ср. последнюю фразу Бесов: «Наши медики по вскрытии трупа (Ставро-
гина. — Е. Ф.) совершенно и настойчиво отвергли помешательство».
Наиболее эксплицитный пример второго, истинного, пришествия — 'само-
тождества' содержится, пожалуй, в сцене свидания Ставрогина с Лебядкиной в
главе Ночь. {Продолжение) в Бесах:
— Да что с вами? — вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве.
Но испуг продолжался только одно мгновение; лицо ее перекосилось какою-то странною
улыбкой, подозрительною, неприятною.
— Я прошу вас, князь, встаньте и войдите, — произнесла она вдруг твердым и настойчивым
голосом.
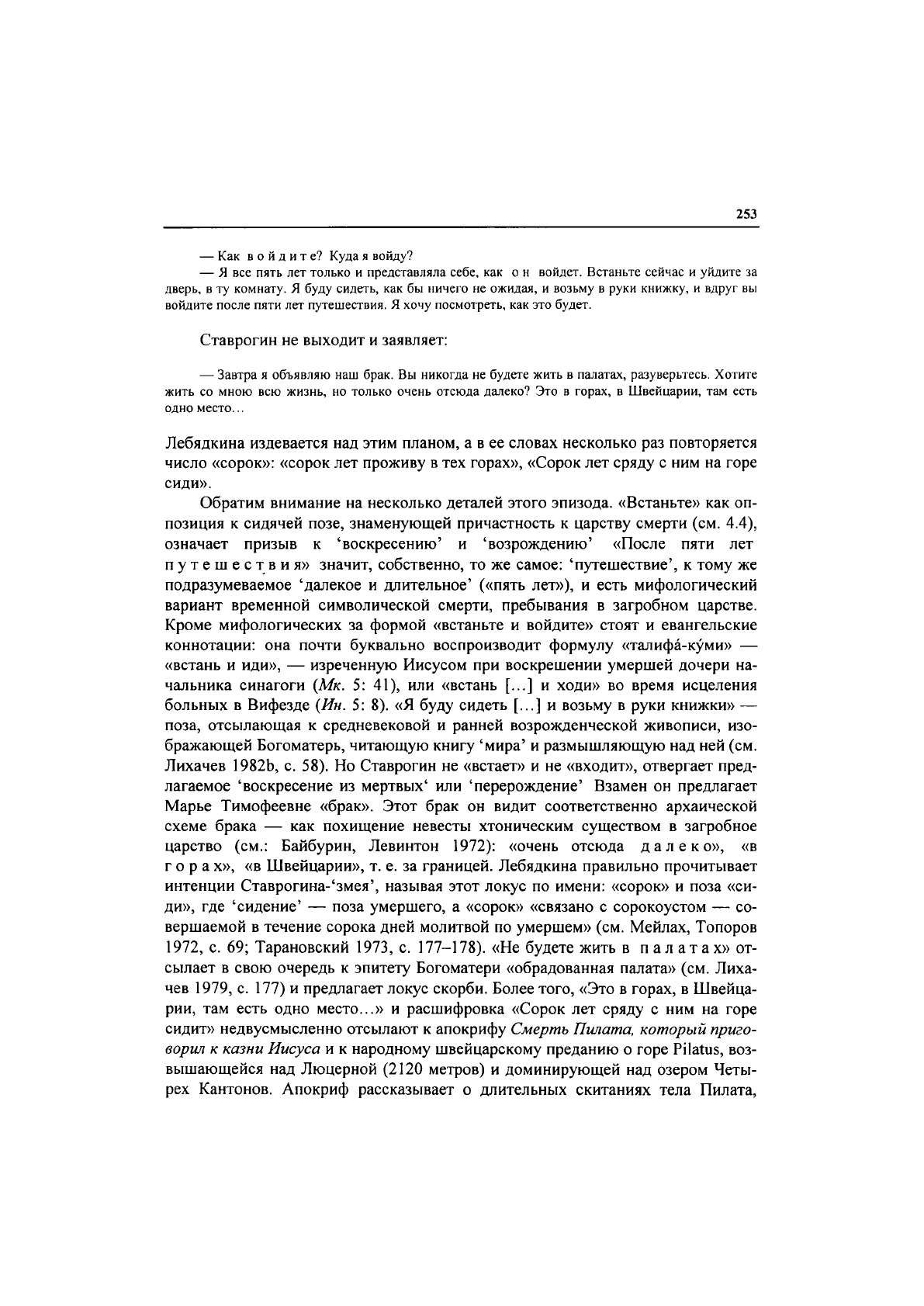
253
— Как войдите? Куда я войду?
— Я все пять лет только и представляла себе, как о н войдет. Встаньте сейчас и уйдите за
дверь, в ту комнату. Я буду сидеть, как бы ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы
войдите после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.
Ставрогин не выходит и заявляет:
— Завтра я объявляю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь. Хотите
жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко? Это в горах, в Швейцарии, там есть
одно место...
Лебядкина издевается над этим планом, а в ее словах несколько раз повторяется
число «сорок»: «сорок лет проживу в тех горах», «Сорок лет сряду с ним на горе
сиди».
Обратим внимание на несколько деталей этого эпизода. «Встаньте» как оп-
позиция к сидячей позе, знаменующей причастность к царству смерти (см. 4.4),
означает призыв к 'воскресению' и 'возрождению' «После пяти лет
путешествия» значит, собственно, то же самое: 'путешествие', к тому же
подразумеваемое 'далекое и длительное' («пять лет»), и есть мифологический
вариант временной символической смерти, пребывания в загробном царстве.
Кроме мифологических за формой «встаньте и войдите» стоят и евангельские
коннотации: она почти буквально воспроизводит формулу «талифа-куми» —
«встань и иди», — изреченную Иисусом при воскрешении умершей дочери на-
чальника синагоги (Мк. 5: 41), или «встань [...] и ходи» во время исцеления
больных в Вифезде (Ин. 5: 8). «Я буду сидеть [...] и возьму в руки книжки» —
поза, отсылающая к средневековой и ранней возрожденческой живописи, изо-
бражающей Богоматерь, читающую книгу 'мира' и размышляющую над ней (см.
Лихачев 1982b, с. 58). Но Ставрогин не «встает» и не «входит», отвергает пред-
лагаемое 'воскресение из мертвых' или 'перерождение' Взамен он предлагает
Марье Тимофеевне «брак». Этот брак он видит соответственно архаической
схеме брака — как похищение невесты хтоническим существом в загробное
царство (см.: Байбурин, Левинтон 1972): «очень отсюда далеко», «в
гора х», «в Швейцарии», т. е. за границей. Лебядкина правильно прочитывает
интенции Ставрогина-'змея', называя этот локус по имени: «сорок» и поза «си-
ди», где 'сидение' — поза умершего, а «сорок» «связано с сорокоустом — со-
вершаемой в течение сорока дней молитвой по умершем» (см. Мейлах, Топоров
1972, с. 69; Тарановский 1973, с. 177-178). «Не будете жить в п ал атах» от-
сылает в свою очередь к эпитету Богоматери «обрадованная палата» (см. Лиха-
чев 1979, с. 177) и предлагает локус скорби. Более того, «Это в горах, в Швейца-
рии, там есть одно место...» и расшифровка «Сорок лет сряду с ним на горе
сидит» недвусмысленно отсылают к апокрифу Смерть Пилата, который приго-
ворил к казни Иисуса и к народному швейцарскому преданию о горе Pilatus, воз-
вышающейся над Люцерной (2120 метров) и доминирующей над озером Четы-
рех Кантонов. Апокриф рассказывает о длительных скитаниях тела Пилата,
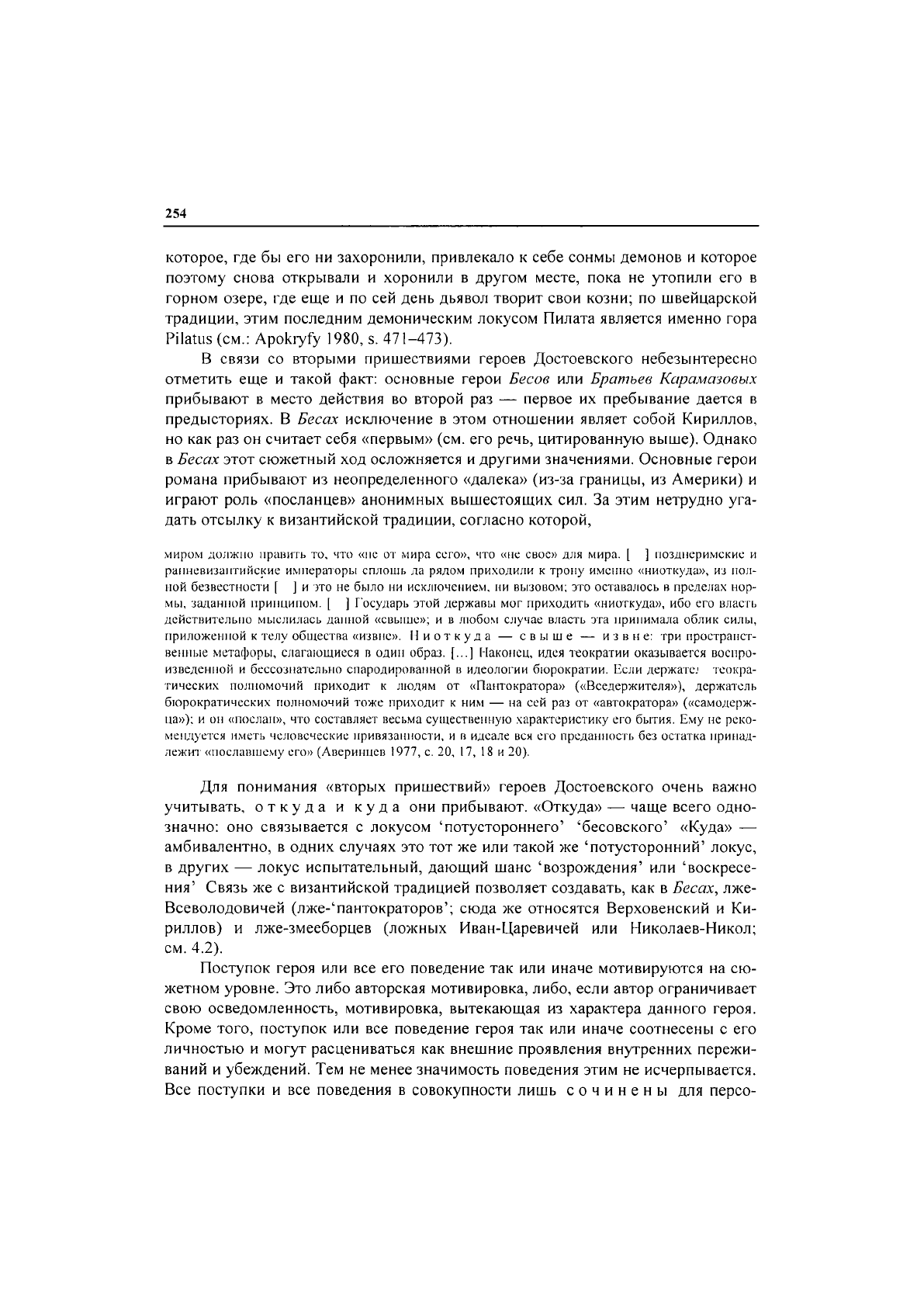
254
которое, где бы его ни захоронили, привлекало к себе сонмы демонов и которое
поэтому снова открывали и хоронили в другом месте, пока не утопили его в
горном озере, где еще и по сей день дьявол творит свои козни; по швейцарской
традиции, этим последним демоническим локусом Пилата является именно гора
Pilatus (см.: Apokryfy 1980, s. 471-473).
В связи со вторыми пришествиями героев Достоевского небезынтересно
отметить еще и такой факт: основные герои Бесов или Братьев Карамазовых
прибывают в место действия во второй раз — первое их пребывание дается в
предысториях. В Бесах исключение в этом отношении являет собой Кириллов,
но как раз он считает себя «первым» (см. его речь, цитированную выше). Однако
в Бесах этот сюжетный ход осложняется и другими значениями. Основные герои
романа прибывают из неопределенного «далека» (из-за границы, из Америки) и
играют роль «посланцев» анонимных вышестоящих сил. За этим нетрудно уга-
дать отсылку к византийской традиции, согласно которой,
миром должно править то, что «не от мира сего», что «не свое» для мира. [ ] позднеримские и
ранневизантийские императоры сплошь да рядом приходили к трону именно «ниоткуда», из пол-
ной безвестности [ ] и это не было ни исключением, ни вызовом; это оставалось в пределах нор-
мы, заданной принципом. [ ] Государь этой державы мог приходить «ниоткуда», ибо его власть
действительно мыслилась данной «свыше»; и в любом случае власть эта принимала облик силы,
приложенной к телу общества «извне».
I I
и о т к у д а — свыше — извне: три пространст-
венные метафоры, слагающиеся в один образ. [...] Наконец, идея теократии оказывается воспро-
изведенной и бессознательно спародированной в идеологии бюрократии. Если держате.' теокра-
тических полномочий приходит к людям от «Пантократора» («Вседержителя»), держатель
бюрократических полномочий тоже приходит к ним — на сей раз от «автократора» («самодерж-
ца»); и он «послан», что составляет весьма существенную характеристику его бытия. Ему не реко-
мендуется иметь человеческие привязанности, и в идеале вся его преданность без остатка принад-
лежит «пославшему его» (Аверинцев 1977, с. 20, 17, 18 и 20).
Для понимания «вторых пришествий» героев Достоевского очень важно
учитывать, откуда и куда они прибывают. «Откуда» — чаще всего одно-
значно: оно связывается с локусом 'потустороннего' 'бесовского' «Куда» —
амбивалентно, в одних случаях это тот же или такой же 'потусторонний' локус,
в других — локус испытательный, дающий шанс 'возрождения' или 'воскресе-
ния' Связь же с византийской традицией позволяет создавать, как в Бесах, лже-
Всеволодовичей (лже-'пантократоров'; сюда же относятся Верховенский и Ки-
риллов) и лже-змееборцев (ложных Иван-Царевичей или Николаев-Никол;
см. 4.2).
Поступок героя или все его поведение так или иначе мотивируются на сю-
жетном уровне. Это либо авторская мотивировка, либо, если автор ограничивает
свою осведомленность, мотивировка, вытекающая из характера данного героя.
Кроме того, поступок или все поведение героя так или иначе соотнесены с его
личностью и могут расцениваться как внешние проявления внутренних пережи-
ваний и убеждений. Тем не менее значимость поведения этим не исчерпывается.
Все поступки и все поведения в совокупности лишь сочинены для персо-
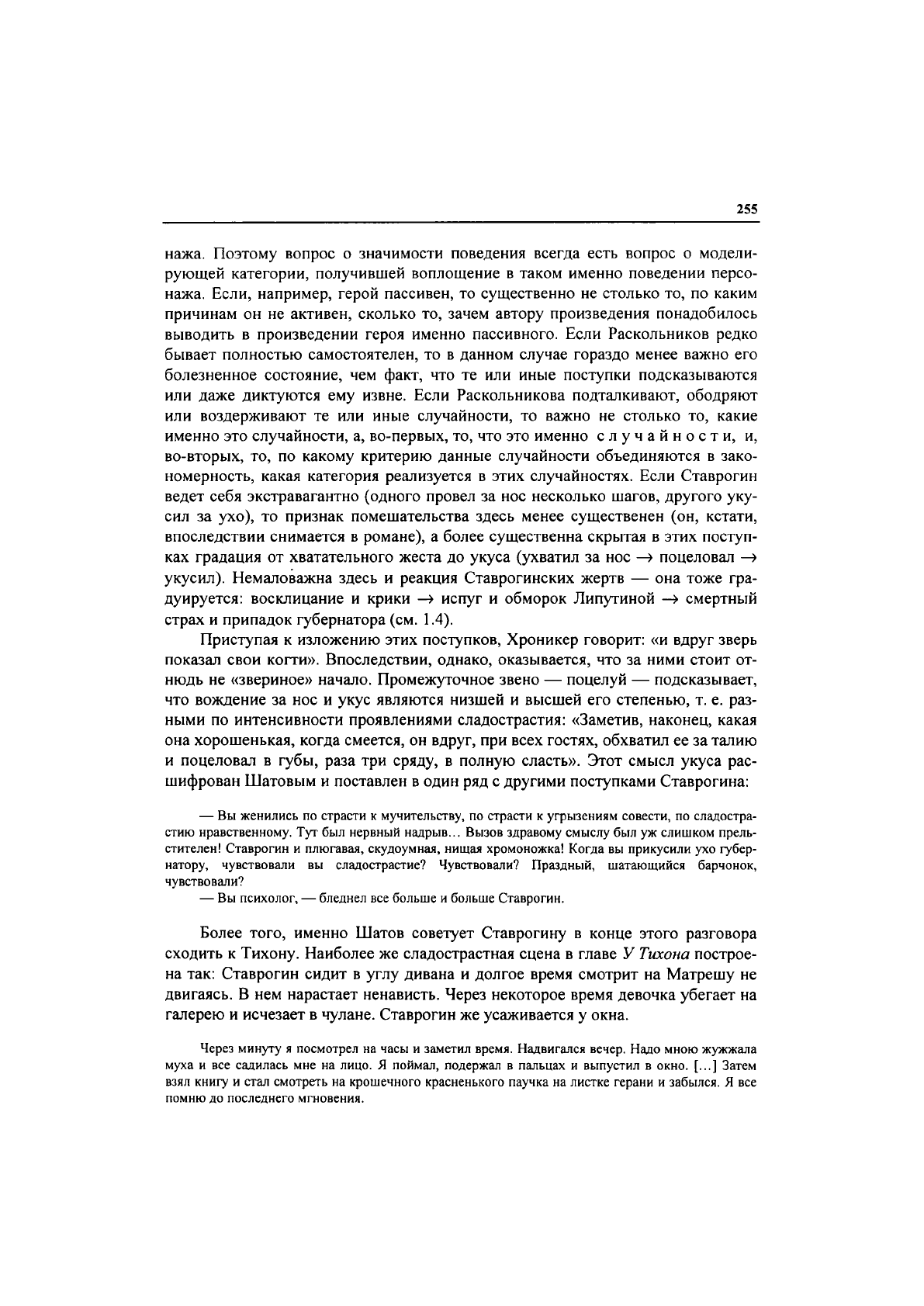
255
нажа. Поэтому вопрос о значимости поведения всегда есть вопрос о модели-
рующей категории, получившей воплощение в таком именно поведении персо-
нажа. Если, например, герой пассивен, то существенно не столько то, по каким
причинам он не активен, сколько то, зачем автору произведения понадобилось
выводить в произведении героя именно пассивного. Если Раскольников редко
бывает полностью самостоятелен, то в данном случае гораздо менее важно его
болезненное состояние, чем факт, что те или иные поступки подсказываются
или даже диктуются ему извне. Если Раскольникова подталкивают, ободряют
или воздерживают те или иные случайности, то важно не столько то, какие
именно это случайности, а, во-первых, то, что это именно случайности, и,
во-вторых, то, по какому критерию данные случайности объединяются в зако-
номерность, какая категория реализуется в этих случайностях. Если Ставрогин
ведет себя экстравагантно (одного провел за нос несколько шагов, другого уку-
сил за ухо), то признак помешательства здесь менее существенен (он, кстати,
впоследствии снимается в романе), а более существенна скрытая в этих поступ-
ках градация от хватательного жеста до укуса (ухватил за нос —> поцеловал —>
укусил). Немаловажна здесь и реакция Ставрогинских жертв — она тоже гра-
дуируется: восклицание и крики —» испуг и обморок Липутиной —» смертный
страх и припадок губернатора (см. 1.4).
Приступая к изложению этих поступков, Хроникер говорит: «и вдруг зверь
показал свои когти». Впоследствии, однако, оказывается, что за ними стоит от-
нюдь не «звериное» начало. Промежуточное звено — поцелуй — подсказывает,
что вождение за нос и укус являются низшей и высшей его степенью, т. е. раз-
ными по интенсивности проявлениями сладострастия: «Заметив, наконец, какая
она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию
и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть». Этот смысл укуса рас-
шифрован Шатовым и поставлен в один ряд с другими поступками Ставрогина:
— Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладостра-
стию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прель-
стителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губер-
натору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок,
чувствовали?
— Вы психолог, — бледнел все больше и больше Ставрогин.
Более того, именно Шатов советует Ставрогину в конце этого разговора
сходить к Тихону. Наиболее же сладострастная сцена в главе У Тихона построе-
на так: Ставрогин сидит в углу дивана и долгое время смотрит на Матрешу не
двигаясь. В нем нарастает ненависть. Через некоторое время девочка убегает на
галерею и исчезает в чулане. Ставрогин же усаживается у окна.
Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала
муха и все садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил в окно. [...] Затем
взял книгу и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все
помню до последнего мгновения.
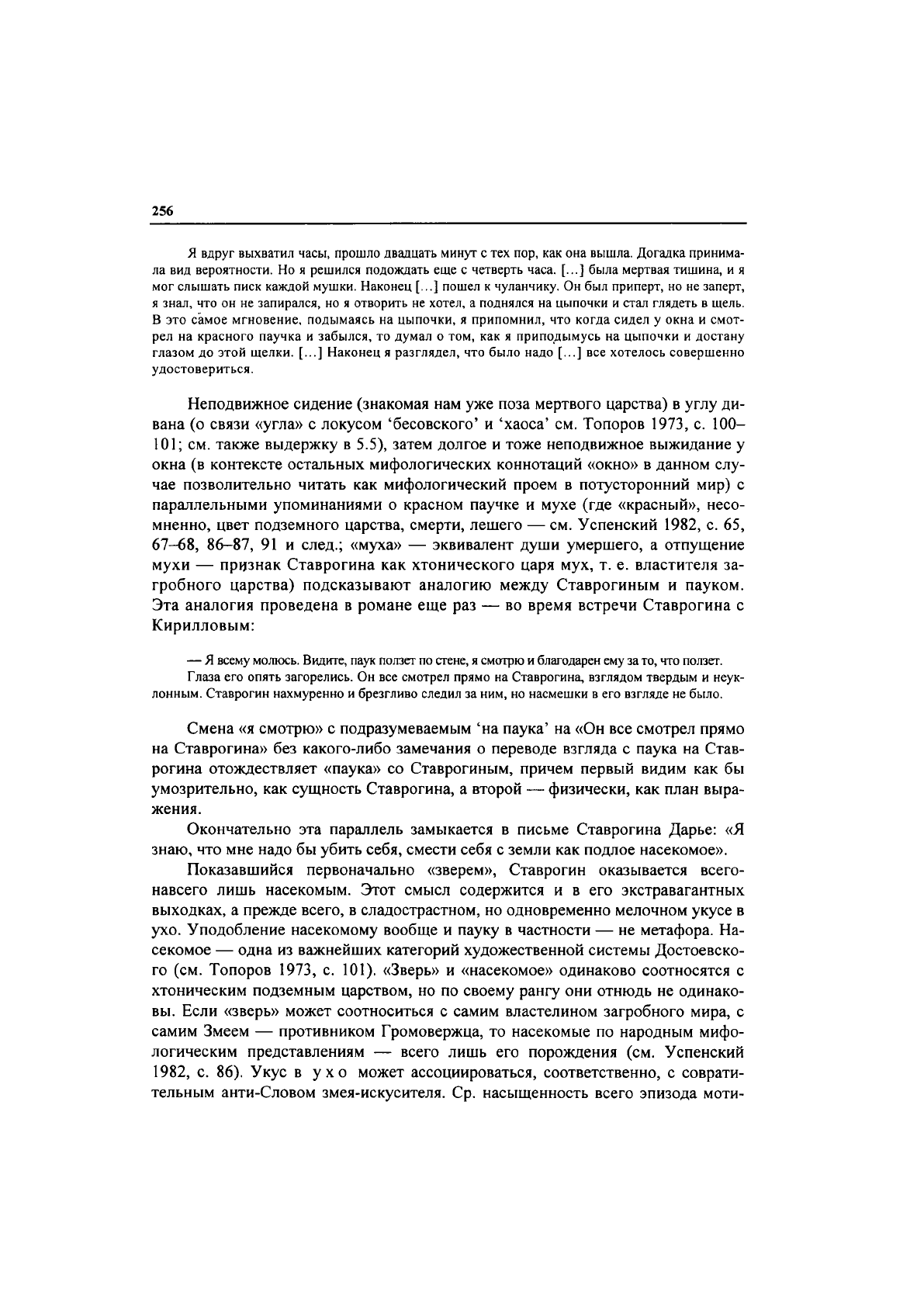
256
Я вдруг выхватил часы, прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принима-
ла вид вероятности. Но я решился подождать еще с четверть часа. [...] была мертвая тишина, и я
мог слышать писк каждой мушки. Наконец [...] пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт,
я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель.
В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смот-
рел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану
глазом до этой щелки. [...] Наконец я разглядел, что было надо [...] все хотелось совершенно
удостовериться.
Неподвижное сидение (знакомая нам уже поза мертвого царства) в углу ди-
вана (о связи «угла» с локусом 'бесовского' и 'хаоса' см. Топоров 1973, с. 100—
101; см. также выдержку в 5.5), затем долгое и тоже неподвижное выжидание у
окна (в контексте остальных мифологических коннотаций «окно» в данном слу-
чае позволительно читать как мифологический проем в потусторонний мир) с
параллельными упоминаниями о красном паучке и мухе (где «красный», несо-
мненно, цвет подземного царства, смерти, лешего — см. Успенский 1982, с. 65,
67-68, 86-87, 91 и след.; «муха» — эквивалент души умершего, а отпущение
мухи — признак Ставрогина как хтонического царя мух, т. е. властителя за-
гробного царства) подсказывают аналогию между Ставрогиным и пауком.
Эта аналогия проведена в романе еще раз — во время встречи Ставрогина с
Кирилловым:
— Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.
Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неук-
лонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было.
Смена «я смотрю» с подразумеваемым 'на паука' на «Он все смотрел прямо
на Ставрогина» без какого-либо замечания о переводе взгляда с паука на Став-
рогина отождествляет «паука» со Ставрогиным, причем первый видим как бы
умозрительно, как сущность Ставрогина, а второй — физически, как план выра-
жения.
Окончательно эта параллель замыкается в письме Ставрогина Дарье: «Я
знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое».
Показавшийся первоначально «зверем», Ставрогин оказывается всего-
навсего лишь насекомым. Этот смысл содержится и в его экстравагантных
выходках, а прежде всего, в сладострастном, но одновременно мелочном укусе в
ухо. Уподобление насекомому вообще и пауку в частности — не метафора. На-
секомое — одна из важнейших категорий художественной системы Достоевско-
го (см. Топоров 1973, с. 101). «Зверь» и «насекомое» одинаково соотносятся с
хтоническим подземным царством, но по своему рангу они отнюдь не одинако-
вы. Если «зверь» может соотноситься с самим властелином загробного мира, с
самим Змеем — противником Громовержца, то насекомые по народным мифо-
логическим представлениям — всего лишь его порождения (см. Успенский
1982, с. 86). Укус в ухо может ассоциироваться, соответственно, с соврати-
тельным анти-Словом змея-искусителя. Ср. насыщенность всего эпизода моти-
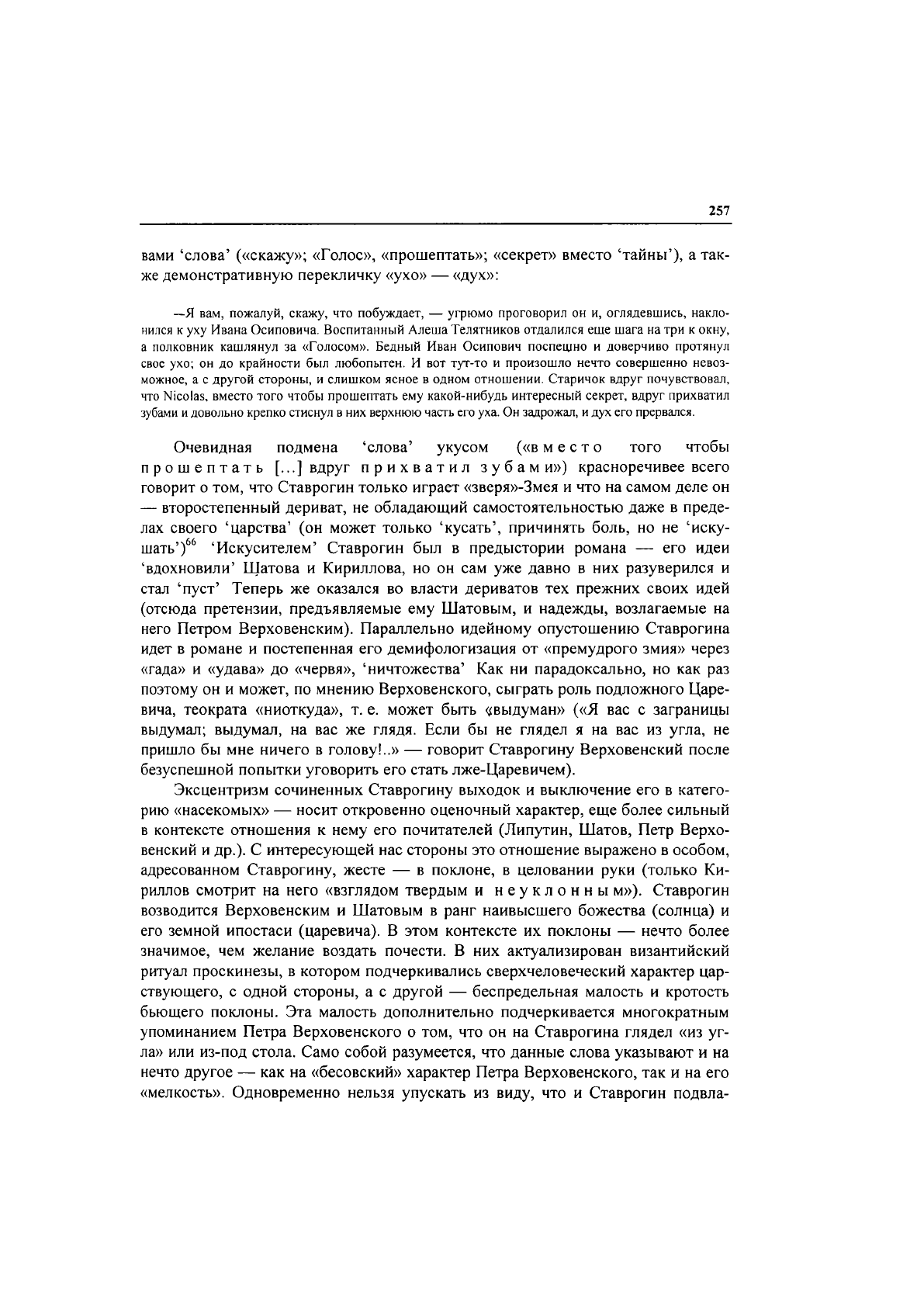
257
вами 'слова' («скажу»; «Голос», «прошептать»; «секрет» вместо 'тайны'), а так-
же демонстративную перекличку «ухо» — «дух»:
—Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, накло-
нился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну,
а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспеціно и доверчиво протянул
свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невоз-
можное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал,
что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил
зубами
и
довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал,
и
дух его прервался.
Очевидная подмена 'слова' укусом («в место того чтобы
прошептать [...] вдруг прихватил зубам и») красноречивее всего
говорит о том, что Ставрогин только играет «зверя»-3мея и что на самом деле он
— второстепенный дериват, не обладающий самостоятельностью даже в преде-
лах своего 'царства' (он может только 'кусать', причинять боль, но не 'иску-
шать')
66
'Искусителем' Ставрогин был в предыстории романа — его идеи
'вдохновили' Шатова и Кириллова, но он сам уже давно в них разуверился и
стал 'пуст' Теперь же оказался во власти дериватов тех прежних своих идей
(отсюда претензии, предъявляемые ему Шатовым, и надежды, возлагаемые на
него Петром Верховенским). Параллельно идейному опустошению Ставрогина
идет в романе и постепенная его демифологизация от «премудрого змия» через
«гада» и «удава» до «червя», 'ничтожества' Как ни парадоксально, но как раз
поэтому он и может, по мнению Верховенского, сыграть роль подложного Царе-
вича, теократа «ниоткуда», т. е. может быть ^выдуман» («Я вас с заграницы
выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не
пришло бы мне ничего в голову!..» — говорит Ставрогину Верховенский после
безуспешной попытки уговорить его стать лже-Царевичем).
Эксцентризм сочиненных Ставрогину выходок и выключение его в катего-
рию «насекомых» — носит откровенно оценочный характер, еще более сильный
в контексте отношения к нему его почитателей (Липутин, Шатов, Петр Верхо-
венский и др.). С интересующей нас стороны это отношение выражено в особом,
адресованном Ставрогину, жесте — в поклоне, в целовании руки (только Ки-
риллов смотрит на него «взглядом твердым и неуклонны м»). Ставрогин
возводится Верховенским и Шатовым в ранг наивысшего божества (солнца) и
его земной ипостаси (царевича). В этом контексте их поклоны — нечто более
значимое, чем желание воздать почести. В них актуализирован византийский
ритуал проскинезы, в котором подчеркивались сверхчеловеческий характер цар-
ствующего, с одной стороны, а с другой — беспредельная малость и кротость
бьющего поклоны. Эта малость дополнительно подчеркивается многократным
упоминанием Петра Верховенского о том, что он на Ставрогина глядел «из уг-
ла» или из-под стола. Само собой разумеется, что данные слова указывают и на
нечто другое — как на «бесовский» характер Петра Верховенского, так и на его
«мелкость». Одновременно нельзя упускать из виду, что и Ставрогин подвла-
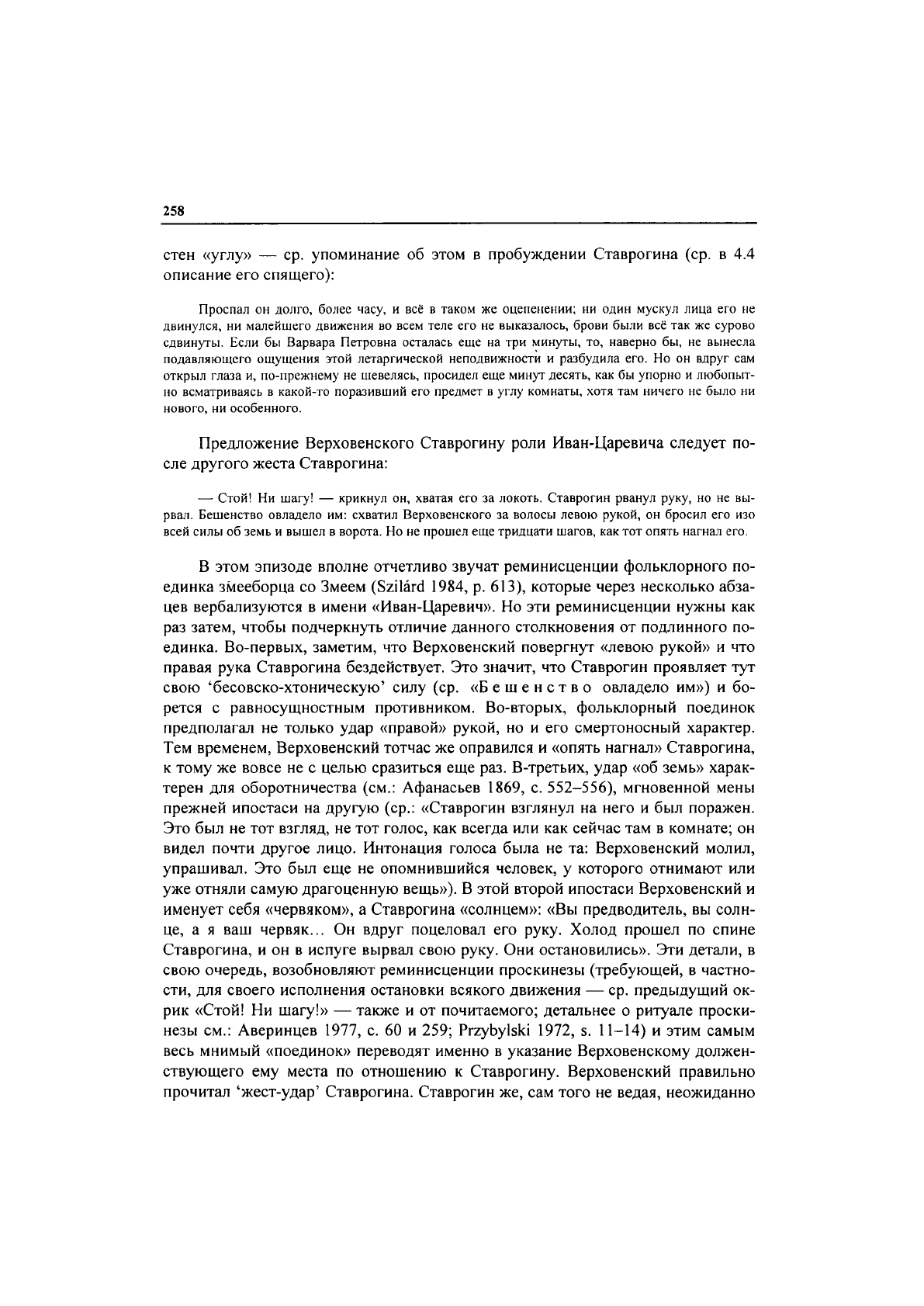
258
стен «углу» — ср. упоминание об этом в пробуждении Ставрогина (ср. в 4.4
описание его спящего):
Проспал он долго, более часу, и всё в таком же оцепенении; ни один мускул лица его не
двинулся, ни малейшего движения во всем теле его не выказалось, брови были всё так же сурово
сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, то, наверно бы, не вынесла
подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам
открыл глаза и, по-прежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопыт-
но всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни
нового, ни особенного.
Предложение Верховенского Ставрогину роли Иван-Царевича следует по-
сле другого жеста Ставрогина:
— Стой! Ни шагу! — крикнул он, хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вы-
рвал. Бешенство овладело им: схватил Верховенского за волосы левою рукой, он бросил его изо
всей силы об земь и вышел в ворота. Но не прошел еще тридцати шагов, как тот опять нагнал его.
В этом эпизоде вполне отчетливо звучат реминисценции фольклорного по-
единка змееборца со Змеем (Szilärd 1984, р. 613), которые через несколько абза-
цев вербализуются в имени «Иван-Царевич». Но эти реминисценции нужны как
раз затем, чтобы подчеркнуть отличие данного столкновения от подлинного по-
единка. Во-первых, заметим, что Верховенский повергнут «левою рукой» и что
правая рука Ставрогина бездействует. Это значит, что Ставрогин проявляет тут
свою 'бесовско-хтоническую' силу (ср. «Бешенство овладело им») и бо-
рется с равносущностным противником. Во-вторых, фольклорный поединок
предполагал не только удар «правой» рукой, но и его смертоносный характер.
Тем временем, Верховенский тотчас же оправился и «опять нагнал» Ставрогина,
к тому же вовсе не с целью сразиться еще раз. В-третьих, удар «об земь» харак-
терен для оборотничества (см.: Афанасьев 1869, с. 552-556), мгновенной мены
прежней ипостаси на другую (ср.: «Ставрогин взглянул на него и был поражен.
Это был не тот взгляд, не тот голос, как всегда или как сейчас там в комнате; он
видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та: Верховенский молил,
упрашивал. Это был еще не опомнившийся человек, у которого отнимают или
уже отняли самую драгоценную вещь»). В этой второй ипостаси Верховенский и
именует себя «червяком», а Ставрогина «солнцем»: «Вы предводитель, вы солн-
це, а я ваш червяк... Он вдруг поцеловал его руку. Холод прошел по спине
Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились». Эти детали, в
свою очередь, возобновляют реминисценции проскинезы (требующей, в частно-
сти, для своего исполнения остановки всякого движения — ср. предыдущий ок-
рик «Стой! Ни шагу!» — также и от почитаемого; детальнее о ритуале проски-
незы см.: Аверинцев 1977, с. 60 и 259; Przybylski 1972, s. 11-14) и этим самым
весь мнимый «поединок» переводят именно в указание Верховенскому должен-
ствующего ему места по отношению к Ставрогину. Верховенский правильно
прочитал 'жест-удар' Ставрогина. Ставрогин же, сам того не ведая, неожиданно
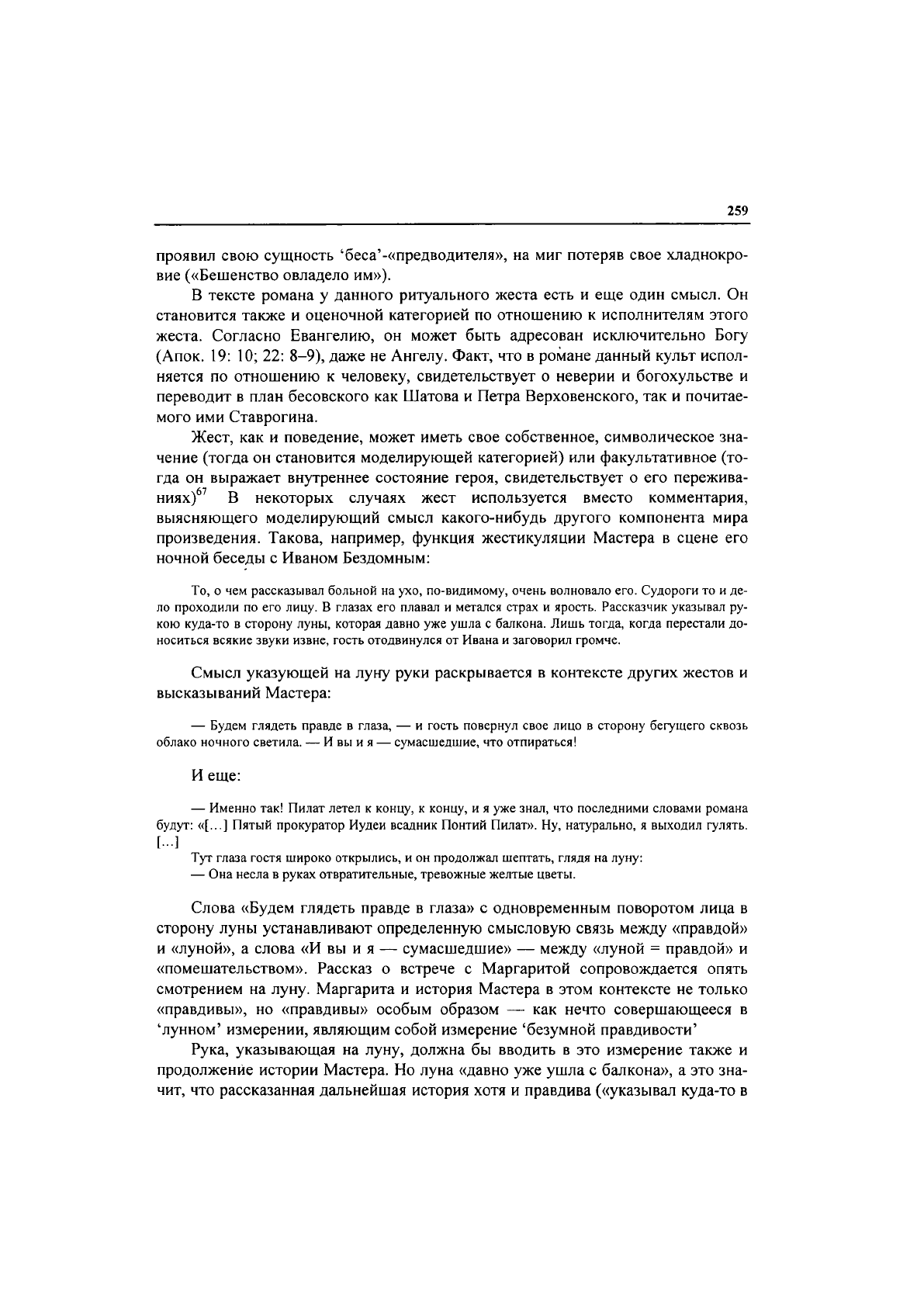
259
проявил свою сущность 'беса'-«предводителя», на миг потеряв свое хладнокро-
вие («Бешенство овладело им»).
В тексте романа у данного ритуального жеста есть и еще один смысл. Он
становится также и оценочной категорией по отношению к исполнителям этого
жеста. Согласно Евангелию, он может быть адресован исключительно Богу
(Апок. 19: 10; 22: 8-9), даже не Ангелу. Факт, что в романе данный культ испол-
няется по отношению к человеку, свидетельствует о неверии и богохульстве и
переводит в план бесовского как Шатова и Петра Верховенского, так и почитае-
мого ими Ставрогина.
Жест, как и поведение, может иметь свое собственное, символическое зна-
чение (тогда он становится моделирующей категорией) или факультативное (то-
гда он выражает внутреннее состояние героя, свидетельствует о его пережива-
ниях)
67
В некоторых случаях жест используется вместо комментария,
выясняющего моделирующий смысл какого-нибудь другого компонента мира
произведения. Такова, например, функция жестикуляции Мастера в сцене его
ночной беседы с Иваном Бездомным:
То, о чем рассказывал больной на ухо, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и де-
ло проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал ру-
кою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали до-
носиться всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил громче.
Смысл указующей на луну руки раскрывается в контексте других жестов и
высказываний Мастера:
— Будем глядеть правде в глаза, — и гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь
облако ночного светила. — И вы и я — сумасшедшие, что отпираться!
И еще:
— Именно так! Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа
будут: «[...] Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Ну, натурально, я выходил гулять.
[••]
Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну:
— Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы.
Слова «Будем глядеть правде в глаза» с одновременным поворотом лица в
сторону луны устанавливают определенную смысловую связь между «правдой»
и «луной», а слова «И вы и я — сумасшедшие» — между «луной = правдой» и
«помешательством». Рассказ о встрече с Маргаритой сопровождается опять
смотрением на луну. Маргарита и история Мастера в этом контексте не только
«правдивы», но «правдивы» особым образом — как нечто совершающееся в
'лунном' измерении, являющим собой измерение 'безумной правдивости'
Рука, указывающая на луну, должна бы вводить в это измерение также и
продолжение истории Мастера. Но луна «давно уже ушла с балкона», а это зна-
чит, что рассказанная дальнейшая история хотя и правдива («указывал куда-то в
