Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

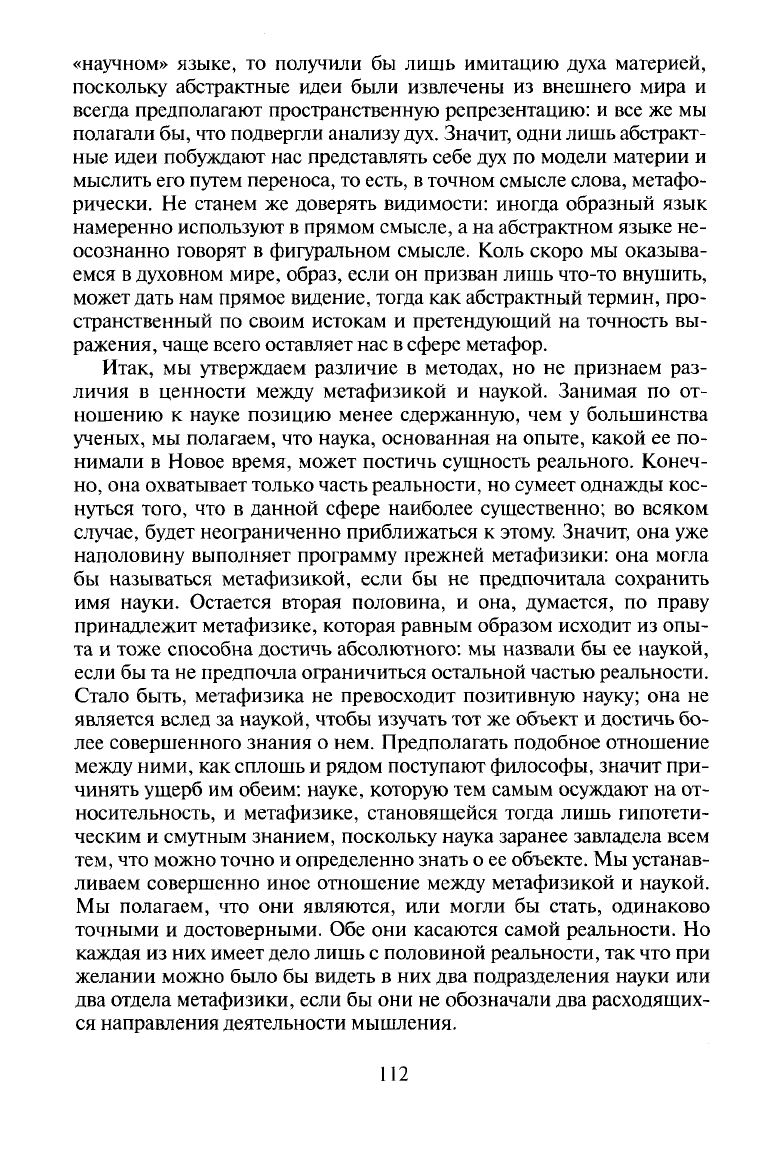
«научном»
языке,
то
получили
бы
лишь
имитацию
духа
материей,
поскольку
абстрактные
идеи
бьmи
извлечены
из
внешнего
мира
и
всегда
предполагают
пространственную
репрезентацию:
и
все
же
мы
полагали
бы,
что
подвергли
анализу
дух.
Значит,
одни
лишь
абстракт
ные
идеи
побуждают
нас
представлять
себе
дух
по
модели
материи
и
мыслить
его
путем
переноса,
то
есть,
в
точном
смысле
слова,
метафо
рически.
Не
станем
же
доверять
видимости:
иногда
образный
язык
намеренно
используют
в
прямом
смысле,
а
на
абстрактном
языке
не
осознанно
говорят
в
фигуральном
смысле.
Коль
скоро
мы
оказыва
емся
в
духовном
мире,
образ,
если
он
призван
лишь
что-то
внушить,
может
дать
нам
прямое
видение,
тогда
как
абстрактный
термин,
про
странственный
по
своим
истокам
и
претендующий
на
точность
вы
ражения,
чаще
всего
оставляет
нас
в
сфере
метафор.
Итак,
мы
утверждаем
различие
в
методах,
но
не
признаем
раз
личия
в
ценности
между
метафизикой
и
наукой.
Занимая
по
от
ношению
к
науке
позицию
менее
сдержанную,
чем
у
большинства
ученых,
мы
полагаем,
что
наука,
основанная
на
опыте,
какой
ее
по
нимали
в
Новое
время,
может
постичь
сущность
реального.
Конеч
но,
она
охватывает
только
часть
реальности,
но
сумеет
однажды
кос
нуться
того,
что
в
данной
сфере
наиболее
существенно;
во
всяком
случае,
будет
неограниченно
приближаться
к
этому.
Значит,
она уже
наполовину
выполняет
программу
прежней
метафизики:
она
могла
бы
называться
метафизикой,
если
бы
не
предпочитала
сохранить
имя
науки.
Остается
вторая
половина,
и
она,
думается,
по
праву
принадлежит
метафизике,
которая
равным
образом
исходит
из
опы
та
и
тоже
способна
достичь
абсолютного:
мы
назвали
бы
ее
наукой,
если
бы
та
не
предпочла
ограничиться
остальной
частью
реальности.
Стало
быть,
метафизика
не
превосходит
позитивную
науку;
она
не
является
вслед
за
наукой,
чтобы
изучать
тот
же
объект
и
достичь
бо
лее
совершенного
знания
о
нем.
Предполагать
подобное
отношение
между
ними,
как
сплошь
и
рядом
поступают
Философы,
значит при
чинять
ущерб
им
обеим:
науке,
которую
тем
самым
осуждают
на
от
носительность,
и
метафизике,
становящейся
тогда
лишь
гипотети
ческим и
смутным
знанием,
поскольку
наука
заранее
завладела
всем
тем,
что
можно
точно
и
определенно
знать
о
ее
объекте.
Мы
устанав
ливаем
совершенно
иное
отношение
между
метафизикой
и
наукой.
Мы
полагаем,
что
они
являются,
или
могли
бы
стать,
одинаково
точными
и достоверными.
Обе они
касаются
самой
реальности.
Но
каждая
из
них
имеет
дело
лишь
с
половиной
реальности,
так
что
при
желании
можно
бьmо
бы
видеть
в
них
два
подразделения
науки
или
два
отдела
метафизики,
если
бы
они
не
обозначали
два
расходящих
ся
направления
деятельности
мышления.
112
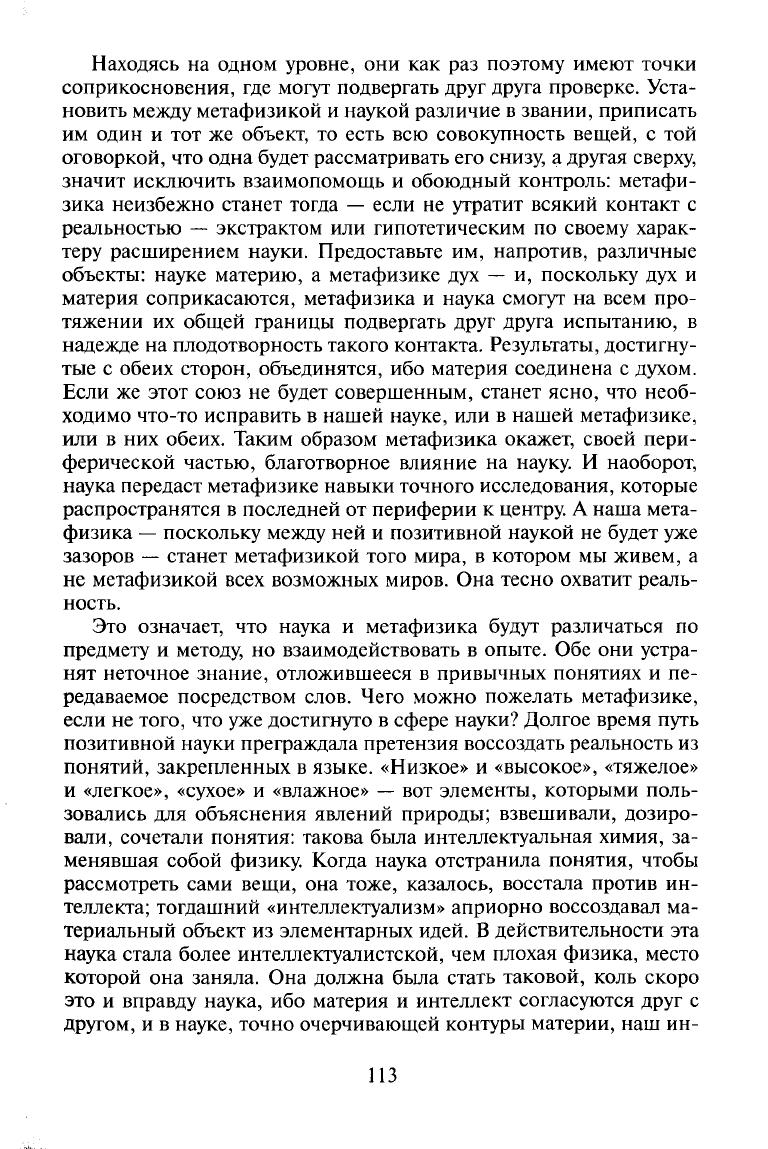
Находясь
на
одном
уровне,
они
как
раз
поэтому
имеют
точки
соприкосновения,
где
могут
подвергать
друг
друга
проверке.
Уста
новить
между
метафизикой
и
наукой
различие
в
звании,
приписать
им
один и
тот
же
объект,
то
есть
всю
совокупность
вещей,
с
той
оговоркой,
что
одна
будет
рассматривать
его
снизу, а
другая
сверху,
значит
исключить
взаимопомощь
и
обоюдный
контроль:
метафи
зика
неизбежно
станет
тогда
-
если
не
утратит
всякий
контакт
с
реальностью
- экстрактом
или
гипотетическим
по
своему
харак
теру
расширением
науки.
Предоставьте
им,
напротив,
различные
объекты:
науке
материю,
а
метафизике
дух
-
и,
поскольку
дух
и
материя
соприкасаются,
метафизика
и
наука
смогут
на
всем
про
тяжении
их
общей
границы
подвергать
друг
друга
испытанию,
в
надежде
на
плодотворность
такого
контакта.
Результаты,
достигну
тые
с
обеих
сторон,
объединятся,
ибо
материя
соединена
с
духом.
Если
же
этот
союз
не
будет
совершенным,
станет
ясно,
что
необ
ходимо
что-то
исправить
в
нашей
науке,
или
в
нашей
метафизике,
или
в
них
обеих.
Таким
образом
метафизика
окажет,
своей
пери
ферической
частью,
благотворное
влияние
на
науку.
И
наоборот,
наука
передаст
метафизике
навыки
точного
исследования,
которые
распространятся
в
последней
от
периферии
к
центру.
А
наша
мета
физика
-
поскольку
между
ней
и
позитивной
наукой
не
будет
уже
зазоров
-
станет
метафизикой
того
мира,
в
котором
мы
живем,
а
не
метафизикой
всех
возможных
миров.
Она
тесно
охватит
реаль
ность.
Это
означает,
что
наука
и
метафизика
будут
различаться
по
предмету
и
методу,
но
взаимодействовать
в
опыте.
Обе
они
устра
нят
неточное
знание,
отложившееся
в
привычных
понятиях
И
пе
редаваемое
посредством
слов.
Чего
можно
пожелать
метафизике,
если
не
того,
что
уже
достигнуто
в
сфере
науки?
Долгое
время
путь
позитивной
науки
преграждала
претензия
воссоздать
реальность
из
понятий,
закрепленных
в
языке.
«Низкое»
И
«высокое»,
«тяжелое»
И
«легкое»,
«сухое»
И
«влажное»
-
вот
элементы,
которыми
поль
зовались
для
объяснения
явлений
природы;
взвешивали,
дозиро
вали,
сочетали понятия:
такова
бьша
интеллектуальная
химия,
за
менявшая
собой
физику.
Когда
наука
отстранила
понятия,
чтобы
рассмотреть
сами
вещи,
она
тоже,
казалось,
восстала
против
ин
теллекта;
тогдашний
«интеллектуализм»
априорно
воссоздавал
ма
териальный
объект
из
элементарных
идей.
В
действительности
эта
наука
стала
более
интеллектуалистской,
чем
плохая
физика,
место
которой
она
заняла.
Она
должна
бьша
стать
таковой,
коль
скоро
это
и вправду
наука,
ибо
материя
и
интеллект
согласуются
друг
с
другом,
и
в
науке,
точно
очерчивающей
контуры
материи,
наш
ин-
113
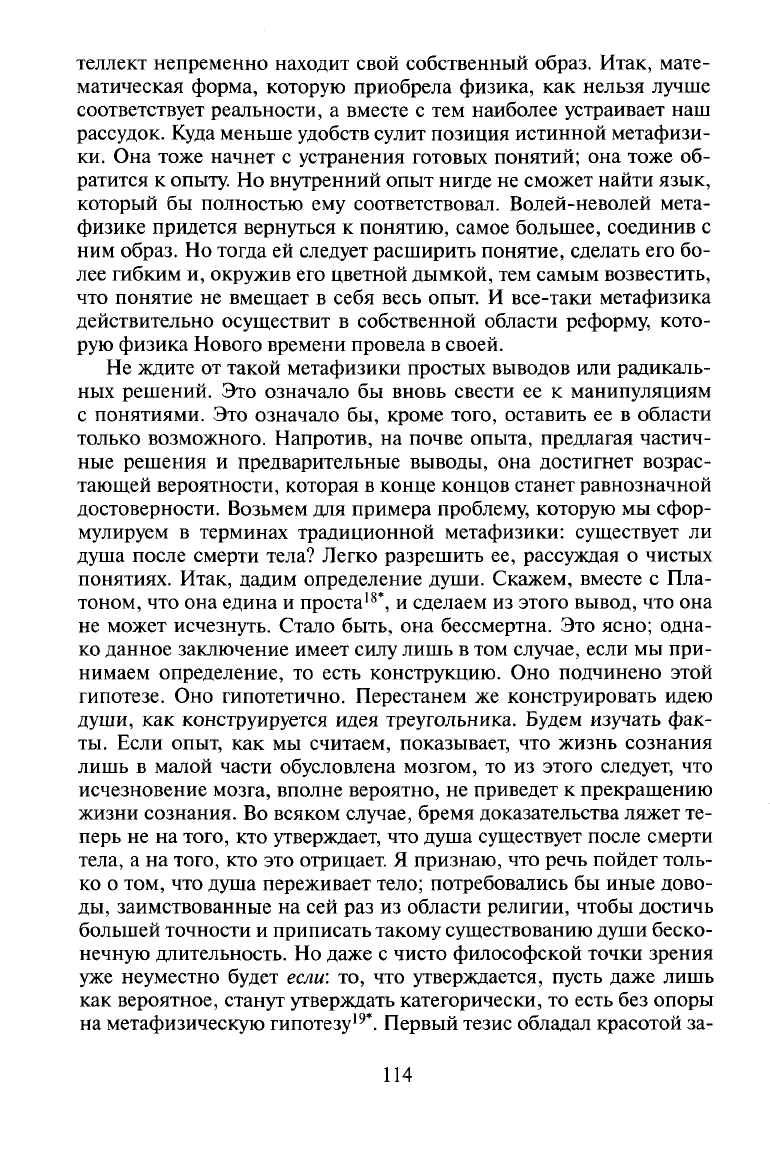
теллект
непременно
находит
свой
собственный
образ.
Итак,
мате
матическая
форма,
которую
приобрела
физика,
как
нельзя
лучше
соответствует
реальности,
а
вместе
с
тем
наиболее
устраивает
наш
рассудок.
Куда
меньше
удобств
сулит
позиция
истинной
метафизи
ки.
Она
тоже
начнет
с
устранения
готовых
понятий;
она
тоже
об
ратится
к
опыту.
Но
внутренний
опыт
нигде
не
сможет
найти
язык,
который
бы
полностью
ему
соответствовал.
Волей-неволей
мета
физике
придется
вернуться
к понятию,
самое
большее,
соединив
с
ним
образ.
Но
тогда
ей
следует
расширить
понятие,
сделать
его
бо
лее
гибким
и,
окружив
его
цветной
дымкой,
тем
самым
возвестить,
что
понятие
не
вмещает
в
себя
весь
опыт.
И
все-таки
метафизика
действительно
осуществит
в
собственной
области
реформу,
кото
рую
физика
Нового
времени
провела
в
своей.
Не
ждите
от
такой
метафизики
простых
выводов
или
радикаль
ных
решений.
Это
означало
бы
вновь
свести
ее
к
манипуляциям
с
понятиями.
Это
означало
бы,
кроме
того,
оставить
ее
в
области
только
возможного.
Напротив,
на почве
опыта,
предлагая
частич
ные
решения
и
предварительные
выводы,
она
достигнет
возрас
тающей
вероятности,
которая
в
конце
концов
станет
равнозначной
достоверности.
Возьмем
для
примера
проблему,
которую
мы
сфор
мулируем
в
терминах
традиционной
метафизики:
существует
ли
душа
после
смерти
тела?
Легко
разрешить
ее,
рассуждая
о
чистых
понятиях.
Итак,
дадим
определение
души.
Скажем,
вместе
с
Пла
тоном,
что
она
едина
и
проста
18
*,
и
сделаем
из
этого
вывод,
что
она
не
может
исчезнуть.
Стало
быть,
она
бессмертна.
Это
ясно;
одна
ко
данное
заключение
имеет
силу
лишь
в
том
случае,
если
мы
при
нимаем
определение,
то
есть
конструкцию.
Оно
подчинено
этой
гипотезе.
Оно
гипотетично.
Пере
станем
же
конструировать
идею
души,
как
конструируется
идея
треугольника.
Будем
изучать
фак
ты.
Если
опыт,
как
мы
считаем,
показывает,
что
жизнь
сознания
лишь
в
малой
части
обусловлена
мозгом,
то
из
этого
следует,
что
исчезновение
мозга,
вполне
вероятно,
не
приведет
к
прекращению
жизни
сознания.
Во
всяком
случае,
бремя
доказательства
ляжет
те
перь
не
на
того,
кто
утверждает,
что
душа
существует
после
смерти
тела,
а
на
того,
кто
это
отрицает.
Я
признаю,
что
речь
пойдет
толь
ко
о
том,
что
душа
переживает
тело;
потребовались
бы
иные
дово
ды,
заимствованные
на
сей
раз
из
области
религии,
чтобы
достичь
большей
точности
и
приписать такому
существованию
души
беско
нечную
длительность.
Но
даже
с
чисто
философской
точки
зрения
уже
неуместно
будет
если:
то,
что
утверждается,
пусть
даже
лишь
как
вероятное,
станут
утверждать
категорически,
то
есть
без
опоры
на
метафизическую
гипотезу19*.
Первый
тезис
обладал
красотой
за-
114
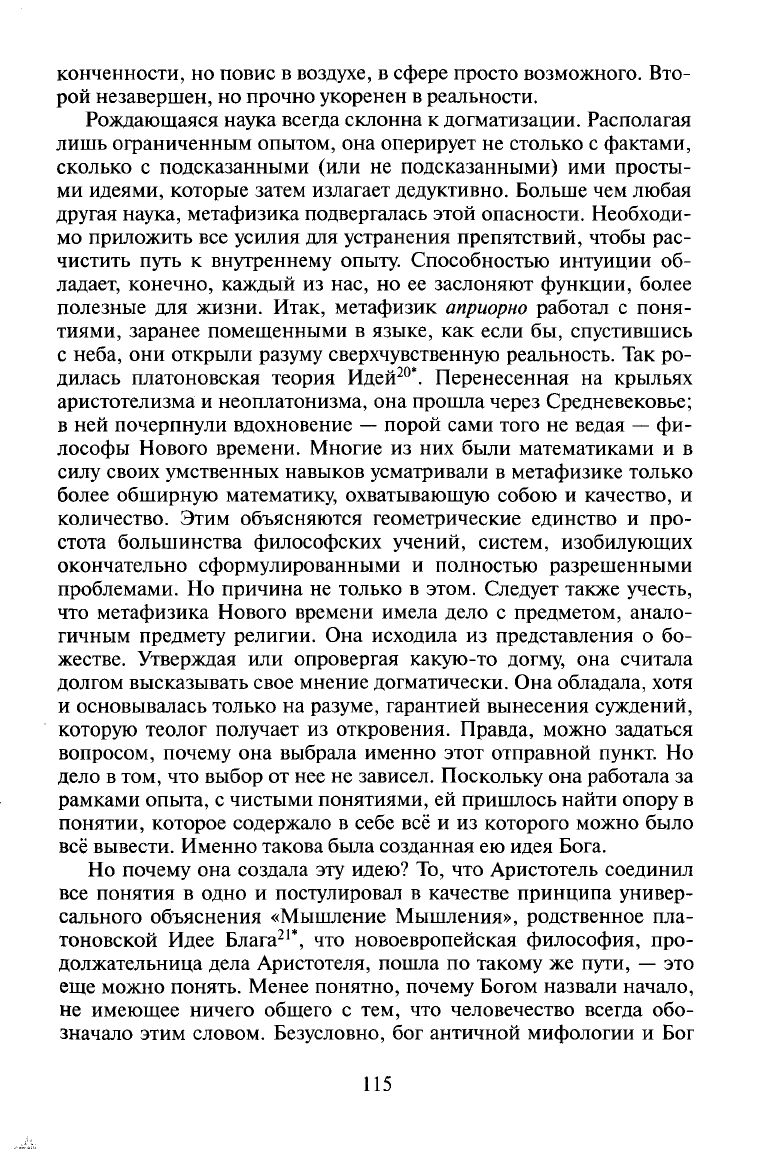
конченности,
но
повис
в
воздухе,
в
сфере
просто
возможного.
Вто
рой
незавершен,
но прочно
укоренен
в
реальности.
Рождающаяся
наука
всегда
склонна
к
догматизации.
Располагая
лишь
ограниченным
опытом,
она
оперирует
не
столько
с
фактами,
сколько
с
подсказанными
(или
не
подсказанными)
ими
просты
ми
идеями,
которые
затем
излагает
дедуктивно.
Больше
чем
любая
другая
наука,
метафизика
подвергалась
этой
опасности.
Необходи
Mo
приложить
все
усилия
для
устранения
препятствий,
чтобы
рас
чистить
путь
к
внутреннему
опыту.
Способностью
интуиции
об
ладает,
конечно,
каждый
из
нас,
но
ее
заслоняют
функции,
более
полезные
для
жизни.
Итак,
метафизик
априорно
работал
с
поня
тиями,
заранее
помещенными
в
языке,
как
если
бы,
спустившись
с
неба,
они
открыли
разуму
сверхчувственную
реальность.
Так
ро
дилась
платоновская
теория
ИдеЙ
2О
*.
Перенесенная
на
крыльях
аристотелизма
и
неоплатонизма,
она
прошла
через
Средневековье;
в
ней
почерпнули
вдохновение
-
порой
сами
того
не
ведая
-
фи
лософы
Нового
времени.
Многие
из
них
были
математиками
и
в
силу
своих
умственных
навыков
усматривали
в
метафизике
только
более
обширную
математику,
охватывающую
собою
и
качество,
и
количество.
Этим
объясняются
геометрические
единство
и
про
стота
большинства
философских
учений,
систем,
изобилующих
окончательно
сформулированными
и
полностью
разрешенными
проблемами.
Но
причина
не
только
в
этом.
Следует
также
учесть,
что
метафизика
Нового
времени
имела
дело
с
предметом,
анало
гичным
предмету
религии.
Она
исходила
из
представления
о
бо
жестве.
Утверждая
или
опровергая
какую-то
догму,
она
считала
долгом
высказывать
свое
мнение
догматически.
Она
обладала,
хотя
и
основывалась
только на
разуме,
гарантией
вынесения
суждений,
которую
теолог
получает
из
откровения.
Правда,
можно
задаться
вопросом,
почему
она
выбрала
именно
этот
отправной
пункт.
Но
дело
в
том,
что
выбор
от
нее
не
зависел.
Поскольку
она
работала
за
рамками
опыта,
с
чистыми
понятиями,
ей
пришлось
найти
опору
в
понятии, которое
содержало
в
себе
всё
и
из
которого
можно
было
всё
вывести.
Именно
такова
бьmа
созданная
ею
идея
Бога.
Но
почему
она
создала
эту
идею?
То,
что
Аристотель
соединил
все
понятия
в
одно и
постулировал
в
качестве
принципа
универ
сального
объяснения
«Мышление
Мышлению>,
родственное
пла
тоновской
Идее
Блага
21
*,
что
новоевропейская
Философия,
про
должательница
дела
Аристотеля,
пошла
по
такому
же
пути,
-
это
еще
можно
понять.
Менее
понятно,
почему
Богом
назвали
начало,
не
имеющее
ничего
общего
с
тем,
что
человечество
всегда
обо
значало
этим
словом.
Безусловно,
бог
античной
мифологии
и
Бог
115
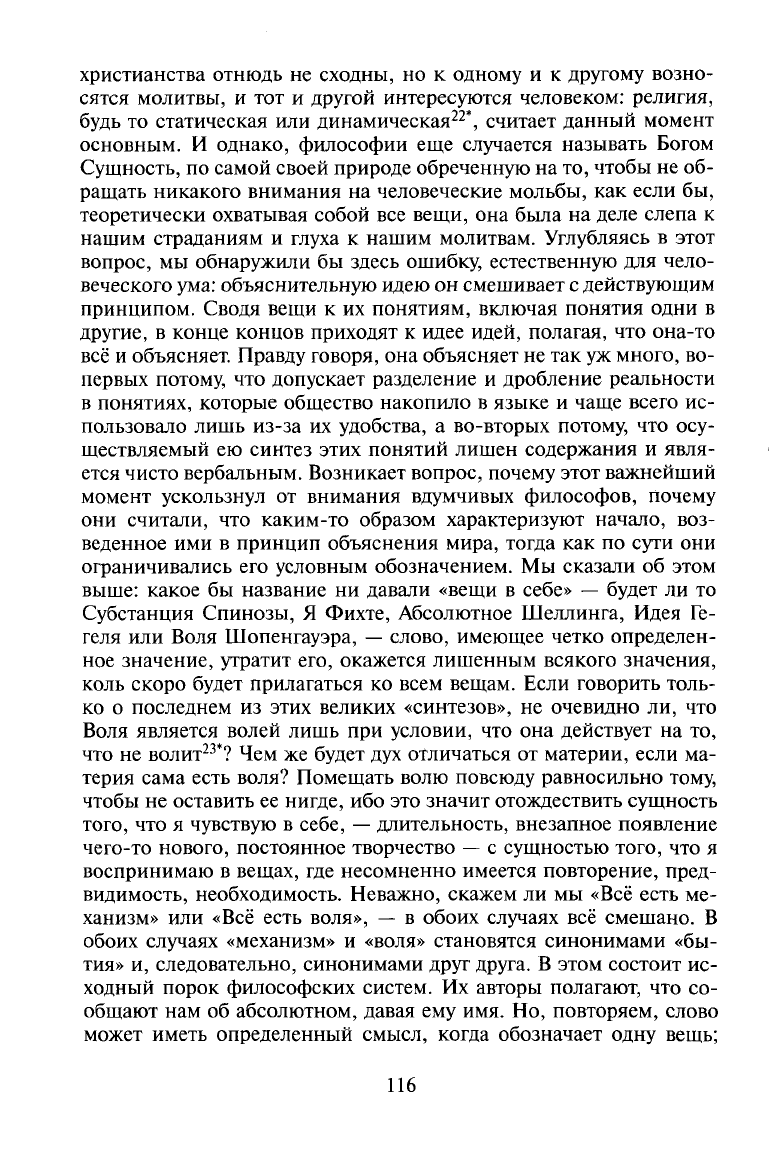
христианства
отнюдь
не
сходны,
но к
одному
и к
друтому
возно
сятся
молитвы,
и
тот
и
другой
интересуются
человеком:
религия,
будь
то
статическая
или
динамическая
22
*,
считает
данный
момент
основным.
И
однако,
философии
еще
случается
называть
Богом
Сущность,
по
самой
своей
природе
обреченную
на
то,
чтобы
не
об
ращать
никакого
внимания
на
человеческие
мольбы,
как
если
бы,
теоретически
охватывая
собой
все
вещи,
она
бьша
на
деле
слепа
к
нашим
страданиям
и
глуха
к
нашим
молитвам.
Углубляясь
в
этот
вопрос,
мы
обнаружили
бы
здесь
ошибку,
естественную
для
чело
веческого
ума:
объяснительную
идею
он
смешивает
с
действующим
принципом.
Сводя
вещи
к
их
понятиям,
включая
понятия
одни
в
другие,
в
конце
концов
приходят
к
идее
идей,
полагая,
что она-то
всё
и
объясняет.
Правду
говоря,
она
объясняет
не
так
уж
много,
во
первых
потому,
что
допускает
разделение
и
дробление
реальности
в
понятиях,
которые
общество
накопило
в
языке
и
чаще
всего
ис
пользовало
лишь
из-за
их
удобства,
а
во-вторых
потому,
что
осу
ществляемый
ею
синтез
этих
понятий
лишен
содержания
и
явля
ется
чисто
вербальным.
Возникает
вопрос,
почему
этот
важнейший
момент
ускользнул
от
внимания
вдумчивых
философов,
почему
они
считали,
что
каким-то
образом
характеризуют
начало,
воз
веденное
ими
в
принцип
объяснения
мира,
тогда
как
по
сути
они
ограничивались
его
условным
обозначением.
Мы
сказали
об
этом
выше:
какое
бы
название
ни
давали
«вещи
В
себе»
-
будет
ли
то
Субстанция
Спинозы,
Я
Фихте,
Абсолютное
Шеллинга,
Идея
Ге
геля
или
Воля
Шопенгауэра,
-
слово,
имеющее
четко
определен
ное
значение,
утратит
его,
окажется
лишенным
всякого
значения,
коль
скоро
будет
прилагаться
ко всем
вещам.
Если
говорить
толь
ко
о
последнем
из этих
великих
«синтезов»,
не
очевидно
ли,
что
Воля
является
волей
лишь
при
условии, что
она
действует
на
то,
что
не
волит
23
*?
Чем
же
будет
дух
отличаться
от
материи, если
ма
терия
сама
есть
воля?
Помещать
волю
повсюду
равносильно
тому,
чтобы
не
оставить
ее
нигде,
ибо
это
значит
отождествить
сущность
того,
что я
чувствую
в
себе,
-
длительность,
внезапное
появление
чего-то нового,
постоянное
творчество
-
с
сущностью
того,
что я
воспринимаю
в
вещах,
где
несомненно
имеется
повторение,
пред
видимость,
необходимость.
Неважно,
скажем ли
мы
«Всё
есть
ме
ханизм»
или
«Всё
есть
воля»,
-
В
обоих
случаях
всё
смешано.
В
обоих
случаях
«механизм»
И
«воля»
становятся
синонимами
«бы
тия»
и,
следовательно,
синонимами
друт
друга.
В
этом
состоит
ис
ходный
порок
философских
систем.
Их
авторы
полагают,
что
со
общают
нам
об
абсолютном,
давая
ему
имя.
Но,
повторяем,
слово
может
иметь
определенный
смысл,
когда
обозначает
одну
вещь;
116
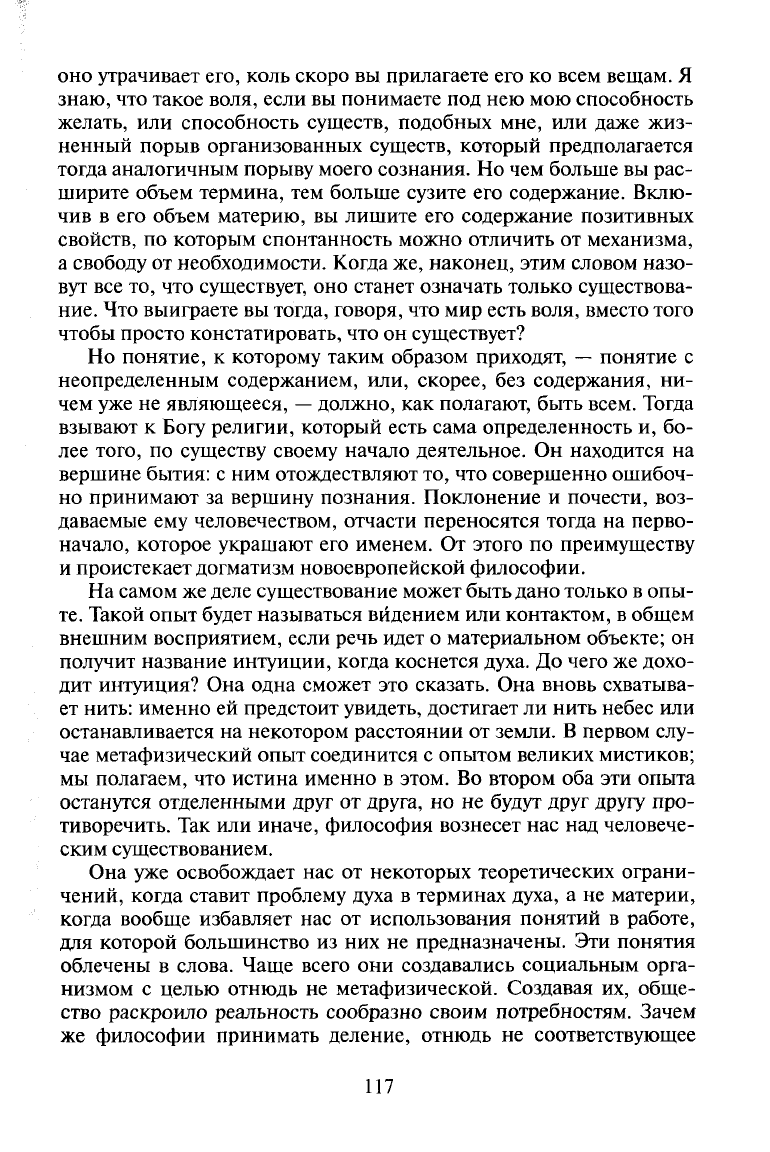
оно
утрачивает
его,
коль скоро
вы
прилагаете
его
ко
всем
вещам.
Я
знаю,
что такое
воля,
если
вы
понимаете
под
нею
мою
способность
желать,
или
способность
существ,
подобных
мне,
или
даже
жиз
ненный
порыв
организованных
существ,
который
предполагается
тогда
аналогичным
порыву
моего
сознания.
Но
чем
больше
вы
рас
ширите
объем
термина,
тем
больше
сузите
его
содержание.
Вклю
чив
в
его
объем
материю,
вы
лишите
его
содержание
позитивных
свойств,
по
которым
спонтанность
можно
отличить
от
механизма,
а
свободу
от
необходимости.
Когда
же,
наконец,
этим
словом
назо
вут
все
то,
что
существует,
оно
станет
означать
только
существова
ние.
Что
выиграете
вы
тогда,
говоря,
что
мир
есть
воля,
вместо
того
чтобы
просто
констатировать,
что
он
существует?
Но
понятие,
к
которому
таким
образом
приходят,
-
понятие
с
неопределенным
содержанием,
или,
скорее,
без
содержания, ни
чем
уже
не
являющееся,
-
должно,
как
полагают,
быть
всем.
Тогда
взывают
к
Богу
религии,
который
есть
сама
определенность
и,
бо
лее
того,
по
существу
своему начало
деятельное.
Он
находится
на
вершине
бытия:
с
ним
отождествляют
то,
что
совершенно
ошибоч
но
принимают
за
вершину
познания.
Поклонение
и
почести,
воз
даваемые
ему
человечеством,
отчасти
переносятся
тогда
на
перво
начало,
которое
украшают
его
именем.
От
этого
по
преимуществу
и
проистекает
догматизм
новоевропейской
философии.
На
самом
же
деле
существование
может
быть
дано
только
в
опы
те.
Такой
опыт
будет
называться
видением
или
контактом,
в
общем
внешним
восприятием,
если
речь
идет о
материальном
объекте;
он
получит
название
интуиции,
когда
коснется
духа.
До
чего
же
дохо
дит
интуиция?
Она
одна
сможет
это
сказать.
Она
вновь
схватыва
ет
нить:
именно
ей
предстоит
увидеть,
достигает
ли
нить
небес
или
останавливается
на
некотором
расстоянии
от
земли.
В
первом
слу
чае
метафизический
опыт
соединится
с
опытом
великих
мистиков;
мы
полагаем,
что
истина
именно
в
этом.
Во
втором
оба
эти
опыта
останутся
отделенными
друг от
друга,
но
не
будут
друг
другу
про
тиворечить.
Так
или
иначе,
философия
вознесет
нас
над
человече
ским
существованием.
Она
уже
освобождает
нас
от
некоторых
теоретических
ограни
чeHий'
когда
ставит
проблему
духа
в
терминах
духа, а
не материи,
когда
вообще
избавляет
нас
от
использования
понятий
в
работе,
для
которой
большинство
из
них
не
предназначены.
Эти
понятия
облечены
в слова.
Чаще
всего
они
создавались
социальным
орга
низмом
с
целью
отнюдь
не
метафизической.
Создавая
их,
обще
ство
раскроило
реальность
сообразно
своим
потребностям.
Зачем
же
философии
принимать
деление,
отнюдь
не
соответствующее
117
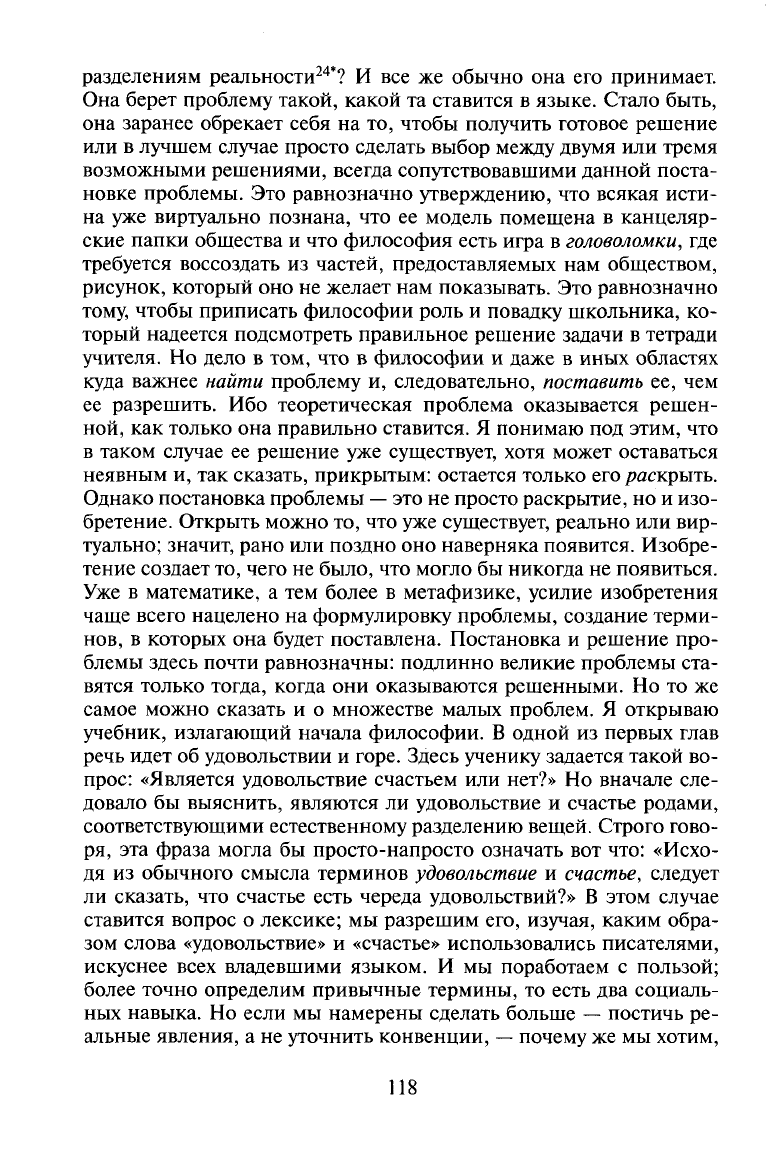
разделениям
реальности
24
*?
И
все
же
обычно
она
его
принимает.
Она
берет
проблему
такой,
какой
та
ставится
в
языке.
Стало
быть,
она
заранее
обрекает
себя
на
то,
чтобы
получить
готовое
решение
или
в
лучшем
случае
просто
сделать
выбор
между
двумя
или
тремя
возможными
решениями,
всегда
сопутствовавшими
данной
поста
новке
проблемы.
Это
равнозначно
утверждению,
что всякая
исти
на
уже
виртуально
познана,
что
ее
модель
помещена
в
канцеляр
ские
папки
общества
и
что
философия
есть
игра
в головоломки,
где
требуется
воссоздать
из
частей,
предоставляемых
нам
обществом,
рисунок,
который
оно
не
желает
нам
показывать.
Это
равнозначно
тому,
чтобы
приписать
философии
роль
и повадку
школьника,
ко
торый
надеется
подсмотреть
правильное
решение
задачи
в
тетради
учителя.
Но
дело
в
том,
что
в
философии
и даже
в
иных
областях
куда
важнее
найти
проблему
и,
следовательно,
поставить
ее,
чем
ее
разрешить.
Ибо
теоретическая
проблема
оказывается
решен
ной,
как
только
она
правильно
ставится.
Я
понимаю
под
этим,
что
в
таком
случае
ее
решение
уже
существует,
хотя
может
оставаться
неявным
и,
так
сказать,
прикрытым:
остается
только
его
раскрыть.
Однако
постановка
проблемы
-
это
не
просто
раскрытие,
но
и
изо
бретение.
Открыть
можно
то,
что
уже
существует,
реально
или
вир
туально;
значит,
рано
или
поздно
оно
наверняка
появится.
Изобре
тение
создает
то,
чего
не
было,
что
могло
бы
никогда
не
появиться.
Уже
в
математике,
а
тем
более
в
метафизике, усилие
изобретения
чаще
всего
нацелено
на
формулировку
проблемы,
создание
терми
нов,
в
которых
она
будет
поставлена.
Постановка
и
решение
про
блемы
здесь
почти
равнозначны:
подлинно
великие
проблемы
ста
вятся
только
тогда,
когда
они
оказываются
решенными.
Но
то
же
самое
можно
сказать
и
о
множестве
малых
проблем.
Я
открываю
учебник,
излагающий
начала
философии.
В
одной
из
первых
глав
речь
идет
об
удовольствии
и
горе.
Здесь
ученику
задается
такой
во
прос:
«Является
удовольствие
счастьем
или
нет?»
Но
вначале
сле
довало
бы
выяснить,
являются
ли
удовольствие
и
счастье
родами,
соответствующими
естественному
разделению
вещей.
Строго
гово
ря,
эта
фраза
могла
бы
просто-напросто
означать
вот
что:
«Исхо
дя
из
обычного
смысла
терминов
удовольствие
и
счастье,
следует
ли
сказать,
что
счастье
есть
череда
удовольствий?»
В
этом
случае
ставится
вопрос
о
лексике;
мы
разрешим
его,
изучая,
каким
обра
зом
слова
«удовольствие»
И
«счастье»
использовались
писателями,
искуснее
всех
владевшими
языком.
И
мы
поработаем
с
пользой;
более
точно
определим
привычные
термины,
то
есть
два
социаль
ных
навыка.
Но
если
мы
намерены
сделать
больше
-
постичь
ре
альные
явления,
а
не
уточнить
конвенции,
-
почему
же
мы
хотим,
118
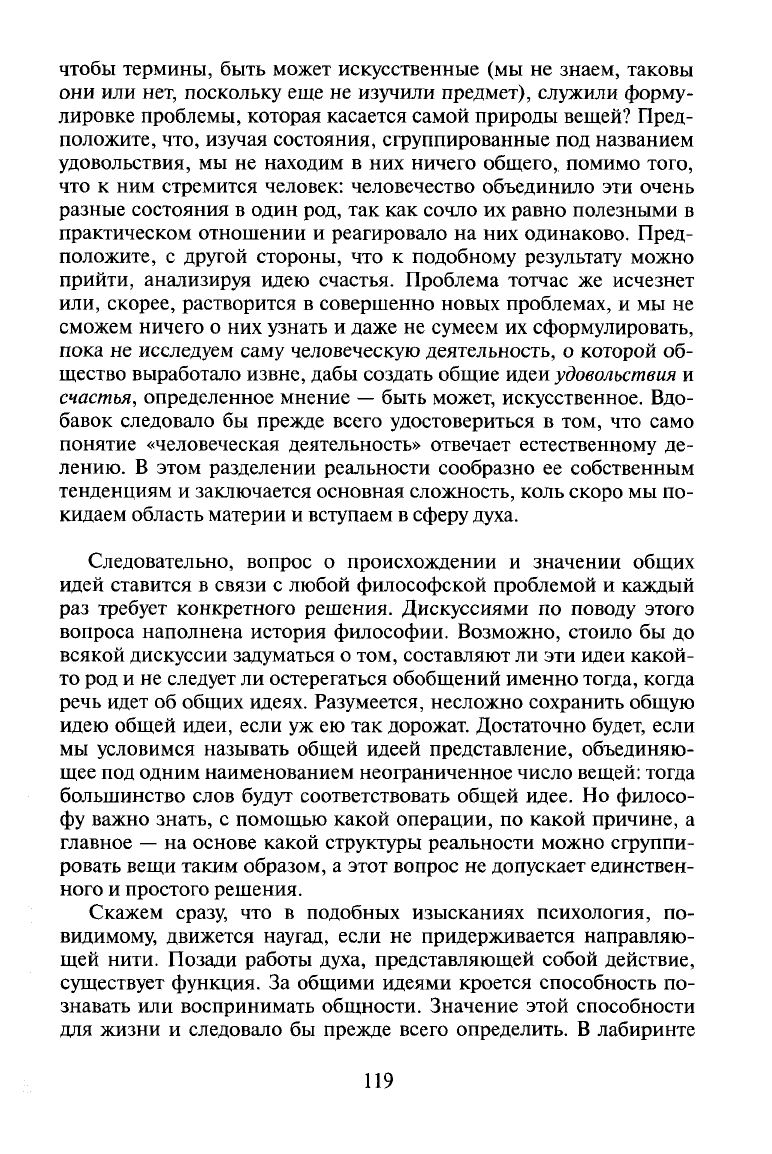
чтобы
термины, быть
может
искусственные
(мы
не
знаем,
таковы
они
или
нет,
поскольку
еще
не
изучили
предмет),
служили
форму
лировке
проблемы,
которая
касается
самой
природы
вещей?
Пред
положите,
что,
изучая
состояния,
сгруппированные
под
названием
удовольствия,
мы
не
находим
в
них
ничего
общего,
помимо
того,
что
к
ним
стремится
человек:
человечество
объединило
эти
очень
разные
состояния
в
один
род,
так
как
сочло
их
равно
полезными
в
практическом
отношении
и
реагировало
на
них
одинаково.
Пред
положите,
с
другой
стороны,
что
к
подобному
результату
можно
прийти,
анализируя
Идею
счастья.
Проблема
тотчас
же
исчезнет
или,
скорее,
растворится
в
совершенно
новых
проблемах,
и
мы
не
сможем
ничего
о
них
узнать
и
даже
не
сумеем
их
сформулировать,
пока
не
исследуем
саму
человеческую
деятельность,
о
которой
об
щество
выработало
извне,
дабы
создать
общие
идеи
удовольствия
и
счастья,
определенное
мнение
-
быть
может,
искусственное.
Вдо
бавок
следовало
бы
прежде
всего
удостовериться
в
том,
что
само
понятие
«человеческая
деятельность»
отвечает
естественному
де
лению.
В
этом
разделении
реальности
сообразно
ее
собственным
теНденциям
и
заключается
основная
сложность,
коль
скоро
мы
по
КИдаем
область
материи
и
вступаем
в
сферу
духа.
Следовательно,
вопрос
о
происхождении
и
значении
общих
Идей
ставится
в
связи
с
любой
философской
проблемой
и
каждый
раз
требует
конкретного
решения.
Дискуссиями
по
поводу
этого
вопроса
наполнена
история
философии.
Возможно,
стоило
бы
до
всякой
дискуссии
задуматься о
том,
составляют
ли
эти
Идеи
какой
то
род
и
не
следует
ли
остерегаться
обобщений
именно
тогда,
когда
речь
Идет
об
общих
Идеях.
Разумеется,
несложно
сохранить
общую
Идею
общей
Идеи,
если
уж ею
так
дорожат.
Достаточно
будет,
если
мы
условимся
называть
общей
Идеей
представление,
объединяю
щее
под
одним
наименованием
неограниченное
число
вещей:
тогда
большинство
слов
будут
соответствовать
общей
Идее.
Но
филосо
фу
важно
знать,
с
помощью
какой
операции,
по
какой
причине,
а
главное
-
на
основе
какой
структуры
реальности
можно
сгруппи
poBaTь
вещи
таким
образом,
а
этот
вопрос
не
допускает
единствен
ного
и
простого
решения.
Скажем
сразу,
что
в
подобных
изысканиях
психология,
по
ВИдимому,
движется
наугад,
если
не
ПРИдерживается
направляю
щей
нити.
Позади
работы
духа,
представляю
щей
собой
действие,
существует
функция.
За
общими
Идеями
кроется
способность
по
знавать
или
воспринимать
общности.
Значение
этой
способности
для
жизни
и
следовало
бы
прежде
всего
определить.
В
лабиринте
119
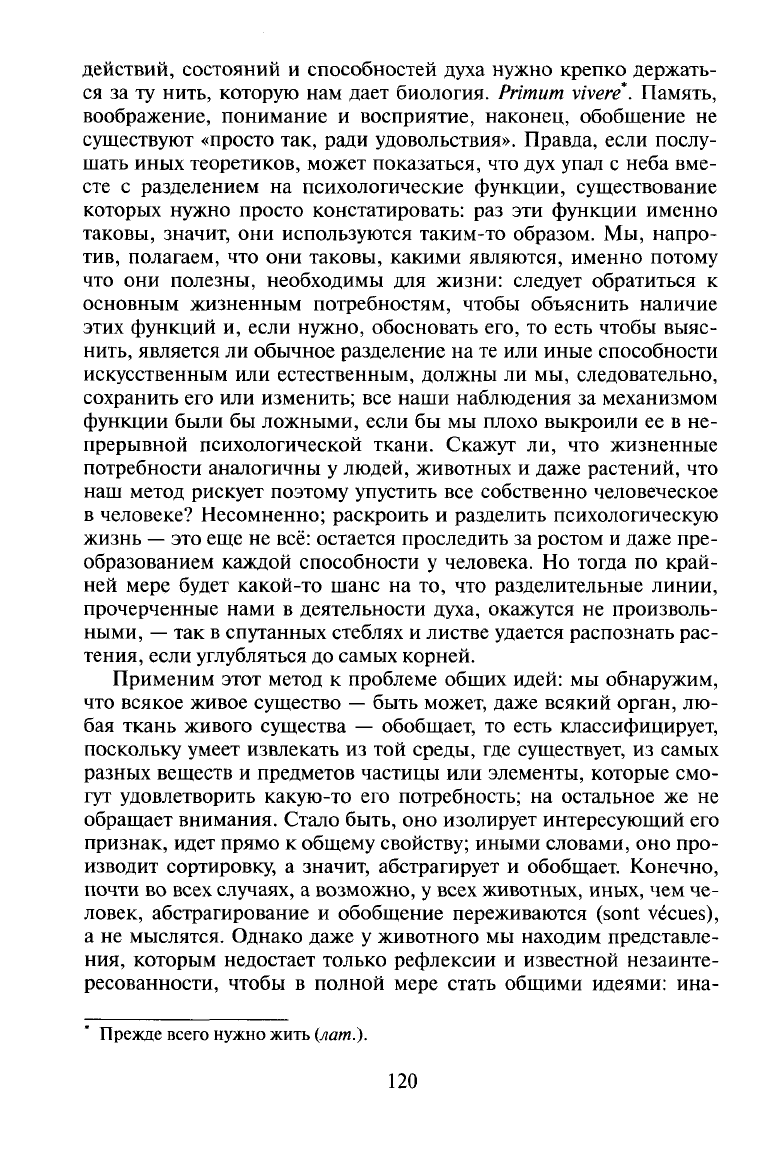
действий,
состояний
и
способностей
духа
нужно
крепко
держать
ся
за
ту
нить,
которую
нам
дает
биология.
Primum
vivere*.
Память,
воображение,
понимание
и
восприятие,
наконец,
обобщение
не
существуют
«просто
так,
ради
удовольствия».
Правда,
если
послу
шать
иных
теоретиков,
может
показаться,
что
дух
упал
с
неба
вме
сте
с
разделением
на
психологические
функции,
существование
которых
нужно
просто
констатировать:
раз
эти
функции
именно
таковы,
значит,
они
используются
таким-то
образом.
Мы,
напро
тив,
полагаем,
что
они
таковы,
какими
являются,
именно
потому
что
они
полезны,
необходимы
для
жизни:
следует
обратиться
к
основным
жизненным
потребностям,
чтобы
объяснить
наличие
этих
функций
и,
если
нужно,
обосновать
его,
то
есть
чтобы
выяс
нить,
является
ли
обычное
разделение
на
те
или
иные
способности
искусственным
или
естественным,
должны
ли
мы,
следовательно,
сохранить
его
или
изменить;
все
наши
наблюдения
за
механизмом
функции
были
бы
ложными,
если
бы
мы
плохо
выкроили
ее
в
не
прерывной
психологической
ткани.
Скажут
ли,
что
жизненные
потребности
аналогичны
у
людей,
животных
и даже
растений,
что
наш
метод
рискует
поэтому
упустить
все
собственно
человеческое
в
человеке?
Несомненно;
раскроить
и
разделить
психологическую
жизнь
-
это
еще
не
всё:
остается
проследить
за
ростом
и
даже
пре
образованием
каждой
способности
у
человека.
Но
тогда
по
край
ней
мере
будет
какой-то
шанс
на
то,
что
разделительные
линии,
прочерченные
нами
в
деятельности
духа,
окажутся
не
произволь
ными,
-
так
в
спутанных
стеблях
и
листве
удается
распознать
рас
тения,
если
углубляться
до
самых
корней.
Применим
этот
метод к
проблеме
общих
идей:
мы
обнаружим,
что
всякое
живое
существо
-
быть
может,
даже
всякий
орган,
лю
бая
ткань
живого
существа
-
обобщает,
то
есть
классифицирует,
поскольку
умеет
извлекать
из
той
среды,
где
существует,
из
самых
разных
веществ
и
предметов
частицы
или
элементы,
которые
смо
гут
удовлетворить
какую-то
его
потребность;
на
остальное
же
не
обращает
внимания.
Стало
быть,
оно
изолирует
интересующий
его
признак,
идет
прямо
к
общему
свойству;
иными
словами,
оно
про
изводит
сортировку,
а
значит,
абстрагирует
и
обобщает.
Конечно,
почти
во
всех
случаях,
а
возможно,
у
всех
животных,
иных,
чем
че
ловек,
абстрагирование
и
обобщение
переживаются
(sont vtkues),
а
не
мыслятся.
Однако
даже
у
животного
мы
находим
представле
ния,
которым
недостает
только
рефлексии
и
известной
незаинте
ресованности,
чтобы
в
полной
мере
стать
общими
идеями:
ина-
*
Прежде
всего
нужно
жить
(лат.).
120
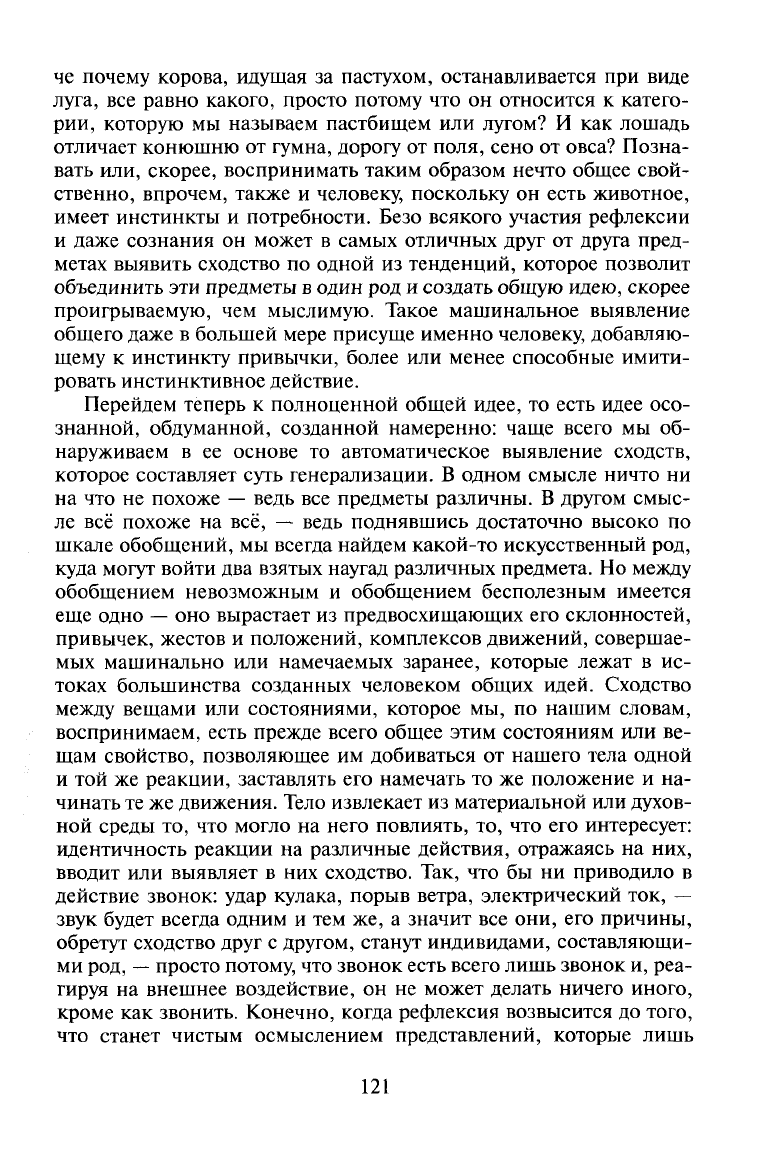
че
почему
корова,
идущая
за
пастухом,
останавливается
при
виде
луга,
все
равно
какого,
просто
потому
что
он
относится
к
катего
рии,
которую
мы
называем
пастбищем
или
лугом?
И
как
лошадь
отличает
конюшню
от
гумна,
дорогу
от
поля,
сено
от
овса?
Позна
вать
или,
скорее,
воспринимать
таким
образом
нечто
общее
свой
ственно,
впрочем,
также
и
человеку,
поскольку
он
есть
животное,
имеет
инстинкты
и
потребности.
Безо
всякого
участия
рефлексии
и
даже
сознания
он
может
в
самых
отличных
друг
от
друга
пред
метах
выявить
сходство
по
одной
из
тенденций,
которое
позволит
объединить
эти
предметы
в
один
род
и
создать
общую
идею,
скорее
проигрываемую,
чем
мыслимую.
Такое
машинальное
выявление
общего
даже
в
большей
мере
присуще
именно
человеку,
добавляю
щему
к
инстинкту
привычки,
более
или
менее
способные
имити
ровать
инстинктивное
действие.
Перейдем
теперь
к
полноценной
общей
идее,
то
есть
идее
осо
знанной,
обдуманной,
созданной
намеренно:
чаще
всего
мы
об
наруживаем
в
ее
основе
то
автоматическое
выявление
сходств,
которое
составляет
суть
генерализации.
В
одном
смысле
ничто
ни
на
что
не
похоже
-
ведь
все
предметы
различны.
В
другом
смыс
ле
всё
похоже
на
всё,
-
ведь
поднявшись
достаточно
высоко
по
шкале
обобщений,
мы
всегда
найдем
какой-то
искусственный
род,
куда
могут
войти
два
взятых
наугад
различных
предмета.
Но
меЖду
обобщением
невозможным
и
обобщением
бесполезным
имеется
еще
одно
-
оно
вырастает
из
предвосхищающих
его
склонностей,
привычек,
жестов
и
положений, комплексов
движений,
совершае
мых
машинально
или
намечаемых
заранее,
которые
лежат
в
ис
токах
большинства
созданных
человеком
общих
идей.
Сходство
меЖдУ
вещами
или
состояниями,
которое
мы,
по
нашим
словам,
воспринимаем,
есть
преЖде
всего
общее
этим
состояниям
или
ве
щам
свойство,
позволяющее
им
добиваться
от
нашего
тела
одной
и
той
же
реакции,
заставлять
его
намечать
то
же
положение
и
на
чинать
те
же
движения.
Тело
извлекает
из
материальной
или
духов
ной
среды
то,
что
могло
на
него повлиять,
то,
что
его
интересует:
идентичность
реакции
на
различные
действия,
отражаясь
на
них,
вводит
или
выявляет
в
них
сходство.
Так,
что
бы
ни
приводило
В
действие
звонок:
удар
кулака,
порыв
ветра,
электрический
ток,
-
звук
будет
всегда
одним
и тем
же,
а
значит
все
они,
его
причины,
обретут
сходство
друг
с
другом,
станут
индивидами,
составляющи
ми
род,
- просто
потому,
что
звонок
есть
всего
лишь
звонок
и,
реа
гируя
на
внешнее
воздействие,
он
не
может
делать
ничего
иного,
кроме
как
звонить.
Конечно,
когда
рефлексия
возвысится до
того,
что
станет
чистым
осмыслением
представлений,
которые
лишь
121
