Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

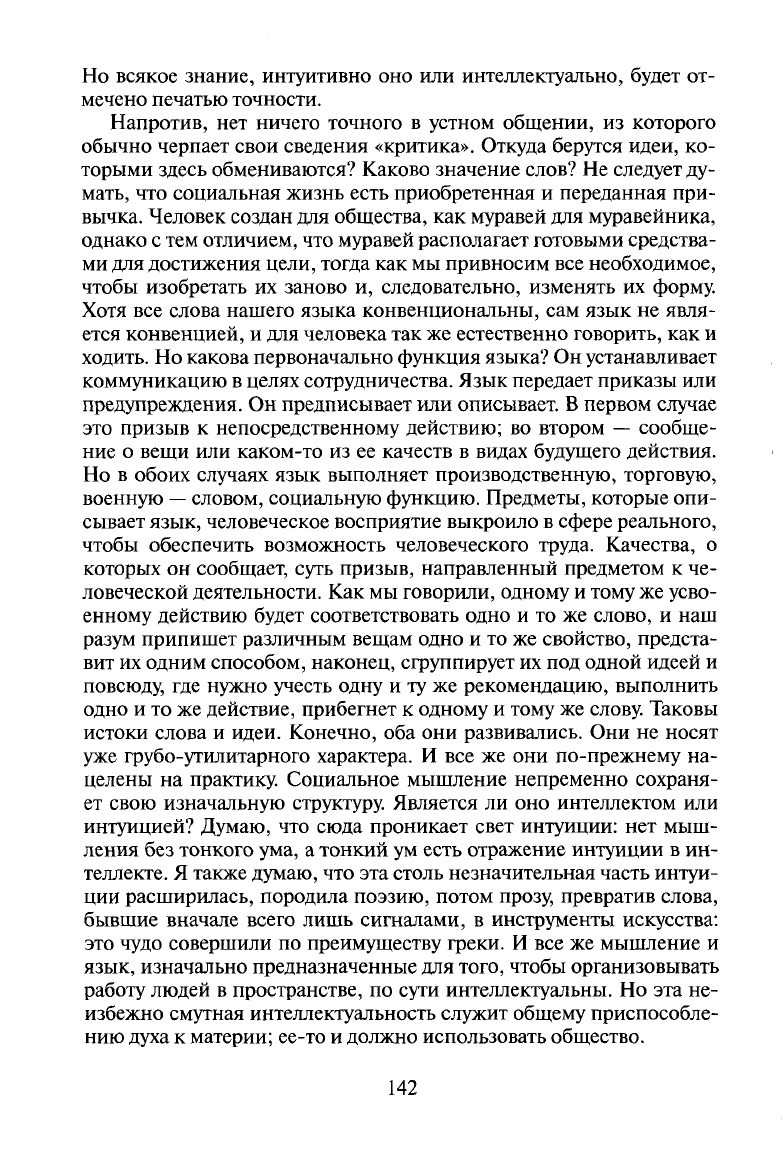
Но
всякое
знание,
интуитивно
оно
или
интеллектуально,
будет
от
мечено
печатью
точности.
Напротив,
нет
ничего
точного
в
устном
общении,
из
которого
обычно
черпает
свои
сведения
«критика».
Откуда
берутся
идеи,
ко
торыми
здесь
обмениваются?
Каково
значение
слов?
Не
следует
ду
мать,
что
социальная
жизнь
есть
приобретенная
и
переданная
при
вычка.
Человек
создан
для
общества,
как
муравей
для
муравейника,
однако
с
тем
отличием,
что
муравей
располагает
готовыми
средства
ми
для
достижения
цели,
тогда
как
мы
привносим
все
необходимое,
чтобы
изобретать
их
заново
и,
следовательно,
изменять
их
форму.
Хотя
все
слова
нашего
языка
конвенциональны,
сам
язык
не
явля
ется
конвенцией,
и
для
человека
так
же
естественно
говорить,
как
и
ходить.
Но
какова
первоначально
функция
языка?
Он
устанавливает
коммуникацию
в
целях
сотрудничества.
Язык
передает
приказы
или
предупреждения.
Он
предписывает
или
описывает.
В
первом
случае
это
призыв
к
непосредственному
действию;
во
втором
-
сообще
ние
о
вещи
или
каком-то
из
ее
качеств
в
видах
будущего
действия.
Но
в
обоих
случаях
язык
выполняет
производственную,
торговую,
военную
-
словом,
социальную
функцию.
Предметы,
которые
опи
сывает
язык,
человеческое
восприятие
выкроило
в
сфере
реального,
чтобы
обеспечить
возможность
человеческого
труда.
Качества,
о
которых
он
сообщает,
суть
призыв,
направленный
предметом к
че
ловеческой
деятельности.
Как
мы
говорили,
одному
и
тому
же
усво
енному
действию
будет
соответствовать
одно
и
то
же
слово,
и
наш
разум
припишет
различным
вещам
одно
и
то
же
свойство,
предста
вит
их
одним
способом,
наконец,
сгруппирует
их
под
одной
идеей и
повсюду,
где
нужно
учесть
одну
и
ту
же
рекомендацию,
выполнить
одно
и
то
же
действие,
прибегнет
к
одному
и
тому
же
слову.
Таковы
истоки
слова
и
идеи.
Конечно,
оба
они
развивались.
Они
не
носят
уже
грубо-утилитарного
характера.
И
все
же
они
по-прежнему
на
целены
на
практику.
Социальное
мышление
непременно
сохраня
-
ет
свою
изначальную
структуру.
Является
ли
оно
интеллектом
или
интуицией?
Думаю,
что
сюда
проникает
свет
интуиции:
нет
мыш
ления
без
тонкого
ума,
а
тонкий
ум
есть
отражение
интуиции
в
ин
теллекте.
Я
также
думаю,
что
эта
столь
не значительная
часть
интуи
ции
расширилась,
породила
поэзию,
потом
прозу,
превратив
слова,
бывшие
вначале
всего
лишь
сигналами,
в
инструменты
искусства:
это
чудо
совершили
по
преимуществу
греки.
И
все
же
мышление
и
язык,
изначально
предназначенные
для
того,
чтобы
организовывать
работу
людей
в
пространстве,
по
сути
интеллектуальны.
Но
эта
не
избежно
смутная
интеллектуальность
служит
общему
приспособле
нию
духа
к
материи;
ее-то
и
должно
использовать
общество.
142
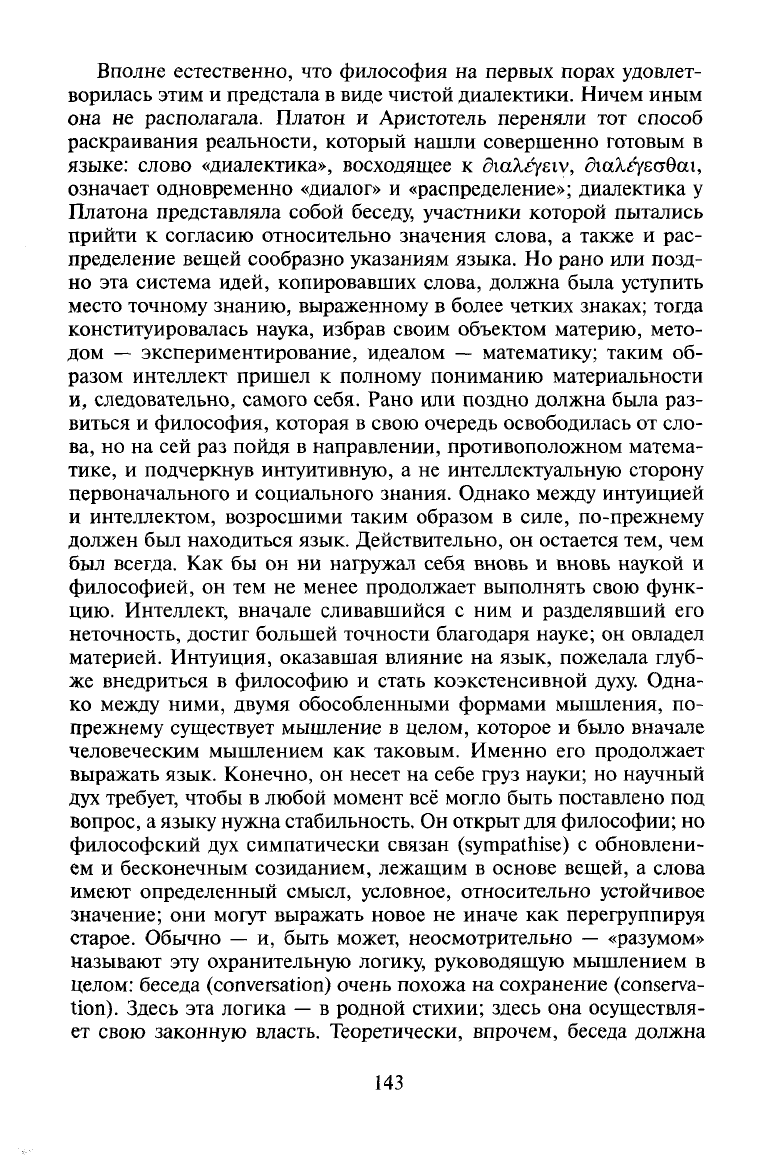
Вполне
естественно,
что
философия
на
первых
порах
удовлет
ворилась
этим
и
пред
стала
в
виде
чистой
диалектики.
Ничем
иным
она
не
располагала.
Платон
и
Аристотель
переняли
тот
способ
раскраивания
реальности,
который
нашли
совершенно
готовым
в
языке:
слово
«диалектика»,
восходящее
к
дtaл.iySlV,
дtaл.iyscrеat,
означает
одновременно
«диалог»
И
«распределение»;
диалектика
у
Платона
представляла
собой
беседу,
участники
которой
пытались
прийти
к
согласию
относительно
значения
слова,
а
также
и
рас
пределение
вещей
сообразно
указаниям
языка.
Но
рано
или
позд
но
эта
система
идей,
копировавших
слова,
должна
бьша
уступить
место
точному
знанию,
выраженному
в
более
четких
знаках;
тогда
конституировалась
наука,
избрав
своим
объектом
материю,
мето
дом
-
экспериментирование,
идеалом
-
математику;
таким
об
разом
интеллект
пришел
к
полному
пониманию
материальности
и,
следовательно,
самого
себя.
Рано
или
поздно
должна
бьша
раз
виться
и
философия,
которая
в
свою
очередь
освободилась
от
сло
ва,
но
на
сей
раз
пойдя
в
направлении,
противоположном
матема
тике,
и
подчеркнув
интуитивную,
а
не
интеллектуальную
сторону
первоначального
и
социального
знания.
Однако
между
интуицией
и
интеллектом,
возросшими
таким
образом
в
силе,
по-прежнему
должен
бьш
находиться
язык.
Действительно,
он
остается
тем,
чем
бьm
всегда.
Как
бы
он
ни
нагружал
себя
вновь
и
вновь
наукой
и
философией,
он
тем
не
менее
продолжает
выполнять
свою
функ
цию.
Интеллект,
вначале
сливавшийся
с
ним
и
разделявший
его
неточность,
достиг
большей
точности
благодаря
науке;
он
овладел
материей.
Интуиция,
оказавшая
влияние
на
язык,
пожелала
глуб
же
внедриться
в
философию
и
стать
коэкстенсивной
духу.
Одна
ко
между
ними, двумя
обособленными
формами
мышления,
по
прежнему
существует
мышление
в
целом,
которое
и
бьmо
вначале
человеческим
мышлением
как
таковым.
Именно
его
продолжает
выражать
язык.
Конечно,
он
несет
на
себе
груз
науки;
но
научный
дух
требует,
чтобы
в
любой
момент
всё
могло
быть
поставлено
под
вопрос,
а
языку
нужна
стабильность.
Он
открыт
для
философии;
но
философский
дух
симпатически
связан
(sympathise)
с
обновлени
ем
и
бесконечным
созиданием,
лежащим
в
основе вещей,
а
слова
имеют
определенный
смысл,
условное,
относительно
устойчивое
значение;
они
могут
выражать
новое
не
иначе
как
перегруппируя
старое.
Обычно
-
и,
быть
может,
неосмотрительно
-
«разумом»
называют
эту
охранительную
логику,
руководящую
мышлением
в
целом:
беседа
(conversation)
очень
похожа
на
сохранение
(conserva-
Ноп).
Здесь
эта
логика
-
в
родной
стихии;
здесь
она
осуществля
ет
свою
законную
власть.
Теоретически,
впрочем,
беседа
должна
143
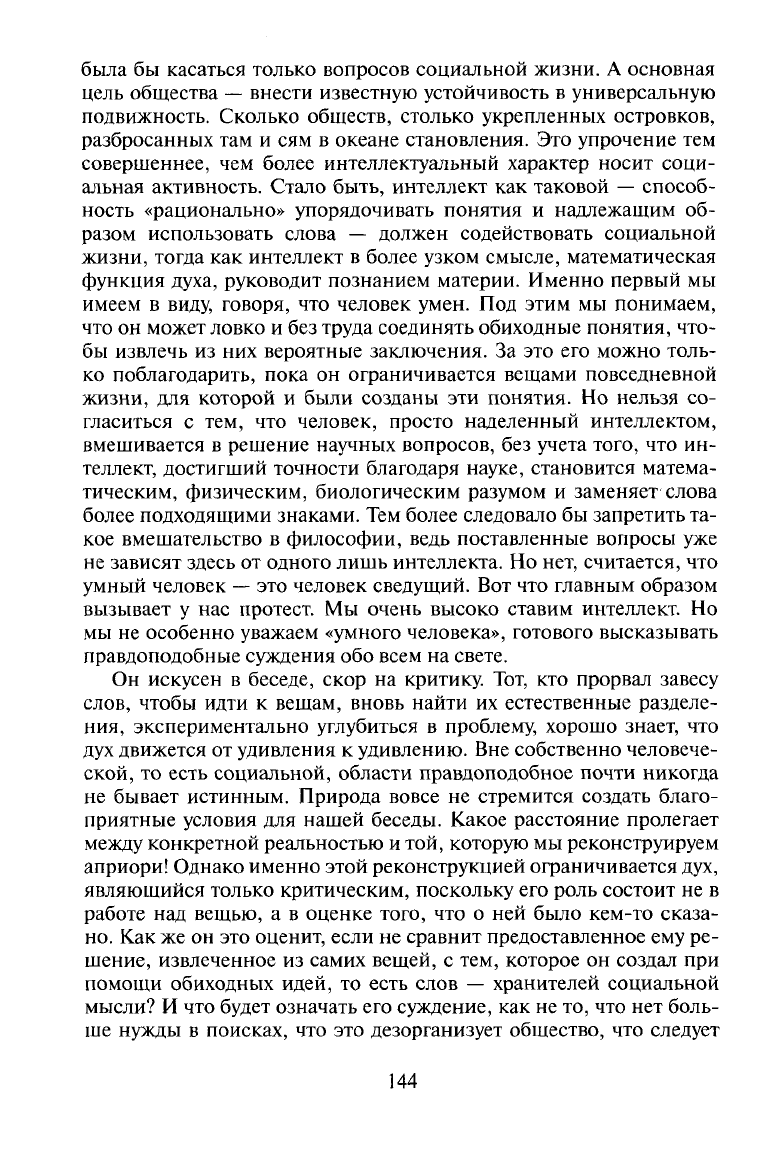
бьmа
бы
касаться
только
вопросов
социальной
жизни.
А
основная
цель
общества
-
внести
известную
устойчивость
в
универсальную
подвижность.
Сколько
обществ,
столько
укрепленных
островков,
разбросанных
там
и сям
в
океане
становления.
Это
упрочение
тем
совершеннее,
чем
более
интеллектуальный
характер
носит
соци
альная
активность.
Стало
быть,
интеллект
как
таковой
-
способ
ность
«рационально»
упорядочивать
понятия и
надлежащим
об
разом
использовать
слова
-
должен
содействовать
социальной
жизни,
тогда
как
интеллект
в
более
узком
смысле,
математическая
функция
духа,
руководит
познанием
материи.
Именно
первый
мы
имеем
в
виду,
говоря,
что
человек
умен.
Под
этим
мы
понимаем,
что
он
может
ловко
и
без
труда
соединять
обиходные
понятия,
что
бы
извлечь
из
них
вероятные
заключения.
За
это
его
можно
толь
ко
поблагодарить,
пока
он
ограничивается
вещами
повседневной
жизни,
для
которой
и
были
созданы
эти
понятия.
Но
нельзя
со
гласиться
с
тем,
что
человек,
просто
наделенный
интеллектом,
вмешивается
в
решение
научных
вопросов,
без
учета
того,
что ин
теллект,
достигший
точности
благодаря
науке,
становится
матема
тическим,
физическим,
биологическим
разумом
и
заменяет'
слова
более
подходящими
знаками.
Тем
более
следовало
бы
запретить
та
кое
вмешательство
в
философии,
ведь
поставленные
вопросы
уже
не
зависят
здесь
от
одного
лишь
интеллекта.
Но
нет,
считается,
что
умный
человек
-
это
человек
сведущий.
Вот
что
главным
образом
вызывает
у
нас
протест.
Мы
очень
высоко
ставим
интеллект.
Но
мы
не
особенно
уважаем
«умного
человека»,
готового
высказывать
правдоподобные
суждения
обо
всем
на
свете.
Он
искусен
в
беседе,
скор на
критику.
Тот,
кто
прорвал
завесу
слов,
чтобы
идти
к
вещам,
вновь
найти
их
естественные
разделе
ния,
экспериментально
углубиться
в
проблему,
хорошо
знает,
что
дух
движется
от
удивления
к
удивлению.
Вне
собственно
человече
ской,
то
есть
социальной,
области
правдоподобное
почти
никогда
не
бывает
истинным.
Природа
вовсе
не
стремится
создать
благо
приятные
условия
для
нашей
беседы.
Какое
расстояние
пролегает
между
конкретной
реальностью
и
той,
которую
мы
реконструируем
априори!
Однако
именно
этой
реконструкцией
ограничивается
дух,
являющийся
только
критическим,
поскольку
его
роль
состоит
не
в
работе
над
вещью,
а
в
оценке
того,
что
о
ней
бьmо
кем-то
сказа
но.
Как
же
он
это
оценит,
если не
сравнит
предоставленное
ему
ре
шение,
извлеченное
из
самих
вещей,
с
тем,
которое
он
создал
при
помощи
обиходных
идей,
то
есть
слов
-
хранителей
социальной
мысли?
И
что
будет
означать
его
суждение, как
не
то,
что
нет
боль
ше
нужды
в
поисках,
что это
дезорганизует
общество,
что
следует
]44
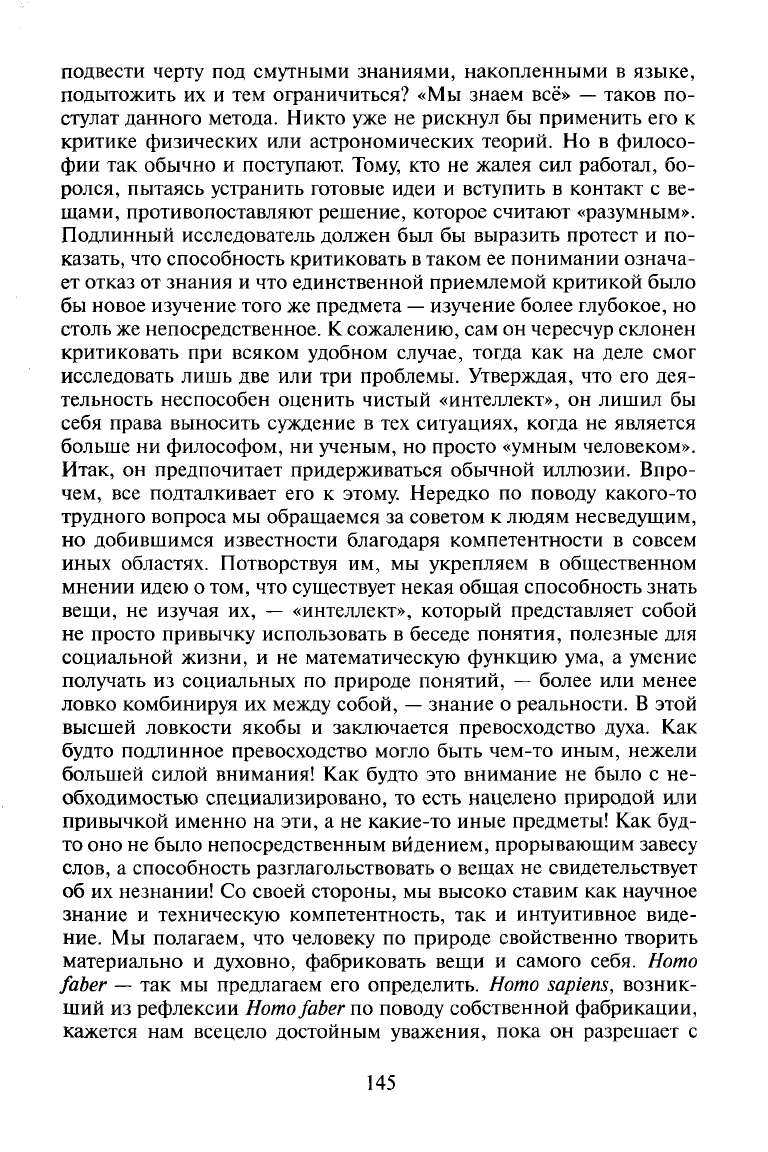
подвести
черту
под
смутными
знаниями,
накопленными
в
языке,
подытожить
их
и
тем
ограничиться?
«Мы
знаем
всё»
-
таков
по
стулат
данного
метода.
Никто
уже
не
рискнул
бы
применить
его
к
критике
физических
или
астрономических
теорий.
Но
в
филосо
фии
так
обычно
и
поступают.
Тому,
кто
не
жалея
сил
работал,
бо
ролся,
пытаясь
устранить
готовые
идеи
и
вступить
в
контакт
с
ве
щами,
противопоставляют
решение,
которое
считают
«разумным».
Подлинный
исследователь
должен
был
бы
выразить
протест
и
по
казать,
что
способность
критиковать
в
таком
ее
понимании
означа
ет
отказ
от
знания
и
что
единственной
приемлемой
критикой
было
бы
новое изучение
того
же
предмета
-
изучение
более
глубокое,
но
столь
же
непосредственное.
К
сожалению,
сам
он
чересчур
склонен
критиковать
при
всяком
удобном
случае,
тогда
как
на
деле
смог
исследовать
лишь
две
или
три
проблемы.
Утверждая,
что
его
дея
тельность
неспособен
оценить
чистый
«интеллект»,
он
лишил
бы
себя
права
выносить
суждение
в
тех
ситуациях,
когда не является
больше
ни
философом,
ни
ученым,
но
просто
«умным
человеком».
Итак,
он
предпочитает
придерживаться
обычной
иллюзии.
Впро
чем,
все
подталкивает
его
к
этому.
Нередко
по
поводу
какого-то
трудного
вопроса
мы
обращаемся
за
советом
к
людям
несведущим,
но
добившимся
известности
благодаря
компетентности
в
совсем
иных
областях.
Потворствуя
им,
мы
укрепляем
в
общественном
мнении
идею
о
том,
что
существует
некая
общая
способность
знать
вещи,
не
изучая
их,
-
«интеллект»,
который
представляет
собой
не
просто
привычку
использовать
в
беседе
понятия,
полезные
для
социальной
жизни,
и
не
математическую
функцию
ума,
а
умение
получать из
социальных
по
природе
понятий,
-
более
или
менее
ловко
комбинируя
их
между
собой,
-
знание
о
реальности.
В
этой
высшей
ловкости
якобы
и
заключается
превосходство
духа.
Как
будто
подлинное
превосходство
могло
быть
чем-то
иным,
нежели
большей
силой
внимания!
Как
будто
это
внимание
не
было
с
не
обходимостью
специализировано,
то есть
нацелено
природой
или
привычкой
именно
на
эти,
а
не
какие-то
иные
предметы!
Как
буд
то
оно
не
было
непосредственным
видением,
прорывающим
завесу
слов,
а
способность
разглагольствовать
о
вещах
не
свидетельствует
об
их
незнании!
Со
своей
стороны,
мы
высоко
ставим
как научное
знание
и
техническую
компетентность,
так
и
интуитивное
виде
ние.
Мы
полагаем,
что
человеку
по
природе
свойственно
творить
материально
и
духовно,
фабриковать
вещи
и самого
себя.
Ното
faber -
так
мы
предлагаем
его
определить.
Ното
sapiens,
возник
ший
из
рефлексии
Ното
faber
по
поводу
собственной
фабрикации,
кажется
нам
всецело
достойным
уважения,
пока
он
разрешает
с
145
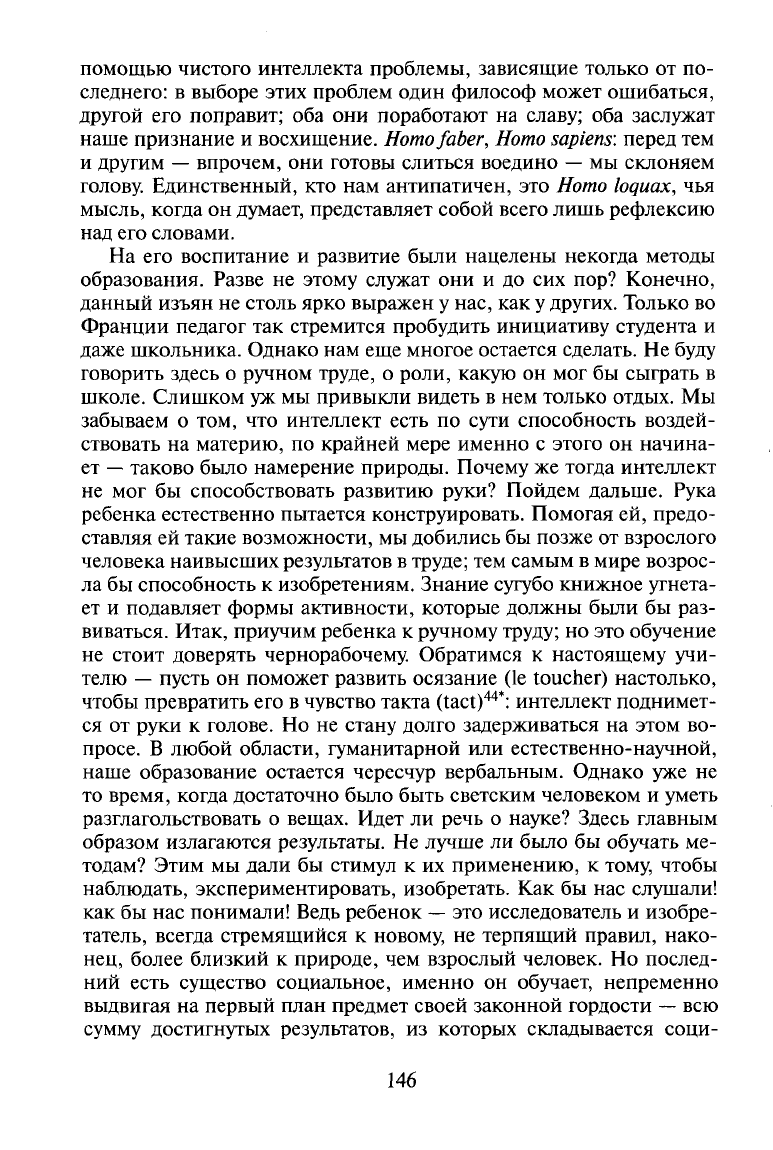
помощью
чистого
интеллекта
проблемы, зависящие
только
от
по
следнего:
в
выборе
этих
проблем
один
философ
может
ошибаться,
другой
его
поправит;
оба
они
поработают
на
славу;
оба
заслужат
наше
признание
и
восхищение.
Ното
faber,
Ното
sapiens:
перед
тем
и
другим
-
впрочем,
они
готовы
слиться
воедино
-
мы
склоняем
голову.
Единственный,
кто
нам
антипатичен,
это
Ното
loquax,
чья
мысль,
когда
он
думает,
представляет
собой
всего
лишь
рефлексию
над
его
словами.
На
его
воспитание
и
развитие
были
нацелены
некогда
методы
образования.
Разве
не
этому
служат
они
и
до
сих
пор?
Конечно,
данный
изъян
не
столь
ярко
выражен
у
нас,
как
у
других.
Только
во
Франции
педагог
так
стремится
пробудить
инициативу
студента
и
даже
школьника.
Однако
нам еще
многое
остается
сделать.
Не
буду
говорить
здесь
о
ручном
труде,
о
роли,
какую
он
мог
бы
сыграть
в
школе.
Слишком
уж
мы
привыкли
видеть
в
нем
только
отдых.
Мы
забываем
о
том,
что
интеллект
есть
по
сути
способность
воздей
ствовать
на материю,
по крайней
мере
именно
с
этого
он
начина
ет
-
таково
бьшо
намерение
природы.
Почему
же
тогда
интеллект
не
мог
бы
способствовать
развитию
руки?
Пойдем
дальше.
Рука
ребенка
естественно
пытается
конструировать.
Помогая
ей,
предо
ставляя
ей
такие
возможности,
мы
добились
бы
позже
от
взрослого
человека
наивысших
результатов
в
труде;
тем
самым
в
мире
возрос
ла
бы
способность
к
изобретениям.
Знание
сугубо
книжное
угнета
ет
и
подавляет
формы
активности,
которые
должны
бьши
бы
раз
виваться.
Итак,
приучим
ребенка
к
ручному
труду;
но
это
обучение
не
стоит
доверять
чернорабочему.
Обратимся
к
настоящему
учи
телю
-
пусть
он
поможет
развить
осязание
(le
toucher)
настолько,
чтобы
превратить
его
в
чувство
такта
(tact)44*:
интеллект
поднимет
ся
от
руки к
голове.
Но
не
стану
долго
задерживаться
на
этом
во
просе.
В
любой
области,
гуманитарной
или
естественно-научной,
наше
образование
остается
чересчур
вербальным.
Однако
уже
не
то
время,
когда
достаточно
бьшо
быть
светским
человеком
и
уметь
разглагольствовать
о
вещах.
Идет ли
речь
о
науке?
Здесь
главным
образом
излагаются
результаты.
Не
лучше
ли
бьшо
бы
обучать
ме
тодам?
Этим
мы
дали
бы
стимул
к
их
применению,
к
тому,
чтобы
наблюдать,
экспериментировать,
изобретать.
Как
бы
нас
слушали!
как
бы
нас
понимали!
Ведь
ребенок
-
это
исследователь
и
изобре
татель,
всегда
стремящийся
к
новому,
не
терпящий
правил,
нако
нец,
более
близкий к
природе,
чем
взрослый
человек.
Но
послед
ний
есть
существо
социальное,
именно
он
обучает,
непременно
выдвигая
на
первый
план
предмет
своей
законной
гордости
-
всю
сумму
достигнутых
результатов,
из
которых
складывается
соци-
146
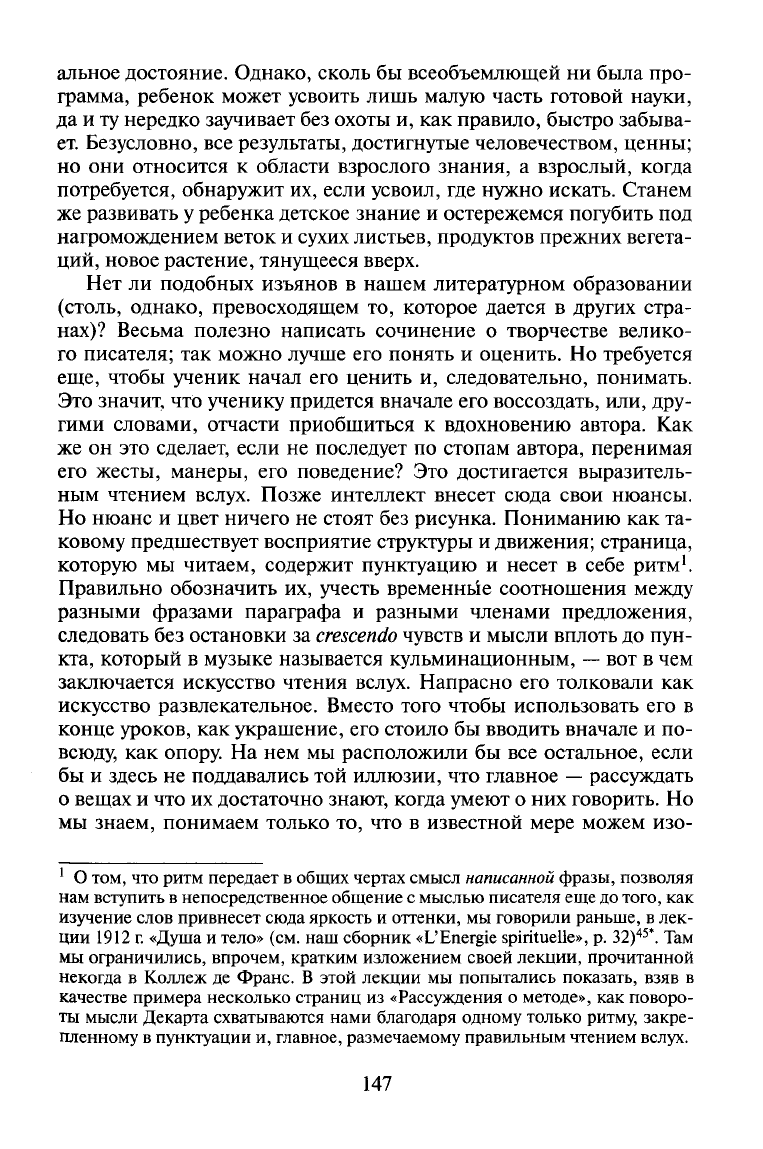
альное
достояние.
Однако,
сколь
бы
всеобъемлющей
ни
бьmа
про
грамма,
ребенок
может
усвоить
лишь
малую
часть
готовой
науки,
да
и
ту
нередко
заучивает
без
охоты
и,
как
правило,
быстро
забыва
ет.
Безусловно,
все
результаты,
достигнутые
человечеством,
ценны;
но
они
относится
к
области
взрослого
знания,
а
взрослый,
когда
потребуется,
обнаружит
их,
если
усвоил,
где
нужно
искать.
Станем
же
развивать у
ребенка
детское
знание
и
остережемся
погубить
под
нагромождением
веток
и
сухих
листьев,
продуктов
прежних
вегета
ций,
новое
растение,
тянущееся
вверх.
Нет ли
подобных
изъянов
в
нашем
литературном
образовании
(столь,
однако,
превосходящем
то,
которое
дается
в
других
стра
нах)?
Весьма
полезно
написать
сочинение
о
творчестве
велико
го
писателя;
так
можно
лучше
его
понять
и
оценить.
Но
требуется
еще,
чтобы
ученик
начал
его
ценить
и,
следовательно,
понимать.
Это
значит,
что
ученику
придется
вначале
его
воссоздать,
или,
дру
гими
словами,
отчасти
приобщиться
к
вдохновению
автора.
Как
же
он
это
сделает,
если не
последует
по
стопам
автора,
перенимая
его
жесты,
манеры,
его
поведение?
Это
достигается
выразитель
ным
чтением
вслух.
Позже
интеллект
внесет
сюда
свои
нюансы.
Но
нюанс
и
цвет
ничего
не
стоят
без
рисунка.
Пониманию
как
та
ковому
предшествует
восприятие
структуры
и
движения;
страница,
которую
мы
читаем,
содержит
пунктуацию
и
несет
в
себе
ритм!.
Правильно
обозначить
их,
учесть
BpeMeHHbie
соотношения
между
разными
фразами
параграфа
и
разными
членами
предложения,
следовать
без
остановки
за
crescendo
чувств
и
мысли
вплоть
до
пун
кта,
который
в
музыке
называется
кульминационным,
-
вот
в
чем
заключается
искусство
чтения
вслух.
Напрасно
его
толковали
как
искусство
развлекательное.
Вместо
того
чтобы
использовать
его
в
конце
уроков,
как
украшение,
его
стоило
бы
вводить
вначале
и
по
всюду,
как
опору.
На
нем
мы
расположили
бы
все
остальное,
если
бы
и
здесь
не
поддавались той
иллюзии,
что
главное
-
рассуждать
о
вещах
и
что
их
достаточно
знают,
когда
умеют
о
них
говорить.
Но
мы
знаем,
понимаем
только
то,
что
в
известной
мере
можем
изо-
1
О
том,
что
ритм
передает
в
общих
чертах
смысл
написанной
фразы, позволяя
нам
вступить
в
непосредственное
общение
с
мыслью
писателя
еще
до
того,
как
изучение
слов
привнесет
сюда
яркость
и
оттенки,
мы
говорили
раньше,
в
лек
ции
1912
r.
«Душа
И
тело»
(см.
наш
сборник
«L'Energie spirituelle»,
р.
32)45*.
Там
мы
ограничились,
впрочем,
кратким
изложением
своей
лекции,
прочитанной
некогда
в
Коллеж
де
Франс.
В
этой
лекции
мы
попытались
показать,
взяв
в
качестве
примера
несколько
страниц
из
«Рассуждения
о
методе»,
как
поворо
ты
мысли
Декарта
схватываются
нами
благодаря
одному
только
ритму,
закре
пленному
в
пунктуации
и,
главное,
размечаемому
правильным
чтением
вслух.
147
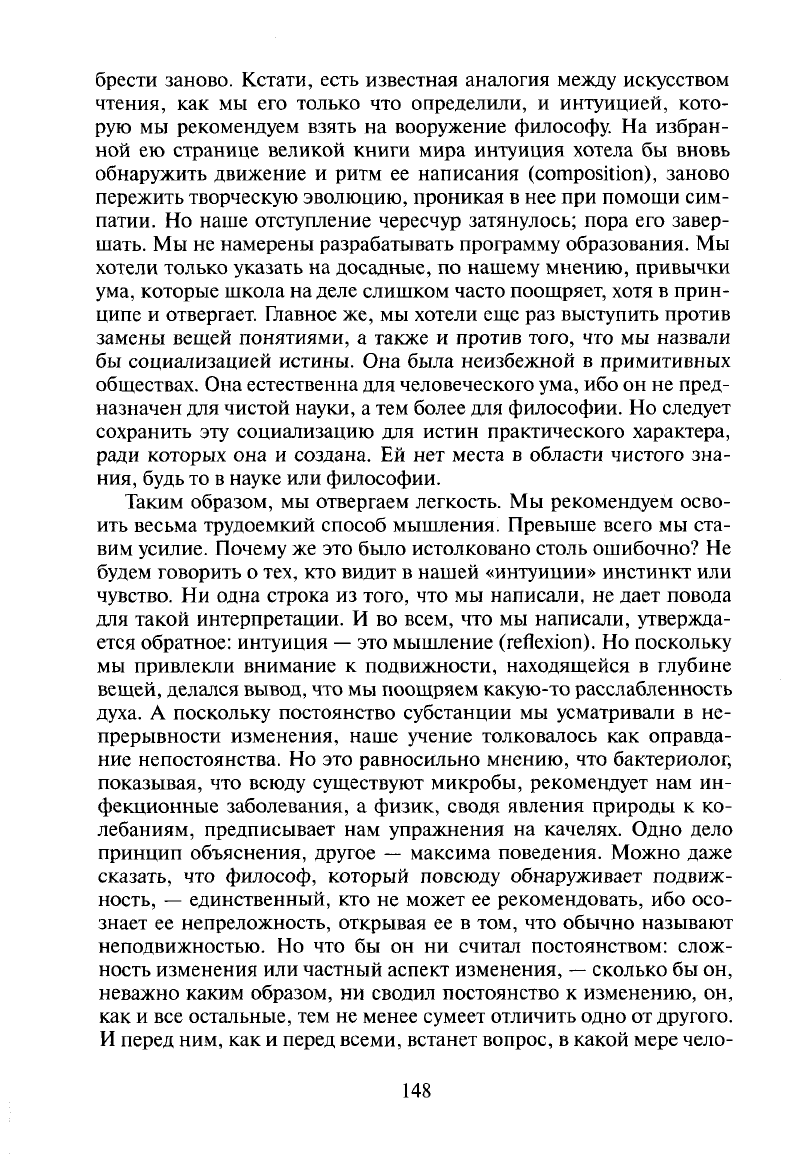
брести
заново.
Кстати,
есть
известная
аналогия
между
искусством
чтения,
как
мы
его
только
что
определили,
и
интуицией,
кото
рую
мы
рекомендуем
взять
на
вооружение
философу.
На
избран
ной
ею
странице
великой
книги
мира
интуиция
хотела
бы
вновь
обнаружить
движение
и
ритм
ее
написания
(composition),
заново
пережить
творческую
эволюцию,
проникая
в
нее
при
помощи
сим
патии.
Но
наше
отступление
чересчур
затянулось;
пора
его
завер
шать.
Мы
не
намерены
разрабатывать
про
грамму
образования.
Мы
хотели
только
указать
на
досадные,
по
нашему
мнению,
привычки
ума,
которые
школа
на
деле
слишком
часто
поощряет,
хотя
в
при
н
-
ципе и
отвергает.
Главное
же,
мы
хотели
еще
раз
выступить
против
замены
вещей
понятиями,
а
также
и
против
того,
что
мы
назвали
бы
социализацией
истины.
Она
была
неизбежной
в
примитивных
обществах.
Она
естественна
для
человеческого
ума,
ибо
он
не
пред
назначен
для
чистой
науки,
а
тем
более
для
философии.
Но
следует
сохранить
эту
социализацию
для
истин
практического
характера,
ради
которых
она
и
создана.
Ей
нет
места
в
области
чистого
зна
ния,
будь
то
в
науке
или
философии.
Таким
образом,
мы
отвергаем
легкость.
Мы
рекомендуем
осво
ить
весьма
трудоемкий
способ
мышления.
Превыше
всего
мы
ста
вим
усилие.
Почему
же
это
бьшо
истолковано
столь
ошибочно?
Не
будем
говорить
о
тех,
кто
видит
в
нашей
«интуиции»
инстинкт
или
чувство.
Ни
одна
строка
из
того,
что
мы
написали,
не
дает
повода
для
такой
интерпретации.
И
во
всем,
что
мы
написали,
утвержда
ется
обратное:
интуиция
-
это
мышление
(reflexion).
Но
поскольку
мы
привлекли
внимание
к
подвижности,
находящейся
в
глубине
вещей,
делался
вывод,
что
мы
поощряем
какую-то
расслабленность
духа.
А
поскольку
постоянство
субстанции
мы
усматривали
в
не
прерывности
изменения,
наше
учение
толковалось
как
оправда
ние
непостоянства.
Но
это
равносильно
мнению,
что
бактериолог,
показывая,
что
всюду
существуют
микробы,
рекомендует
нам
ин
фекционные
заболевания,
а
физик,
сводя
явления
природы
к
ко
лебаниям,
предписывает
нам
упражнения
на
качелях.
Одно
дело
принцип
объяснения,
другое
-
максима
поведения.
Можно
даже
сказать,
что
философ,
который
повсюду
обнаруживает
подвиж
ность,
-
единственный,
кто
не
может
ее
рекомендовать,
ибо
осо
знает
ее
непреложность,
открывая
ее
в
том,
что
обычно
называют
неподвижностью.
Но
что
бы
он
ни
считал
постоянством:
слож
ность
изменения
или
частный
аспект
изменения,
-
сколько
бы
он,
неважно
каким
образом,
ни
сводил
постоянство к
изменению,
он,
как
и
все
остальные,
тем не
менее
сумеет
отличить
одно
от
другого.
И
перед
ним,
как
и
перед
всеми,
встанет вопрос,
в
какой
мере
чело-
148
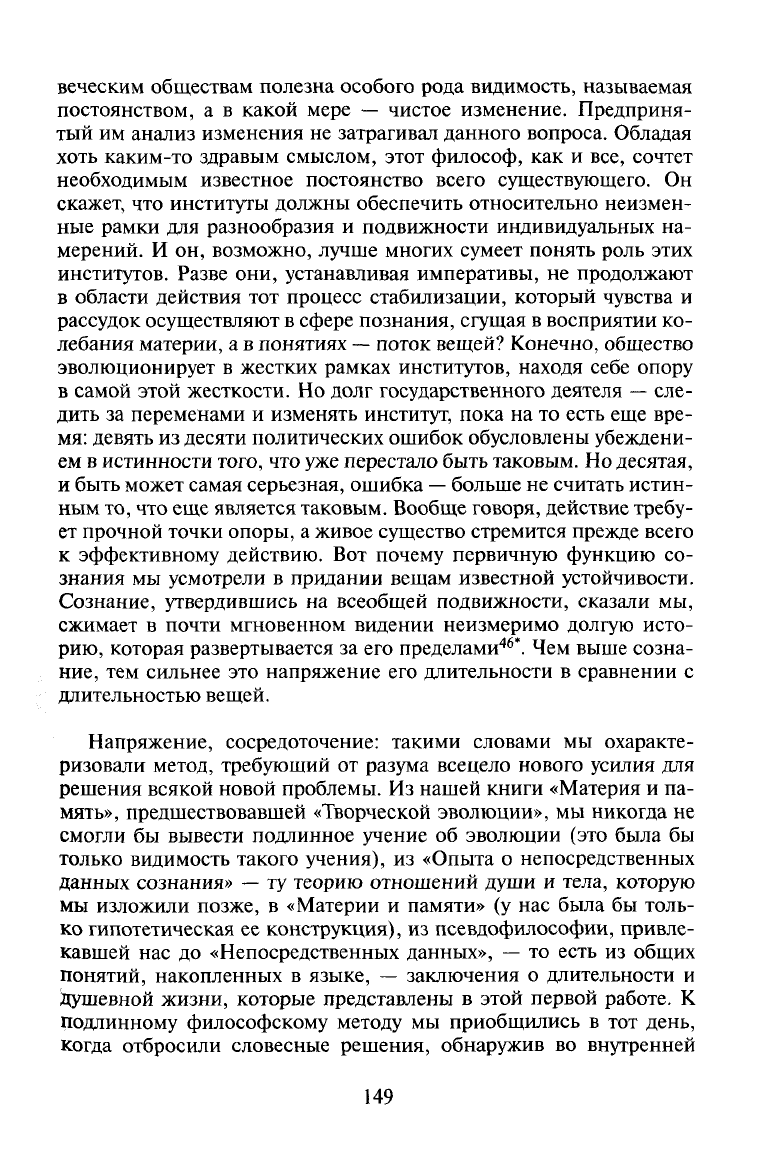
веческим
обществам
полезна
особого
рода
видимость,
называемая
постоянством,
а
в
какой
мере
-
чистое
изменение.
Предприня
тый
им
анализ
изменения
не
затрагивал
данного
вопроса.
Обладая
хоть
каким-то
здравым
смыслом,
этот
философ,
как
и
все,
сочтет
необходимым
известное
постоянство
всего
существующего.
Он
скажет,
что
институгы
должны
обеспечить
относительно
неизмен
ные
рамки
для разнообразия
и
подвижности
индивидуальных
на
мерений.
И
он,
возможно,
лучше
многих
сумеет
понять
роль
этих
институгов.
Разве
они,
устанавливая
императивы,
не
продолжают
в
области
действия
тот
процесс
стабилизации,
который
чувства
и
рассудок
осуществляют
в
сфере
познания,
сгущая
в
восприятии
ко
лебания
материи,
а
в
понятиях
-
поток
вещей?
Конечно,
общество
эволюционирует
в
жестких
рамках
институгов,
находя
себе
опору
в
самой
этой
жесткости.
Но
долг
государственного
деятеля
-
сле
дить
за
переменами
и
изменять
институг,
пока
на
то
есть
еще
вре
мя:
девять
из
десяти
политических
ошибок
обусловлены
убеждени
ем
в
истинности
того,
что
уже
перестало
быть
таковым.
Но
десятая,
и
быть
может
самая
серьезная,
ошибка
-
больше
не
считать
истин
HыM
то,
что
еще
является
таковым.
Вообще
говоря,
действие
требу
ет
прочной
точки
опоры,
а
живое
существо
стремится
прежде
всего
к
эффективному
действию.
Вот
почему
первичную
функцию
со
знания
мы
усмотрели
в
придании
вещам
известной
устойчивости.
Сознание,
угвердившись
на
всеобщей
подвижности,
сказали
мы,
сжимает
в
почти
мгновенном
видении
неизмеримо
долгую
исто
рию,
которая
развертывается
за
его
пределами
46
*.
Чем
выше
созна
ние,
тем
сильнее
это
напряжение
его
длительности
в
сравнении
с
длительностью
вещей.
Напряжение,
сосредоточение:
такими
словами
мы
охаракте
ризовали
метод,
требуюший
от
разума
всецело
нового усилия
для
решения
всякой
новой
проблемы.
Из
нашей
книги
«Материя
И
па
мять»,
предшествовавшей
«Творческой
эволюции»,
мы
никогда
не
смогли
бы
вывести
подлинное
учение
об
эволюции
(это
была
бы
только
видимость
такого
учения),
из
«Опыта
О
непосредственных
данных
сознания»
-
ту
теорию
отношений
души
и
тела,
которую
мы
изложили
позже,
в
«Материи
И
памяти»
(у
нас
бьmа
бы
толь
ко
гипотетическая
ее
конструкция),
из
псевдофилософии,
привле
кавшей
нас
до
«Непосредственных
данных»,
-
то
есть
из
общих
понятий,
накопленных
в
языке,
-
заключения
о
длительности
и
:душевной
жизни,
которые
представлены
в
этой
первой
работе.
К
подлинному
философскому
методу
мы
приобщились
в
тот
день,
когда
отбросили
словесные
решения,
обнаружив
во
внутренней
149
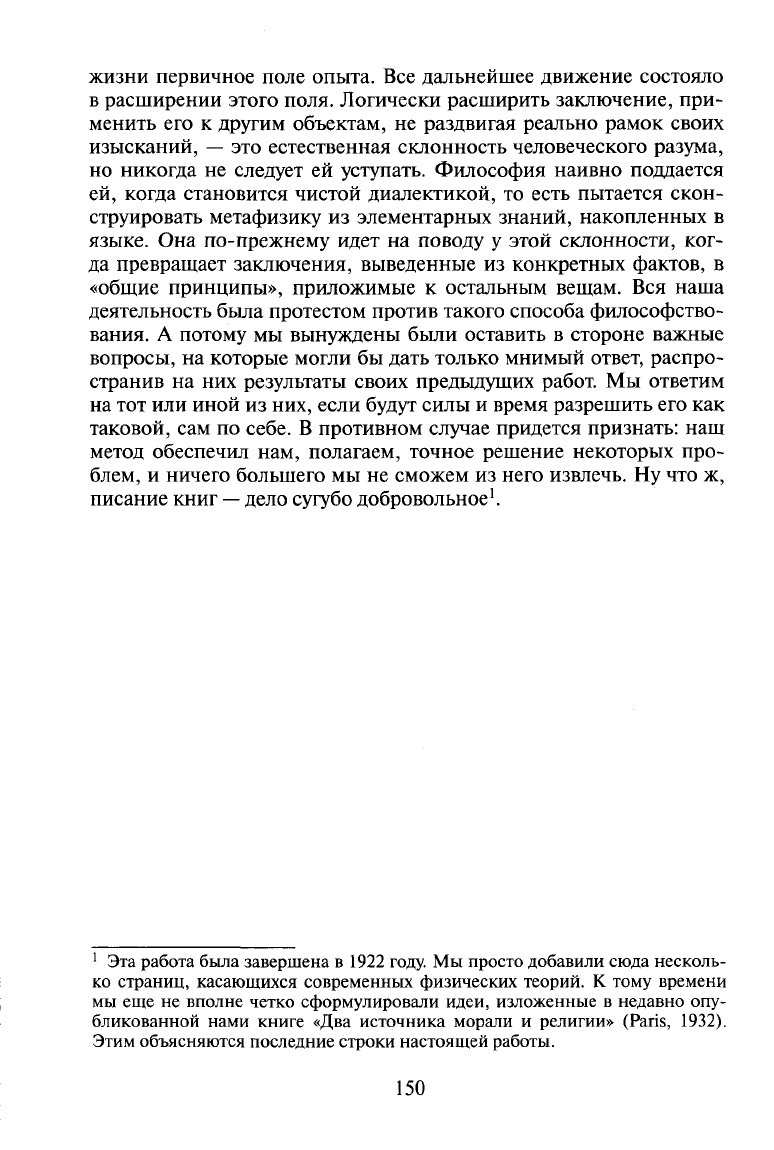
жизни
первичное
поле
опыта.
Все
дальнейшее
движение
состояло
в
расширении
этого
поля.
Логически
расширить
заключение,
при
менить
его
к
другим
объектам,
не
раздвигая
реально
рамок
своих
изысканий,
-
это
естественная
склонность
человеческого
разума,
но
никогда
не
следует
ей
уступать.
Философия
наивно
поддается
ей,
когда
становится
чистой
диалектикой,
то
есть
пытается
скон
струировать
метафизику
из
элементарных
знаний,
накопленных
в
языке.
Она
по-прежнему
идет
на
поводу
у
этой
склонности,
ког
да
превращает
заключения,
выведенные
из
конкретных
фактов,
в
«общие
принципы»,
приложимые
к
остальным
вещам.
Вся
наша
деятельность
бьша
протестом
против
такого
способа
филосоФство
вания.
А
потому
мы
вынуждены
бьши
оставить
в
стороне
важные
вопросы, на
которые
могли
бы
дать
только
мнимый
ответ,
распро
странив
на
них
результаты
своих
предыдущих
работ.
Мы
ответим
на
тот
или
иной
из
них,
если
будут
силы
и
время
разрешить
его
как
таковой,
сам
по
себе.
В
противном
случае
придется
признать:
наш
метод
обеспечил
нам,
полагаем,
точное
решение
некоторых
про
блем,
и
ничего
большего
мы
не
сможем
из него
извлечь.
Ну
что
ж,
писание
книг
-
дело
сугубо
добровольное
l
.
1
Эта
работа
была
завершена
в
1922
году.
Мы
просто
добавили
сюда
несколь
ко
страниц,
касающихся
современных
физических
теорий.
К
тому времени
мы
еще
не
вполне
четко
сформулировали
идеи,
изложенные
в
недавно
опу
бликованной
нами
книге
«Два
источника
морали
и
религии»
(Paris, 1932).
Этим
объясняются
последние
строки
настоящей
работы.
150
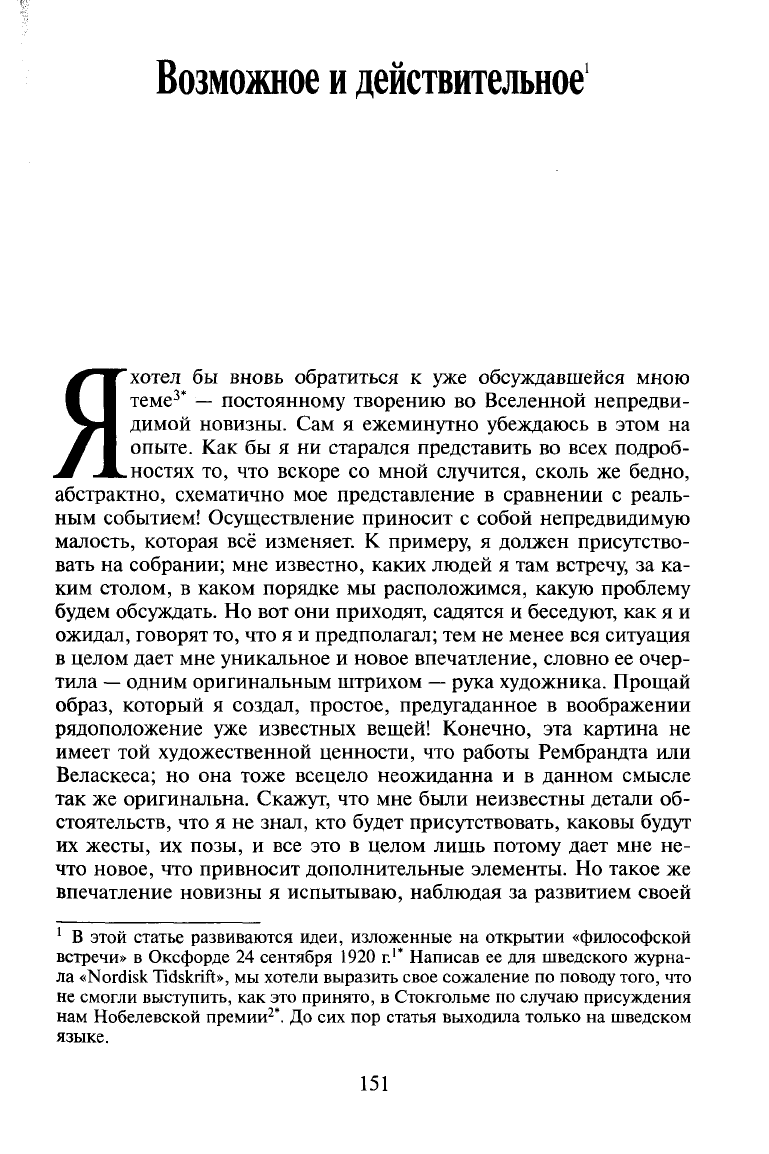
Возможное
и
действительное
I
Я
хотел
бы
вновь
обратиться
к
уже
обсуждавшейся
мною
теме
З
'
-
постоянному
творению
во
Вселенной
непредви
димой
новизны.
Сам
я
ежеминутно
убеждаюсь
в
этом на
опыте.
Как
бы
я
ни
старался
представить
во
всех
подроб
ностях
то,
что
вскоре
со
мной
случится,
сколь
же
бедно,
абстрактно,
схематично
мое
представление
в
сравнении
с
реаль
ным
событием!
Осуществление
приносит
с
собой
непредвидимую
малость,
которая
всё
изменяет.
К
примеру,
я
должен
присутство
вать
на
собрании;
мне
известно,
каких
людей
я
там
встречу,
за
ка
ким
столом,
в
каком
порядке
мы
расположимся,
какую
проблему
будем
обсуждать.
Но
вот
они
приходят,
садятся
и
беседуют,
как
я и
ожидал,
говорят
то,
что
я
и
предполагал;
тем
не
менее
вся
ситуация
в
целом
дает
мне
уникальное
и
новое
впечатление,
словно
ее
очер
тила
-
одним
оригинальным
штрихом
-
рука
художника.
Прощай
образ,
который
я
создал,
простое,
предугаданное
в
воображении
рядоположение
уже
известных
вещей!
Конечно,
эта
картина
не
имеет
той
художественной
ценности,
что
работы
Рембрандта
или
Веласкеса;
но
она
тоже
всецело
неожиданна
и
в
данном
смысле
так
же
оригинальна.
Скажут,
что
мне
бьши
неизвестны
детали
об
стоятельств,
что я
не
знал,
кто
будет
присутствовать,
каковы
будут
их
жесты,
их
позы,
и
все
это в
целом
лишь
потому
дает
мне
не
что
новое,
что
привносит
дополнительные
элементы.
Но
такое
же
впечатление
новизны
я
испытываю,
наблюдая
за
развитием
своей
1
В
этой
статье
развиваются
идеи,
изложенные
на
открытии
«философской
встречи»
в
Оксфорде
24
сентября
1920
r.
1*
Написав
ее
для
шведского
журна
лa
«Nordisk Tidskrift»,
мы
хотели
выразить
свое
сожаление
по
поводу
того,
что
не
смогли
выступить,
как
это
принято,
в
Стокгольме
по
случаю
присуждения
нам
Нобелевской
премии
2
*.
До
сих
пор
статья
выходила
только на
шведском
языке.
151
