Бергсон Анри. Избранное: Сознание и жизнь
Подождите немного. Документ загружается.

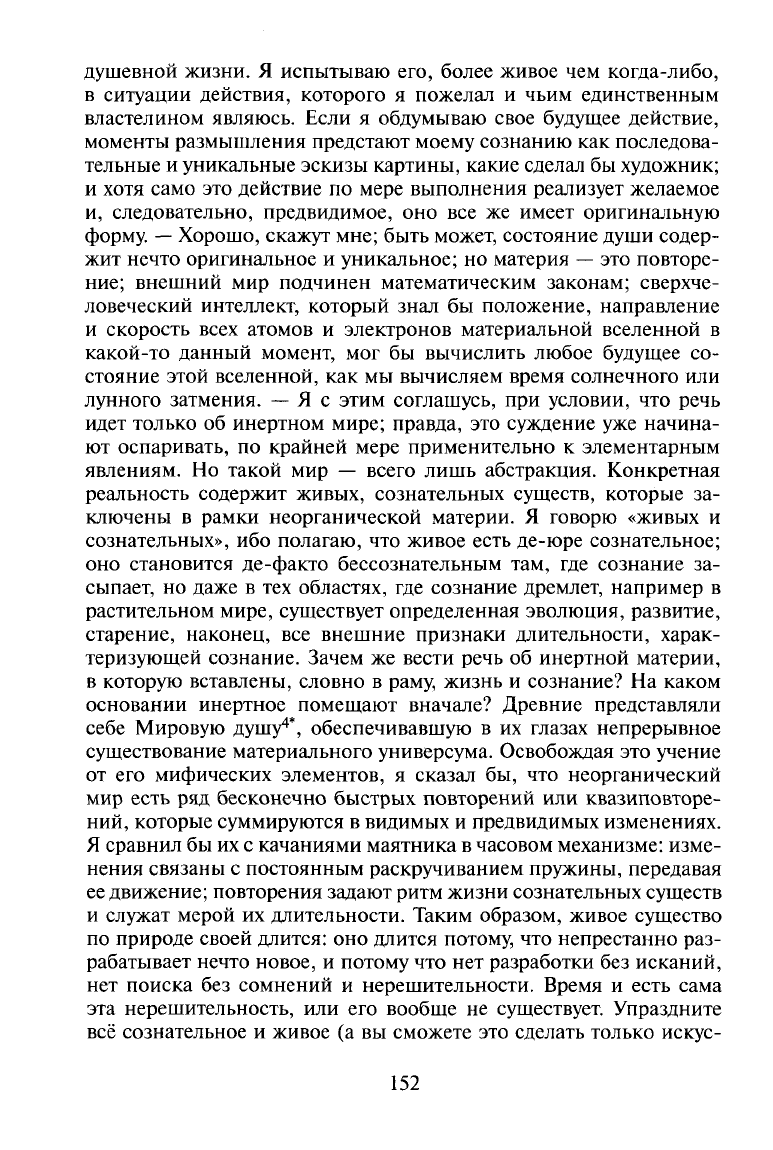
душевной
жизни.
Я
испытываю
его,
более
живое
чем
когда-либо,
в
ситуации
действия,
которого
я
пожелал
и
чьим
единственным
властелином
являюсь.
Если
я
обдумываю
свое
будущее
действие,
моменты
размышления
предстают
моему
сознанию
как
последова
тельные
и
уникальные
эскизы
картины,
какие
сделал
бы
художник;
и
хотя
само
это
действие
по
мере
выполнения
реализует
желаемое
и,
следовательно,
предвидимое,
оно
все
же
имеет
оригинальную
форму.
-
Хорошо,
скажут
мне;
быть
может,
состояние
души
содер
жит
нечто
оригинальное
и
уникальное;
но
материя
-
это
повторе
ние;
внешний
мир
подчинен
математическим
законам;
сверхче
ловеческий
интеллект,
который
знал
бы
положение,
направление
и
скорость
всех
атомов
и
электронов
материальной
вселенной
в
какой-то
данный
момент,
мог
бы
вычислить
любое
будущее
со
стояние
этой
вселенной,
как
мы
вычисляем
время
солнечного
или
лунного
затмения.
-
Я
с
этим
соглашусь,
при
условии,
что
речь
идет
только
об
инертном
мире;
правда,
это
суждение
уже
начина
ют
оспаривать,
по
крайней
мере
применительно
к
элементарным
явлениям.
Но
такой
мир
-
всего
лишь
абстракция.
Конкретная
реальность
содержит
живых,
сознательных
существ,
которые
за
ключены
в
рамки
неорганической
материи.
Я
говорю
«живых
И
сознательных»,
ибо
полагаю,
что
живое
есть
де-юре
сознательное;
оно
становится
де-факто
бессознательным
там,
где
сознание
за
сыпает,
но
даже
в
тех
областях,
где
сознание
дремлет,
например
в
растительном
мире,
существует
определенная
эволюция,
развитие,
старение,
наконец,
все
внешние
признаки
длительности,
харак
теризующей
сознание.
Зачем
же
вести
речь
об
инертной
материи,
в
которую
вставлены,
словно
в
раму,
жизнь
и
сознание?
На
каком
основании
инертное
помещают
вначале?
Древние
представляли
себе
Мировую
душу4*,
обеспечивавшую
в
их
глазах
непрерывное
существование
материального
универсума.
ОсвоБОЖдая
это
учение
от
его
мифических
элементов,
я
сказал бы,
что
неорганический
мир
есть
ряд
бесконечно
быстрых
повторений
или
квазиповторе
ний,
которые
суммируются
в
видимых
и
предвидимых
изменениях.
Я
сравнил
бы
их
с
качаниями
маятника
в
часовом
механизме:
изме
нения
связаны
с
постоянным
раскручиванием
пружины,
передавая
ее
движение;
повторения
задают
ритм
жизни
сознательных
существ
и
служат
мерой
их
длительности.
Таким
образом,
живое
существо
по
природе
своей
длится:
оно
длится
потому,
что
непрестанно
раз
рабатывает
нечто
новое,
и
потому
что нет
разработки
без
исканий,
нет
поиска
без
сомнений
и
нерешительности.
Время
и
есть
сама
эта
нерешительность,
или
его
вообще
не
существует.
Упраздните
всё
сознательное
и
живое
(а
вы
сможете
это
сделать
только
искус-
152
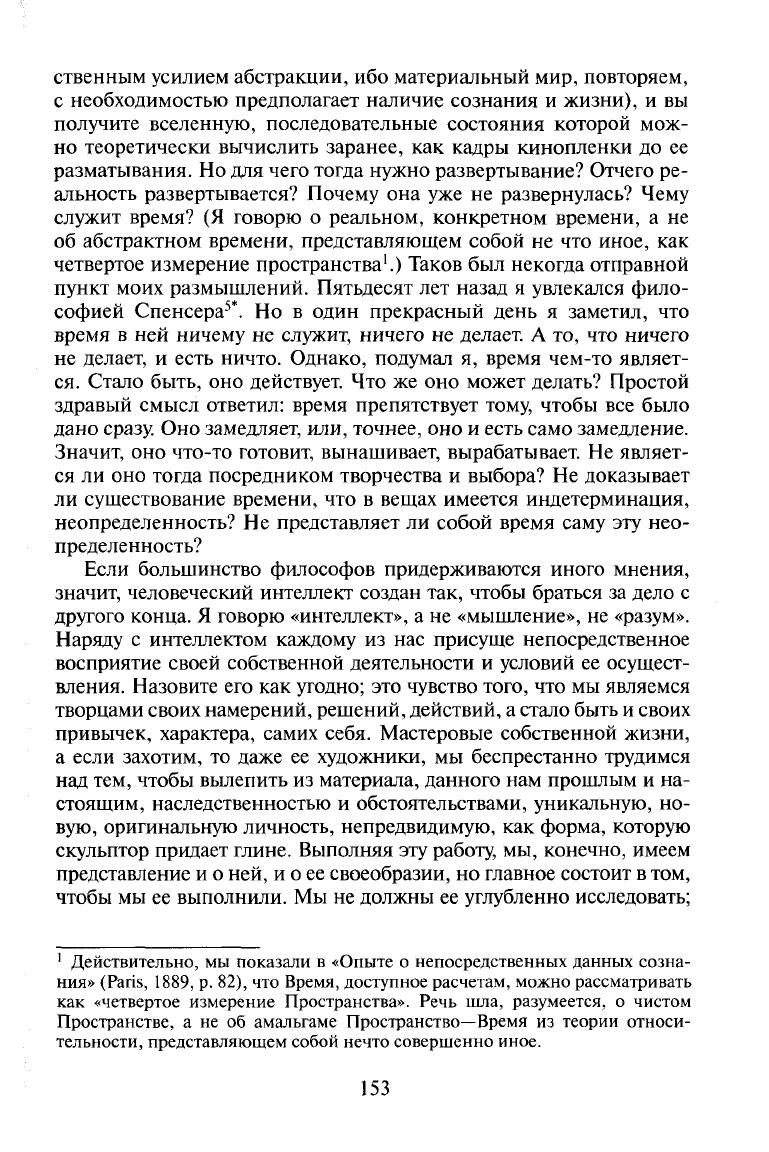
ственным
усилием
абстракции,
ибо материальный
мир,
повторяем,
с
необходимостью
предполагает
наличие
сознания
и
жизни),
и
вы
получите вселенную,
последовательные
состояния
которой
мож
но
теоретически
вычислить
заранее,
как
кадры
кинопленки
до
ее
разматывания.
Но
для
чего
тогда
нужно
развертывание?
Отчего
ре
альность
развертывается?
Почему
она
уже
не
развернулась?
Чему
служит
время?
(Я
говорю
о
реальном,
конкретном
времени,
а
не
об
абстрактном
времени,
представляющем
собой
не
что
иное,
как
четвертое
измерение
пространства
l
.)
Таков
был
некогда
отправной
пункт
моих
размышлений.
Пятьдесят
лет
назад
я
увлекался
фило
софией
Спенсера
5
*.
Но
в
один
прекрасный
день
я
заметил,
что
время
в
ней
ничему
не
служит,
ничего
не
делает.
А
то,
что
ничего
не
делает,
и
есть
ничто.
Однако,
подумал
я,
время
чем-то
являет
ся.
Стало
быть,
оно
действует.
Что
же
оно
может
делать?
Простой
здравый
смысл
ответил:
время
препятствует
тому,
чтобы
все
было
дано
сразу.
Оно
замедляет,
или,
точнее,
оно
и
есть
само
замедление.
Значит,
оно
что-то
готовит,
вынашивает,
вырабатывает.
Не
являет
ся
ли
оно
тогда
посредником
творчества
и
выбора?
Не
доказывает
ли
существование
времени,
что
в
вещах
имеется
индетерминация,
неопределенность?
Не
представляет
ли
собой
время
саму
эту
нео
пределенность?
Если
большинство
философов
придерживаются
иного
мнения,
значит,
человеческий
интеллект
создан
так,
чтобы
браться
за
дело
с
другого
конца.
Я
говорю
«интеллект»,
а
не
«мышление»,
не
«разум».
Наряду
с
интеллектом
каждому
из
нас
присуще
непосредственное
восприятие
своей
собственной
деятельности
и
условий
ее
осущест
вления.
Назовите
его
как
угодно; это
чувство
того,
что
мы
являемся
творцами
своих
намерений,
решений,
действий,
а
стало
быть
и
своих
привычек,
характера,
самих
себя.
Мастеровые
собственной
жизни,
а
если
захотим,
то
даже
ее
художники,
мы
беспрестанно
трудимся
над
тем,
чтобы
вьmепить
из материала,
данного
нам
прошлым
и
на
стоящим,
наследственностью
и
обстоятельствами,
уникальную,
но
вую,
оригинальную
личность,
непредвидимую,
как
форма,
которую
скульптор
придает
глине.
Выполняя
эту
работу,
мы,
конечно,
имеем
представление
и
о
ней,
и
о
ее
своеобразии,
но
главное состоит
в
том,
чтобы
мы
ее
выполнили.
Мы
не
должны
ее
углубленно
исследовать;
1
Действительно,
мы
показали
в
«Опыте
О
непосредственных
данных
созна
ния»
(Paris, 1889,
р.
82),
что
Время,
доступное
расчетам,
можно
рассматривать
как
«четвертое
измерение
Пространства».
Речь
IIШа,
разумеется,
о
чистом
Пространстве,
а
не об
амальгаме
Пространство-Время
из
теории
относи
тельности,
представляющем
собой
нечто
совершенно
иное.
153
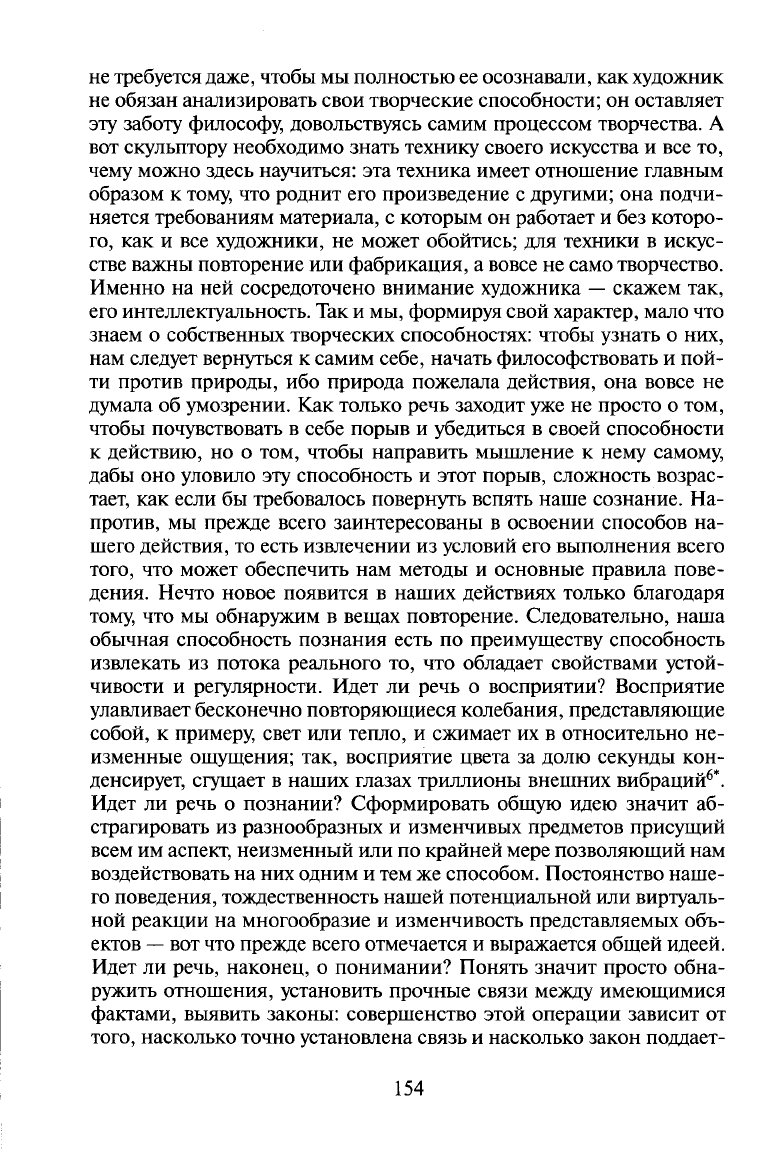
не
требуется
даже,
чтобы
мы
полностью
ее
осознавали,
как
художник
не обязан
анализировать
свои
творческие
способности;
он
оставляет
эту
заботу
философу,
довольствуясь
самим
процессом
творчества.
А
вот
скульптору
необходимо
знать
технику
своего
искусства
и
все
то,
чему
можно
здесь
научиться:
эта
техника
имеет
отношение
главным
образом
к
тому,
что
роднит
его
произведение
с
другими;
она
подчи
няется
требованиям
материала,
с
которым
он
работает
и
без
которо
го,
как
и
все
художники,
не
может
обойтись;
для
техники
в
искус
стве
важны
повторение
или
фабрикация,
а
вовсе
не
само
творчество.
Именно
на
ней
сосредоточено
внимание
художника
-
скажем
так,
его
интеллектуальность.
Так
и
мы,
формируя
свой
характер,
мало
что
знаем
о
собственных
творческих
способностях:
чтобы
узнать
о
них,
нам
следует
вернуться
к
самим
себе,
начать
философствовать
и
пой
ти
против
природы,
ибо
природа
пожелала
действия,
она
вовсе
не
думала
об
умозрении.
Как
только
речь
заходит
уже
не
просто
о
том,
чтобы
почувствовать
в
себе
порыв
и
убедиться
в
своей
способности
к
действию,
но
о
том,
чтобы
направить
мышление
к
нему
самому,
дабы
оно
уловило
эту
способность
и
этот
порыв,
сложность
возрас
тает,
как
если
бы
требовалось
повернуть
вспять
наше
сознание.
На
против,
мы
прежде
всего
заинтересованы
в
освоении
способов
на
шего
действия,
то
есть
извлечении
из
условий
его
выполнения
всего
того,
что
может
обеспечить
нам
методы
и
основные
правила
пове
дения.
Нечто
новое
появится
в
наших
действиях
только
благодаря
тому,
что
мы
обнаружим
в
вещах
повторение.
Следовательно,
наша
обычная
способность
познания
есть
по
преимуществу
способность
извлекать
из
потока
реального
то,
что
обладает
свойствами
устой
чивости
и
регулярности.
Идет
ли
речь
о
восприятии?
Восприятие
улавливает
бесконечно
повторяющиеся
колебания,
представляющие
собой,
к
примеру,
свет
или
тепло,
и
сжимает
их
в
относительно
не
изменные
ощущения;
так,
восприятие
цвета
за
долю
секунды
кон
денсирует,
сгущает
в
наших
глазах
триллионы
внешних
вибрациЙ
6
*.
Идет
ли
речь
о
познании?
Сформировать
общую
идею
значит
аб
страгировать
из
разнообразных
и
изменчивых
предметов
при
сущий
всем
им
аспект,
неизменный
или
по
крайней
мере
позволяющий
нам
воздействовать
на
них
одним
и
тем
же
способом.
Постоянство
наше
го
поведения,
тождественность
нашей
потенциальной
или
виртуаль
ной
реакции
на
многообразие
и
изменчивость
представляемых
объ
ектов
-
вот
что
прежде
всего
отмечается
и
выражается
общей
идеей.
Идет
ли
речь,
наконец,
о
понимании?
Понять
значит
просто
обна
ружить
отношения,
установить
прочные
связи
между
имеющимися
фактами,
выявить
законы:
совершенство
этой
операции
зависит
от
того,
насколько
точно
установлена
связь
и
насколько
закон
поддает-
154
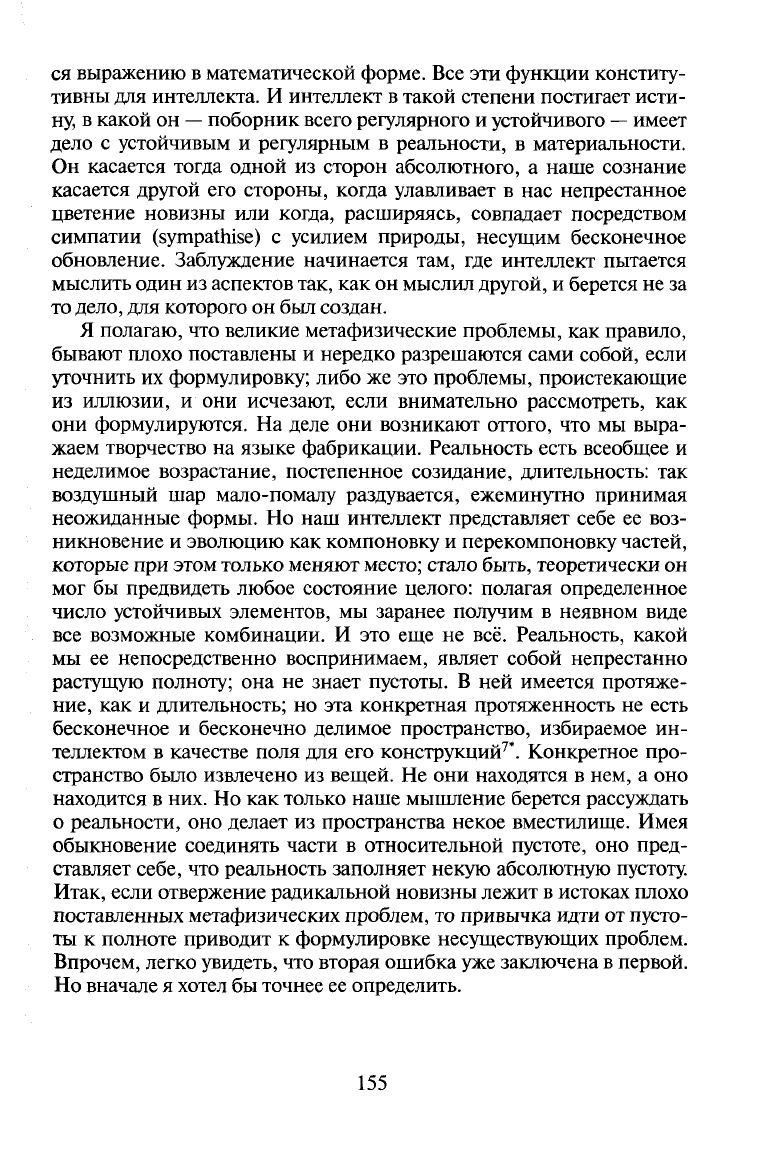
ся
выражению
в
математической
форме.
Все
эти
функции
конститу
тивны
для
интеллекта.
И
интеллект
в
такой
степени
постигает
исти
НУ,
в
какой
он
-
поборник
всего
регулярного
и
устойчивого
-
имеет
дело
с
устойчивым
и
регулярным
в
реальности,
в
материальности.
Он
касается
тогда
одной
из
сторон
абсолютного,
а
наше
сознание
касается
другой
его
стороны,
когда улавливает
в
нас
непрестанное
цветение
новизны
или
когда,
расширяясь,
совпадает
посредством
симпатии
(sympathise)
с
усилием
природы,
несушим
бесконечное
обновление.
Заблуждение
начинается
там,
где
интеллект
пытается
мыслить
один
из
аспектов
так,
как
он
мыслил
другой,
и
берется
не
за
то
дело,
для
которого
он
бьи
создан.
Я
полагаю,
что
великие
метафизические
проблемы,
как
правило,
бывают
плохо
поставлены
и
нередко
разрешаются
сами
собой,
если
уточнить
их
формулировку;
либо
же
это
проблемы,
проистекающие
из
иллюзии,
и
они
исчезают,
если
внимательно
рассмотреть,
как
они
формулируются.
На
деле
они
возникают
оттого,
что
мы
выра
жаем
творчество
на
языке
фабрикации.
Реальность
есть
всеобщее
и
неделимое
возрастание,
постепенное
созидание,
длительность:
так
воздушный
шар
мало-помалу
раздувается,
ежеминутно
принимая
неожиданные
формы.
Но
наш
интеллект
представляет
себе
ее
воз
никновение
и
эволюцию
как
компоновку
и
перекомпоновку
частей,
которые
при
этом
только
меняют
место;
стало
быть,
теоретически
он
мог
бы
предвидеть
любое
состояние
целого:
полагая
определенное
число устойчивых
элементов,
мы
заранее
получим
в
неявном
виде
все
возможные
комбинации.
И
это
еще
не
всё.
Реальность,
какой
мы
ее
непосредственно
воспринимаем,
являет
собой
непрестанно
растущую
полноту;
она
не
знает
пустоты.
В
ней
имеется
протяже
ние,
как
и
длительность;
но
эта
конкретная
протяженность
не
есть
бесконечное
и
бесконечно
делимое
пространство,
избираемое
ин
теллектом
в
качестве
поля
для
его
конструкциЙ
7
'.
Конкретное
про
странство
бьио
извлечено
из
вещей.
Не
они
находятся
в
нем,
а
оно
находится
в
них.
Но
как
только
наше
мышление
берется
рассуждать
о
реальности,
оно
делает
из
пространства
некое
вместилище.
Имея
обыкновение
соединять
части
в
относительной
пустоте,
оно
пред
ставляет
себе,
что
реальность
заполняет
некую
абсолютную
пустоту.
Итак,
если
отвержение
радикальной
новизны
лежит
в
истоках
плохо
поставленных
метафизических
проблем,
то
привычка
идти
от
пусто
тыI
К
полноте
приводит
к
формулировке
несушествующих
проблем.
Впрочем,
легко
увидеть,
что
вторая
ошибка
уже
заключена
в
первой.
Но
вначале я
хотел
бы
точнее
ее
определить.
155
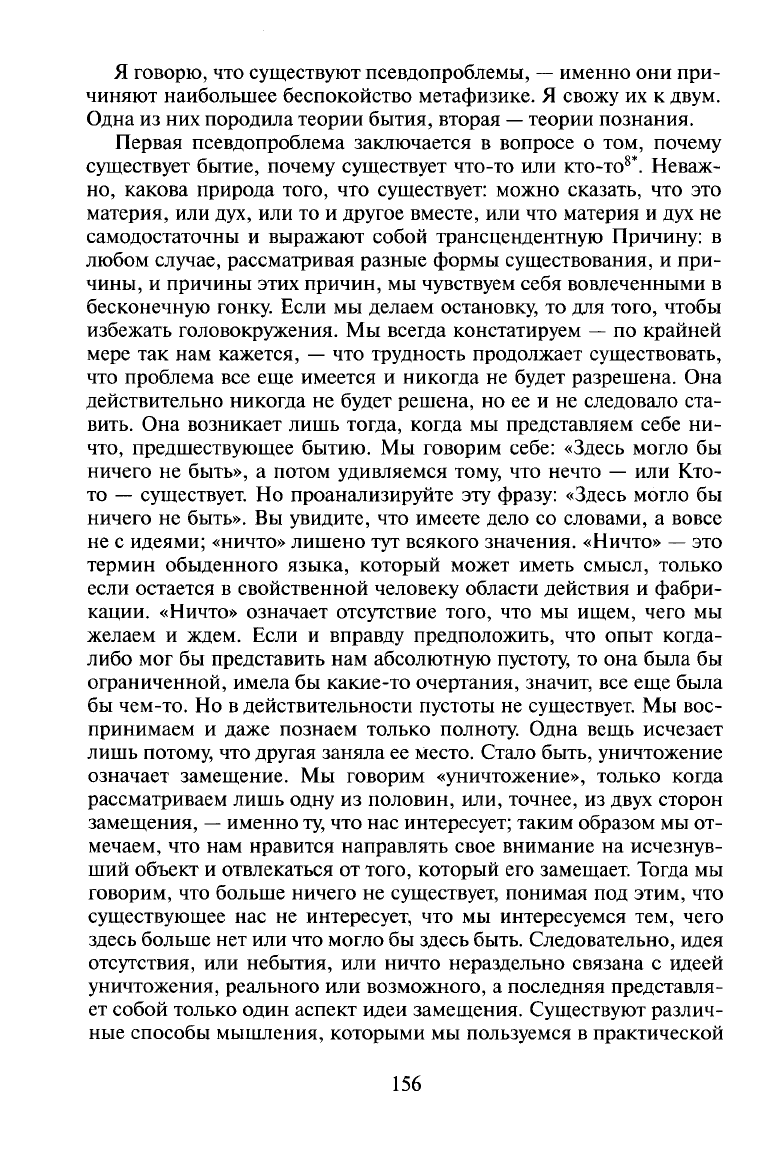
я
говорю,
что
существуют
псевдопроблемы,
-
именно они
при
чиняют
наибольшее
беспокойство
метафизике.
Я
свожу
их к
двум.
Одна
из
них
породила
теории
бытия,
вторая
-
теории
познания.
Первая
псевдопроблема
заключается
в
вопросе
о
том,
почему
сушествует
бытие,
почему
сушествует
что-то
или
КТО-ТО
S
*.
Неваж
но,
какова
природа
того,
что
существует:
можно
сказать,
что
это
материя,
или
дух,
или
то
и
другое
вместе,
или
что
материя
и
дух
не
самодостаточны
и
выражают
собой
трансцендентную
Причину:
в
любом
случае,
рассматривая
разные
формы
существования,
и
при
чины,
и
причины
этих
причин,
мы
чувствуем
себя
вовлеченными
в
бесконечную
гонку.
Если
мы
делаем
остановку,
то
для
того,
чтобы
избежать головокружения.
Мы
всегда
констатируем
-
по
крайней
мере
так
нам
кажется,
-
что
трудность
продолжает
существовать,
что
проблема
все
еще
имеется
и
никогда
не
будет
разрешена.
Она
действительно
никогда
не
будет
решена,
но
ее
и
не
следовало
ста
вить.
Она
возникает
лишь
тогда,
когда
мы
представляем
себе
ни
что,
предшествующее
бытию.
Мы
говорим
себе:
«Здесь
могло
бы
ничего
не
бытЬ»,
а
потом
удивляемся
тому,
что
нечто
-
или
Кто
то
-
сушествует.
Но
проанализируйте
эту
фразу:
«Здесь
могло
бы
ничего
не
быть».
Вы
увидите,
что
имеете
дело
со
словами,
а
вовсе
не
с
идеями;
«ничто»
лишено
тут
всякого
значения.
«Ничто»
-
это
термин
обыденного
языка,
который
может
иметь
смысл,
только
если
остается
в
свойственной
человеку
области
действия
и
фабри
кации.
«Ничто»
означает
отсутствие
того,
что
мы
ищем,
чего
мы
желаем
и
ждем.
Если
и вправду
предположить,
что
опыт
когда
либо
мог
бы
представить
нам
абсолютную
пустоту,
то
она
бьmа
бы
ограниченной,
имела
бы
какие-то
очертания,
значит,
все
еще
была
бы
чем-то.
Но
в
действительности
пустоты
не
существует.
Мы
вос
принимаем
и
даже
познаем
только
полноту.
Одна
вещь
исчезает
лишь
потому,
что
другая
заняла
ее
место.
Стало
быть,
уничтожение
означает
замещение.
Мы
говорим
«уничтожение»,
только
когда
рассматриваем
лишь
одну
из
половин,
или,
точнее,
из
двух
сторон
замещения,
-
именно
ту,
что нас
интересует;
таким
образом
мы
от
мечаем,
что
нам
нравится
направлять
свое
внимание
на
исчезнув
ший
объект
и
отвлекаться
от
того,
который
его
замещает.
Тогда
мы
говорим,
что
больше
ничего
не
существует,
понимая
под
этим,
что
существующее
нас
не
интересует,
что
мы
интересуемся
тем,
чего
здесь
больше
нет
или
что
могло
бы
здесь
быть.
Следовательно,
идея
отсутствия,
или
небытия,
или
ничто
нераздельно
связана
с
идеей
уничтожения,
реального
или
возможного,
а
последняя
представля
ет
собой
только
один
аспект
идеи
замещения.
Существуют
различ
ные
способы
мышления,
которыми
мы
пользуемся
в
практической
156
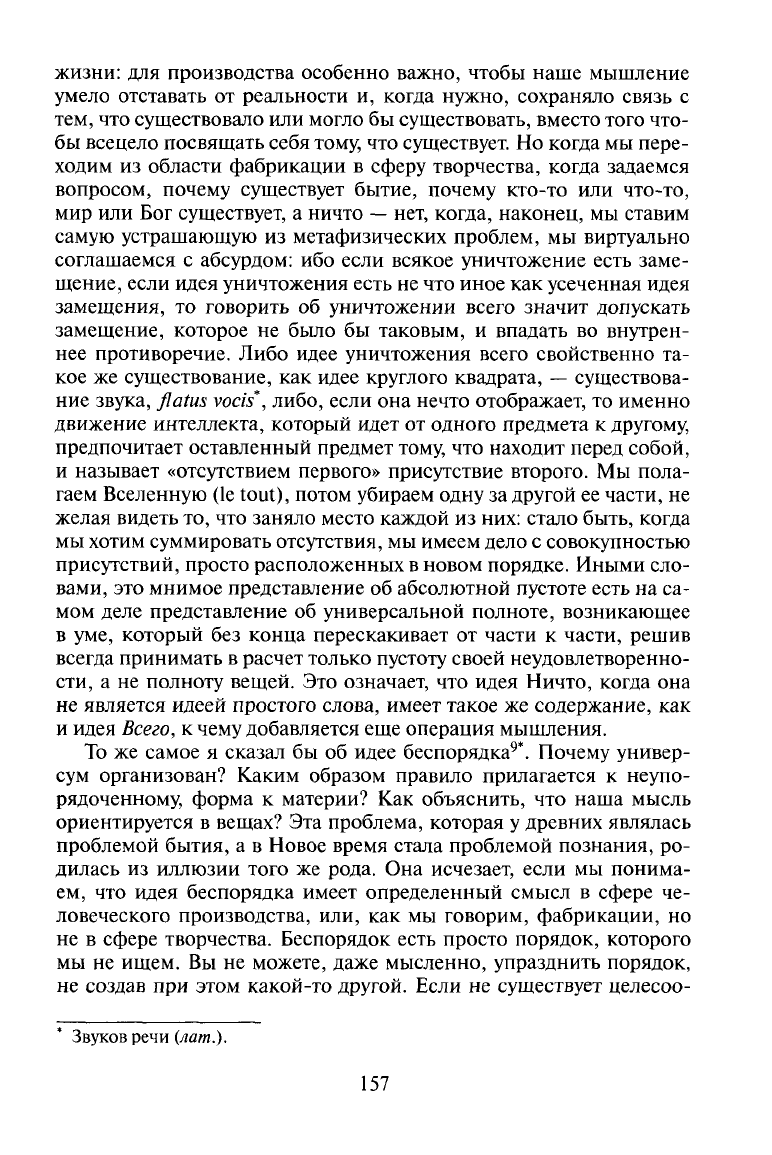
жизни:
для
производства
особенно
важно,
чтобы
наше
мышление
умело
отставать
от
реальности
и,
когда
нужно,
сохраняло
связь
с
тем,
что
существовало
или
могло
бы
существовать,
вместо
того
что
бы
всецело
посвящать
себя
тому,
что
существует.
Но
когда
мы
пере
ходим
из
области
фабрикации
в
сферу
творчества,
когда
задаемся
вопросом,
почему
существует
бытие,
почему
кто-то
или
что-то,
мир
или
Бог
существует,
а
ничто
-
нет,
когда,
наконец,
мы
ставим
самую
устрашающую
из
метафизических
проблем,
мы
виртуально
соглашаемся
с
абсурдом:
ибо
если
всякое
уничтожение
есть
заме
щение,
если
идея
уничтожения
есть
не что
иное
как
усеченная
идея
замещения,
то
говорить
об
уничтожении
всего
значит
допускать
замещение,
которое
не
бьmо
бы
таковым,
и
впадать во
внутрен
нее
противоречие.
Либо
идее
уничтожения
всего
свойственно
та
кое
же
существование,
как
идее
круглого
квадрата,
-
существова
ние
звука,
flatus
vocis*,
либо,
если
она
нечто
отображает,
то
именно
движение
интеллекта,
который
идет
от
одного
предмета
к
другому,
предпочитает
оставленный
предмет
тому,
что
находит
перед
собой,
и
называет
«отсутствием
первого»
присутствие
второго.
Мы
пола
гаем
Вселенную
(le
tout) ,
потом
убираем
одну
за
другой
ее
части,
не
желая
видеть
то,
что
заняло
место
каждой
из
них:
стало
быть,
когда
мы
хотим
суммировать
отсутствия,
мы
имеем
дело
с
совокупностью
присутствий,
просто
расположенных
в
новом
порядке.
Иными
сло
вами,
это
мнимое
представление
об
абсолютной
пустоте
есть
на
са
мом
деле
представление
об
универсальной
полноте,
возникающее
в уме,
который
без
конца
перескакивает
от части
к
части,
решив
всегда
принимать
в
расчет
только
пустоту
своей
неудовлетворенно
сти,
а
не
полноту
вещей.
Это
означает,
что
идея
Ничто,
когда
она
не
является
идеей
простого
слова,
имеет
такое
же
содержание,
как
и
идея
Всего,
к
чему
добавляется
еще
операция
мышления.
То
же
самое
я
сказал
бы
об
идее
беспорядка
9
*.
Почему
универ
сум
организован?
Каким
образом
правило
прилагается
к
неупо
рядоченному,
форма
к
материи?
Как
объяснить,
что
наша
мысль
ориентируется
в
вещах?
Эта
проблема,
которая
у
древних
являлась
проблемой
бытия,
а
в
Новое
время
стала
проблемой
познания,
ро
дилась
из
иллюзии
того
же
рода.
Она
исчезает,
если
мы
понима
ем,
что
идея
беспорядка
имеет
определенный
смысл
в
сфере
че
ловеческого
производства,
или,
как
мы
говорим,
фабрикации,
но
не
в
сфере
творчества.
Беспорядок
есть
просто
порядок,
которого
мы
не
ищем.
Вы
не
можете,
даже
мысленно,
упразднить
порядок,
не
создав
при
этом
какой-то
другой.
Если
не
существует
целесоо-
*
Звуков
речи
(лат.).
157
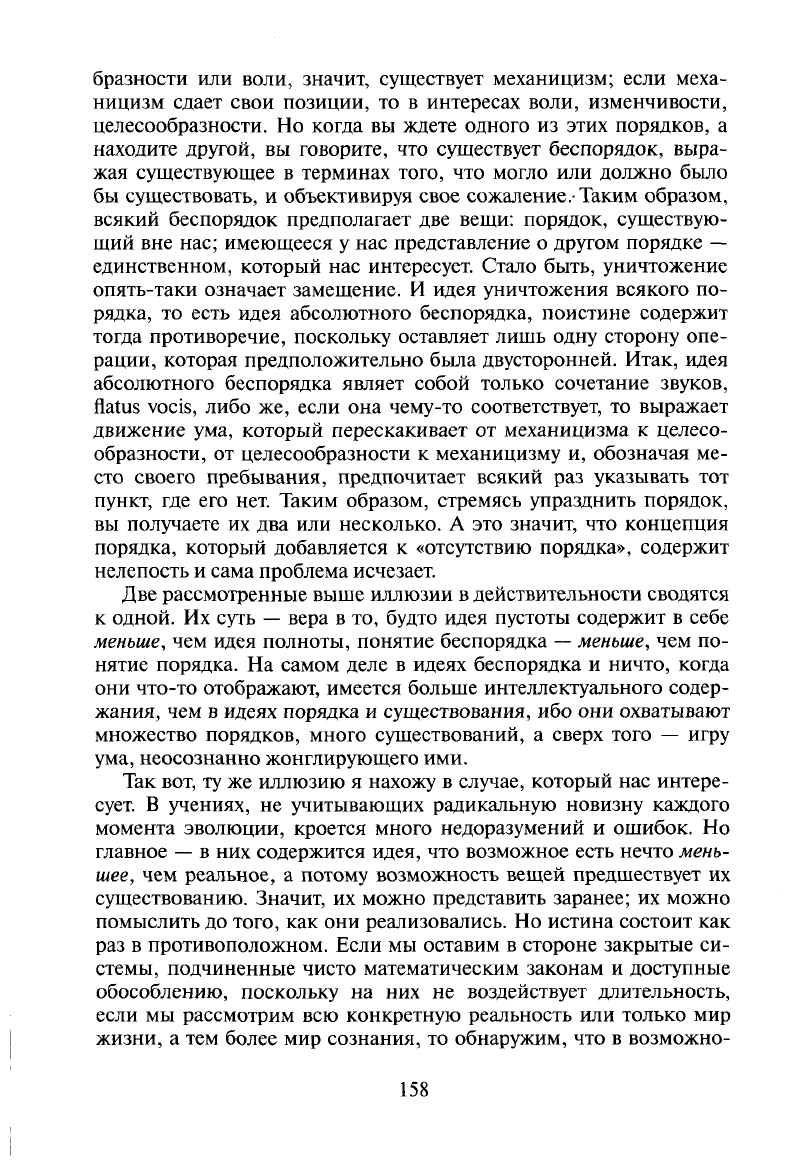
бразности
или
воли,
значит,
существует
механицизм;
если
меха
ницизм
сдает
свои
позиции,
то
в
интересах
воли,
изменчивости,
целесообразности.
Но
когда
вы
ждете
одного
из
этих
порядков,
а
находите
другой,
вы
говорите,
что
существует
беспорядок,
выра
жая
существующее
в
терминах
того,
что
могло
или
должно
бьmо
бы
существовать,
и
объективируя
свое
сожаление.'
Таким
образом,
всякий
беспорядок
предполагает
две
вещи:
порядок,
существую
щий
вне
нас;
имеющееся
у
нас
представление
о
другом
порядке
-
единственном,
который
нас
интересует.
Стало
быть,
уничтожение
опять-таки
означает
замещение.
И
идея
уничтожения
всякого
по
рядка,
то
есть
идея
абсолютного
беспорядка,
поистине содержит
тогда
противоречие,
поскольку
оставляет
лишь
одну
сторону
опе
рации,
которая
предположительно
бьmа
двусторонней.
Итак,
идея
абсолютного
беспорядка
являет
собой
только
сочетание
звуков,
flatus vocis,
либо
же,
если
она
чему-то
соответствует,
то
выражает
движение
ума,
который
перескакивает
от
механицизма
к
целесо
образности,
от
целесообразности
к
механицизму
и,
обозначая
ме
сто
своего
пребывания,
предпочитает
всякий
раз
указывать
тот
пункт,
где его
нет.
Таким
образом,
стремясь
упразднить
порядок,
вы
получаете
их
два
или
несколько.
А
это
значит,
что
концепция
порядка,
который
добавляется
к
«отсутствию
порядка»,
содержит
нелепость
и
сама
проблема
исчезает.
Две
рассмотренные
выше
иллюзии
в
действительности
сводятся
к
одной.
Их
суть
-
вера
в
то,
будто
идея
пустоты
содержит
в
себе
меньше,
чем
идея
полноты,
понятие
беспорядка
-
меньше,
чем
по
нятие
порядка.
На
самом
деле
в
идеях
беспорядка
и
ничто,
когда
они
что-то
отображают,
имеется
больше
интеллектуального
содер
жания,
чем
в
идеях
порядка
и
существования,
ибо
они
охватывают
множество
порядков,
много
существований,
а
сверх
того
-
игру
ума,
неосознанно
жонглирующего
ими.
Так
вот,
ту
же
иллюзию
я
нахожу
в
случае,
который
нас
интере
сует.
В
учениях,
не
учитывающих
радикальную
новизну каждого
момента
эволюции,
кроется
много
недоразумений
и
ошибок.
НО
главное
-
в
них
содержится
идея,
что
возможное
есть
нечто
мень
шее,
чем
реальное,
а
потому
возможность
вещей
предшествует
их
существованию.
Значит,
их
можно
представить
заранее;
их
можно
помыслить
до
того,
как
они
реализовались.
Но
истина
состоит
как
раз
в
противоположном.
Если
мы
оставим
в
стороне
закрытые
си
стемы,
подчиненные
чисто
математическим
законам
и
доступные
обособлению,
поскольку
на
них
не
воздействует
длительность,
если
мы
рассмотрим
всю
конкретную
реальность
или
только
мир
жизни,
а
тем
более
мир
сознания,
то
обнаружим,
что
в
возможно-
158
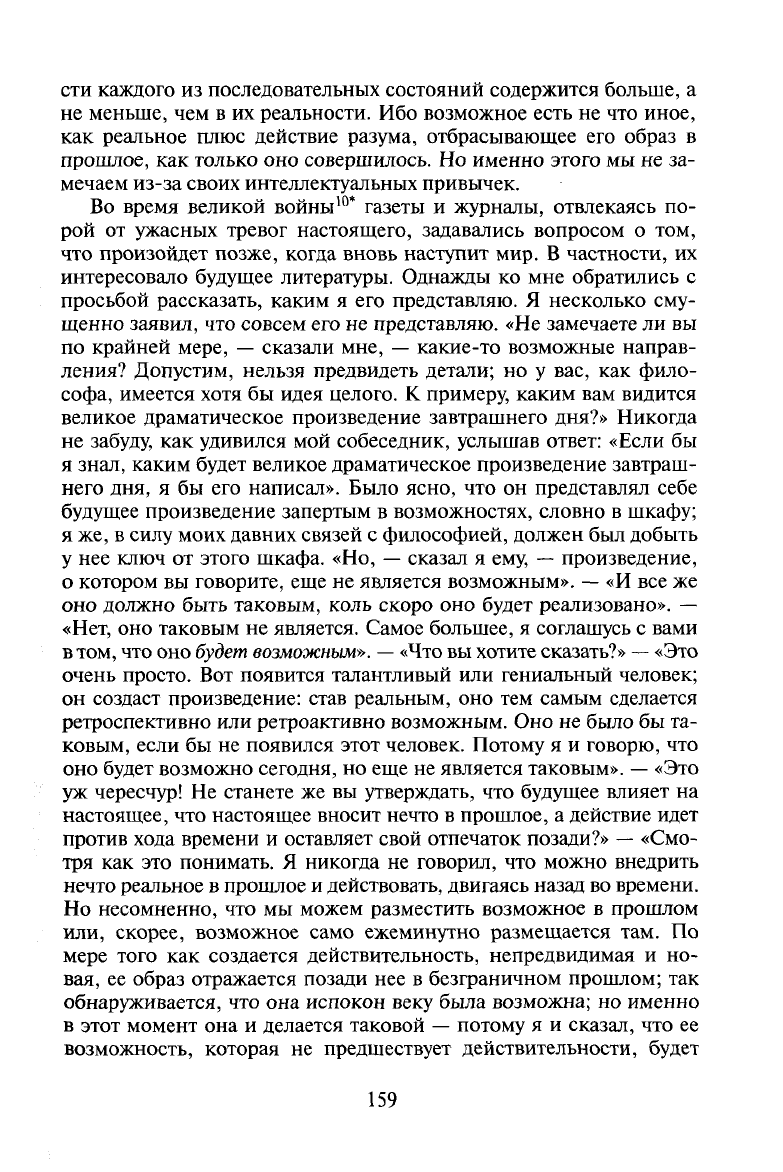
сти
каждого
из
последовательных
состояний
содержится
больше,
а
не
меньше,
чем
в
их
реальности.
Ибо
возможное
есть
не
что
иное,
как
реальное
IUIюс
действие
разума,
отбрасывающее
его
образ
в
прошлое,
как
только
оно
совершилось.
Но
именно
этого
мы
не
за
мечаем
из-за
своих
интеллектуальных
привычек.
Во
время
великой
войны
1О
*
газеты
и
журналы,
отвлекаясь
по
рой
от
ужасных
тревог
настоящего,
задавались
вопросом
о
том,
что
произойдет
позже,
когда
вновь
наступит
мир.
В
частности,
их
интересовало
будущее
литературы.
Однажды
ко
мне
обратились
с
просьбой
рассказать,
каким
я
его
представляю.
Я
несколько
сму
щенно
заявил,
что
совсем
его
не
представляю.
(,Не
замечаете
ли
вы
по
крайней
мере,
-
сказали
мне,
-
какие-то
возможные
направ
ления?
Допустим,
нельзя
предвидеть
детали;
но
у
вас,
как
фило
софа,
имеется
хотя
бы
идея
целого.
К
примеру,
каким
вам
видится
великое
драматическое
произведение
завтрашнего
дня?»
Никогда
не
забуду,
как
удивился
мой
собеседник,
услышав
ответ:
(,Если
бы
я
знал,
каким
будет
великое
драматическое
произведение
завтраш
него
дня,
я
бы
его
написал».
Было
ясно,
что
он
представлял
себе
будущее
произведение
запертым
в
возможностях,
словно
в
шкафу;
я
же,
в
силу
моих
давних
связей
с
философией,
должен
бьш
добыть
у нее
ключ
от
этого
шкафа.
«Но,
-
сказал
я
ему,
-
произведение,
о
котором
вы
говорите,
еще
не
является
возможным».
-
«И
все
же
оно
должно
быть
таковым,
коль
скоро
оно
будет
реализовано».
-
«Нет,
оно
таковым
не
является.
Самое
большее,
я
соглашусь
с
вами
в
том,
что
оно
будет
возможным».
-
«Что
вы
хотите
сказать?»
-
«Это
очень
просто.
Вот
появится
талантливый
или
гениальный
человек;
он
создаст
произведение:
став
реальным,
оно
тем
самым
сделается
ретроспективно
или
ретроактивно
возможным.
Оно
не
было
бы
та
ковым,
если
бы
не
появился
этот
человек.
Потому
я
и
говорю,
что
оно
будет
возможно
сегодня,
но
еще
не
является
таковым».
-
«Это
уж
чересчур!
Не
станете
же
вы
утверждать,
что
будущее
влияет
на
настоящее,
что
настоящее
вносит
нечто
в
прошлое,
а
действие идет
против
хода
времени
и
оставляет
свой
отпечаток
позади?»
-
«Смо
тря
как
это
понимать.
Я
никогда
не
говорил,
что
можно
внедрить
нечто
реальное
в
прошлое
и
действовать,
двигаясь назад во
времени.
Но
несомненно,
что
мы
можем
разместить
возможное
в
прошлом
или,
скорее,
возможное
само
ежеминутно
размещается
там.
По
мере
того
как
создается
действительность,
непредвидимая
и
но
вая, ее
образ
отражается
позади
нее
в
безграничном
прошлом;
так
обнаруживается,
что
она
испокон
веку
была
возможна;
но
именно
в
этот
момент
она
и
делается
таковой
-
потому
я
и
сказал,
что
ее
возможность,
которая
не
предшествует
действительности,
будет
159
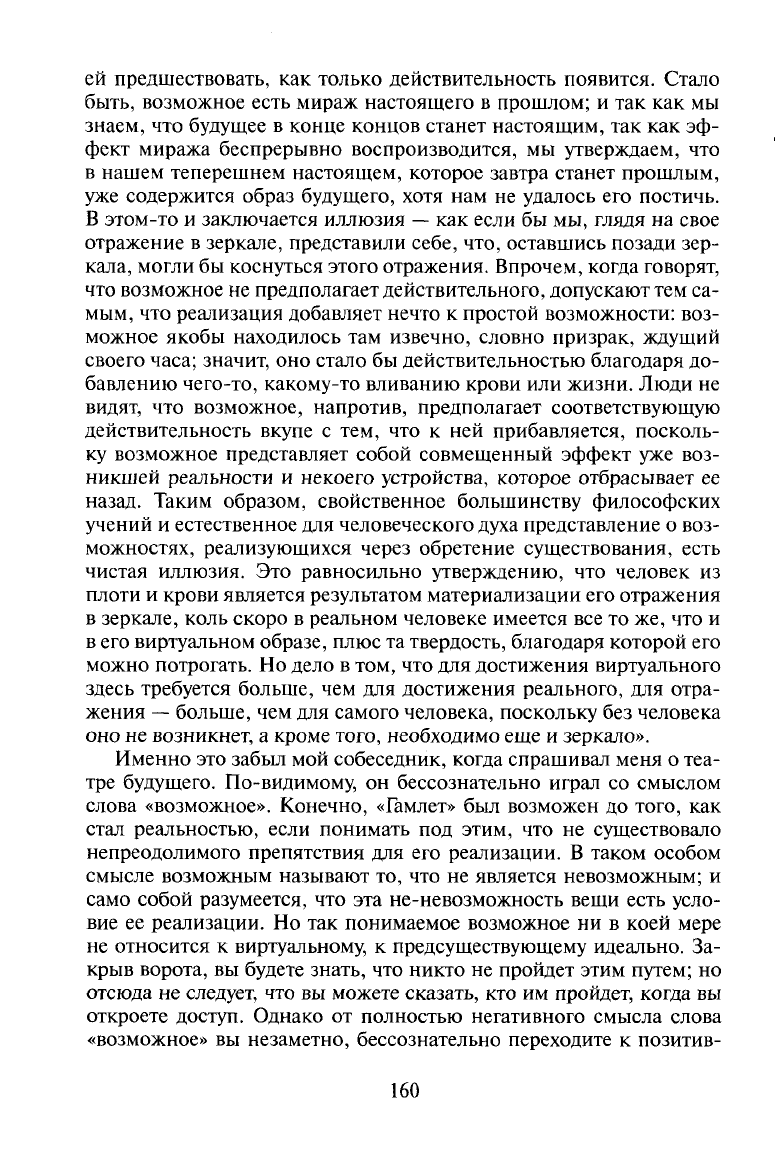
ей
предшествовать,
как
только
действительность
появится.
Стало
быть,
возможное
есть
мираж
настоящего
в
прошлом;
и
так
как
мы
знаем,
что
будущее
в
конце
концов
станет
настоящим,
так
как
эф
фект
миража
беспрерывно
воспроизводится,
мы
утверждаем,
что
в
нашем
теперешнем
настоящем,
которое
завтра
станет
прошлым,
уже
содержится
образ
будущего,
хотя
нам
не
удалось
его
постичь.
В
этом-то
и
заключается
иллюзия
-
как
если
бы
мы,
глядя
на
свое
отражение
в
зеркале,
представили
себе,
что,
оставшись
позади
зер
кала,
могли
бы
коснуться
этого
отражения.
Впрочем,
когда
говорят,
что
возможное
не
предполагает
действительного,
допускают
тем
са
мым,
что
реализация
добавляет
нечто
к
простой
возможности:
воз
можное
якобы
находилось
там
извечно,
словно
призрак,
ждущий
своего
часа;
значит,
оно
стало
бы
действительностью
благодаря
до
бавлению
чего-то,
какому-то
вливанию
крови
или
жизни.
Люди
не
видят,
что
возможное,
напротив,
предполагает
соответствующую
действительность
вкупе
с
тем,
что
к
ней
прибавляется,
посколь
ку
возможное
представляет
собой
совмещенный
эффект
уже
воз
никшей
реальности
и
некоего
устройства,
которое
отбрасывает
ее
назад.
Таким
образом,
свойственное
большинству
философских
учений
и
естественное
для
человеческого
духа
представление
о
воз
можностях,
реализующихся
через
обретение
существования,
есть
чистая
иллюзия.
Это
равносильно
утверждению,
что
человек
из
плоти
и
крови
является
результатом
материализации
его
отражения
в
зеркале,
коль
скоро
в
реальном
человеке
имеется
все
то
же, что
и
в
его
виртуальном
образе,
плюс
та
твердость,
благодаря
которой
его
можно
потрогать.
Но
дело
в
том,
что
для
достижения
виртуального
здесь
требуется
больше,
чем
для
достижения
реального,
для
отра
жения
-
больше,
чем
для
самого
человека,
поскольку
без
человека
оно
не
возникнет,
а
кроме
того,
необходимо
еще
и
зеркало».
Именно
это
забьm
мой
собеседник,
когда
спрашивал
меня
о
теа
тре
будущего.
По-видимому,
он
бессознательно
играл
со
смыслом
слова
«возможное».
Конечно,
«Гамлет»
бьm
возможен
до
того,
как
стал
реальностью,
если
понимать
под
этим,
что
не
существовало
непреодолимого
препятствия
для
его
реализации.
В
таком
особом
смысле
возможным
называют
то,
что
не
является
невозможным;
и
само
собой
разумеется,
что
эта
не-невозможность
вещи
есть
усло
вие
ее
реализации.
Но
так
понимаемое
возможное
ни
в
коей
мере
не
относится
к
виртуальному,
к
предсуществующему
идеально.
За
крыв
ворота,
вы
будете
знать,
что
никто
не
пройдет
этим
путем;
но
отсюда
не
следует,
что
вы
можете
сказать,
кто
им
ПРОЙдет,
когда
вы
откроете
доступ.
Однако
от
полностью
негативного
смысла
слова
«возможное»
вы
незаметно,
бессознательно
переходите
к
позитив-
160
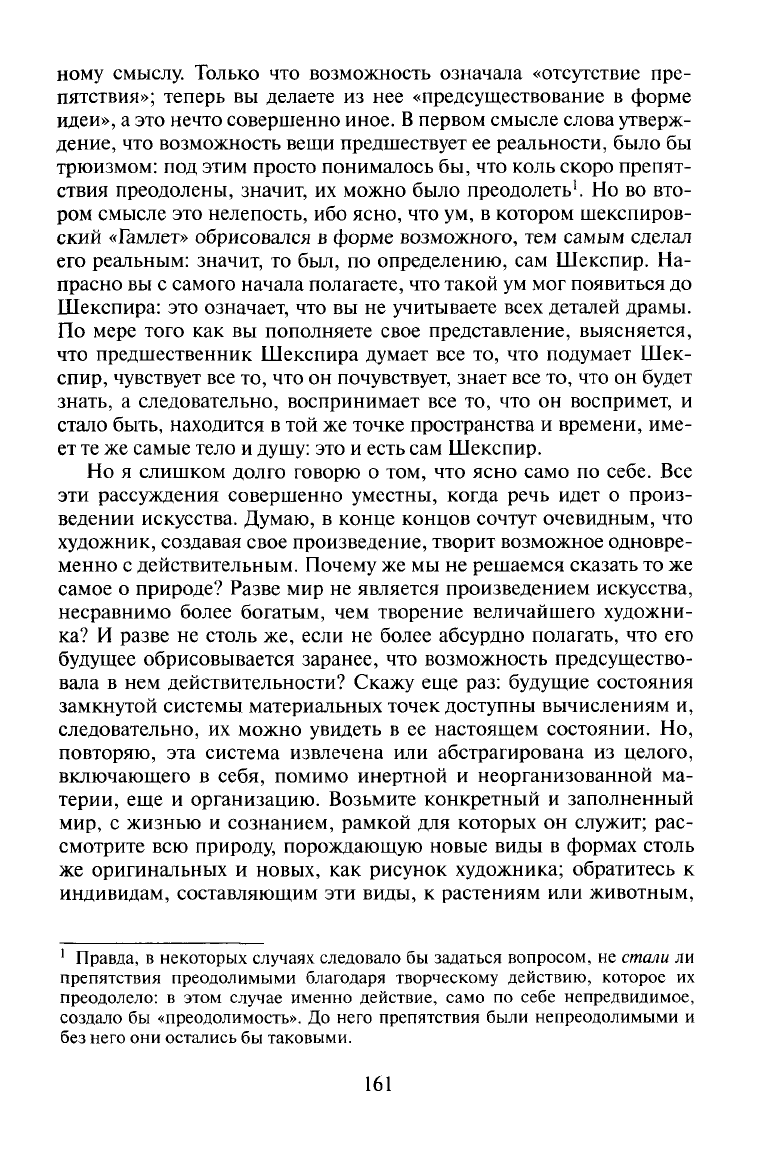
ному
смыслу.
Только
что
возможность
означала
«отсутствие
пре
пятствия»;
теперь
вы
делаете
из
нее
«предсуществование
В
форме
идею>,
а
это
нечто
совершенно
иное.
В
первом
смысле
слова
утверж
дение,
что
возможность
вещи
предшествует
ее
реальности,
было
бы
трюизмом:
под
этим
просто
понималось
бы,
что
коль
скоро
препят
ствия
преодолены,
значит,
их
можно
было
преодолеты
l
.
Но
во
вто
ром
смысле
это
нелепость,
ибо
ясно,
что
ум,
в
котором
шекспиров
ский
«Гамлет»
обрисовался
в
форме
возможного,
тем
самым
сделал
его
реальным:
значит,
то
был,
по
определению,
сам
Шекспир.
На
прасно
вы
с
самого
начала
полагаете,
что
такой
ум
мог
появиться
до
Шекспира:
это
означает,
что
вы
не
учитываете
всех
деталей
драмы.
По
мере
того
как
вы
пополняете
свое
представление,
выясняется,
что
предшественник
Шекспира
думает
все
то,
что
подумает
Шек
спир,
чувствует
все
то,
что
он
почувствует,
знает
все
то,
что
он
будет
знать,
а
следовательно,
воспринимает
все
то,
что
он
воспримет,
и
стало
быть,
находится
в
той
же
точке
пространства
и
времени,
име
ет
те
же
самые
тело
и
душу:
это
и
есть
сам
Шекспир.
Но
я
слишком
долго
говорю
о
том,
что
ясно
само по
себе.
Все
эти
рассуждения
совершенно
уместны,
когда
речь
идет
о
про
из
ведении
искусства.
Думаю,
в
конце
концов
сочтут
очевидным,
что
художник,
создавая
свое
произведение,
творит
возможное
одновре
менно
с
действительным.
Почему же
мы
не
решаемся
сказать
то
же
самое
о
природе?
Разве
мир
не
является
произведением
искусства,
несравнимо
более
богатым,
чем
творение
величайшего
художни
ка?
И
разве
не
столь
же,
если
не
более
абсурдно
полагать,
что
его
будущее
обрисовывается
заранее,
что
возможность
предсущество
вала
в
нем
действительности?
Скажу
еще
раз:
будущие
состояния
замкнутой
системы
материальных
точек
доступны
вычислениям
и,
следовательно,
их
можно
увидеть
в
ее
настоящем
состоянии.
Но,
повторяю,
эта
система
извлечена
или
абстрагирована
из
целого,
включающего
в себя,
помимо
инертной
и
неорганизованной
ма
терии,
еще
и
организацию.
Возьмите
конкретный
и
заполненный
мир,
с
жизнью
и
сознанием,
рамкой
для
которых
он
служит;
рас
смотрите
всю
природу,
порождающую
новые
виды
в
формах
столь
же
оригинальных
и
новых,
как
рисунок
художника;
обратитесь
к
индивидам,
составляющим
эти
виды,
к
растениям
или
животным,
1
Правда,
в
некоторых
случаях
следовало
бы
задаться
вопросом,
не
стали
ли
препятствия
преодолимыми
благодаря
творческому
действию,
которое
их
преодолело:
в
этом
случае
именно
действие,
само по
себе
непредвидимое,
создало
бы
<<преодолимость».
До
него
препятствия
были
непреодолимыми
и
без
него
они
остались
бы
таковыми.
161
