Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе
Подождите немного. Документ загружается.

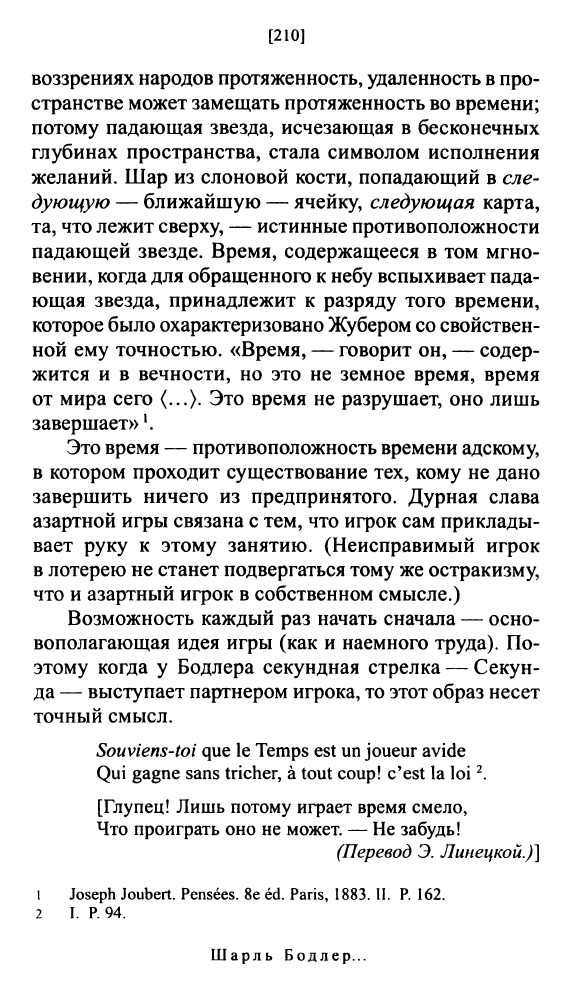
воззрениях народов протяженность, удаленность в про-
странстве может замещать протяженность во времени;
потому падающая звезда, исчезающая в бесконечных
глубинах пространства, стала символом исполнения
желаний. Шар из слоновой кости, попадающий в сле-
дующую — ближайшую — ячейку, следующая карта,
та, что лежит сверху, — истинные противоположности
падающей звезде. Время, содержащееся в том мгно-
вении, когда для обращенного к небу вспыхивает пада-
ющая звезда, принадлежит к разряду того времени,
которое было охарактеризовано Жубером со свойствен-
ной ему точностью. «Время, — говорит он, — содер-
жится и в вечности, но это не земное время, время
от мира сего (...). Это время не разрушает, оно лишь
завершает»
Это время — противоположность времени адскому,
в котором проходит существование тех, кому не дано
завершить ничего из предпринятого. Дурная слава
азартной игры связана с тем, что игрок сам приклады-
вает руку к этому занятию. (Неисправимый игрок
в лотерею не станет подвергаться тому же остракизму,
что и азартный игрок в собственном смысле.)
Возможность каждый раз начать сначала — осно-
вополагающая идея игры (как и наемного труда). По-
этому когда у Бодлера секундная стрелка — Секун-
да — выступает партнером игрока, то этот образ несет
точный смысл.
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, a tout coup!
c'est
la loi
2
.
[Глупец! Лишь потому играет время смело,
Что проиграть оно не может. — Не забудь!
(Перевод Э. Липецкой.)]
1
Joseph Joubert. Pensees. 8е ed. Paris, 1883. II. P. 162.
2 I. P. 94.
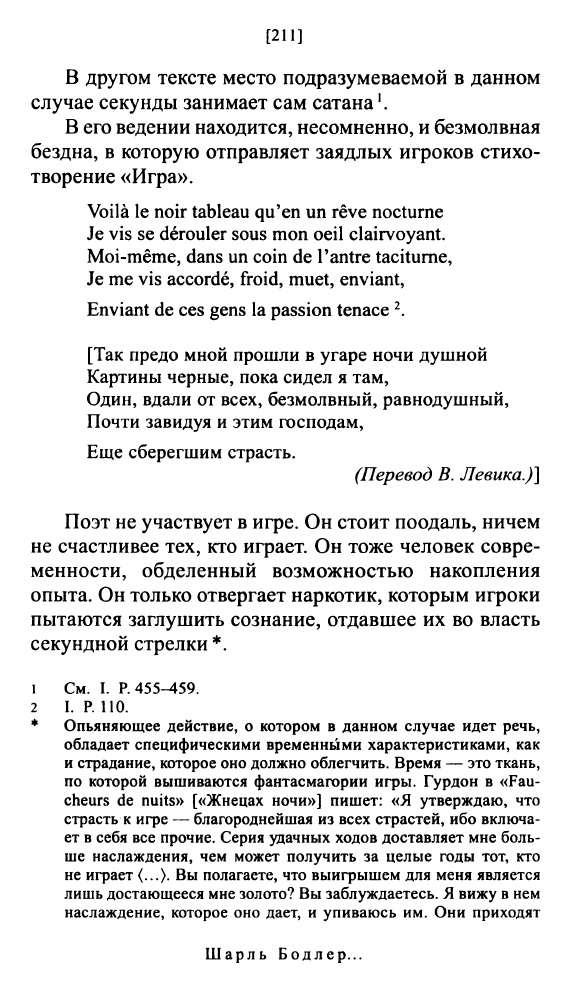
В другом тексте место подразумеваемой в данном
случае секунды занимает сам сатана
]
.
В его ведении находится, несомненно, и безмолвная
бездна, в которую отправляет заядлых игроков стихо-
творение «Игра».
Voila le noir tableau qu'en un reve nocturne
Je vis se derouler sous mon oeil clairvoyant.
Moi-meme, dans un coin de l'antre taciturne,
Je me vis accorde, froid, muet, enviant,
Enviant de ces gens la passion tenace
2
.
[Так предо мной прошли в угаре ночи душной
Картины черные, пока сидел я там,
Один, вдали от всех, безмолвный, равнодушный,
Почти завидуя и этим господам,
Еще сберегшим страсть.
(Перевод В. Левша.)]
Поэт не участвует в игре. Он стоит поодаль, ничем
не счастливее тех, кто играет. Он тоже человек совре-
менности, обделенный возможностью накопления
опыта. Он только отвергает наркотик, которым игроки
пытаются заглушить сознание, отдавшее их во власть
секундной стрелки *.
1
См. I. Р. 455-459.
2 I. Р. ПО.
* Опьяняющее действие, о котором в данном случае идет речь,
обладает специфическими временными характеристиками, как
и страдание, которое оно должно облегчить. Время — это ткань,
по которой вышиваются фантасмагории игры. Гурдон в «Fau-
cheurs de nuits» [«Жнецах ночи»] пишет: «Я утверждаю, что
страсть к игре — благороднейшая из всех страстей, ибо включа-
ет в себя все прочие. Серия удачных ходов доставляет мне боль-
ше наслаждения, чем может получить за целые годы тот, кто
не играет (...). Вы полагаете, что выигрышем для меня является
лишь достающееся мне золото? Вы заблуждаетесь. Я вижу в нем
наслаждение, которое оно дает, и упиваюсь им. Они приходят
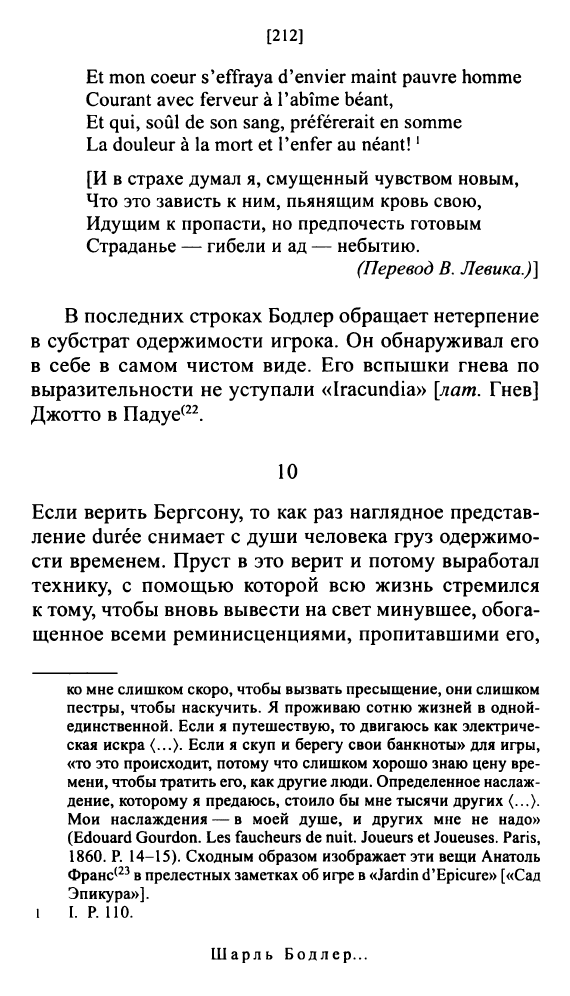
10
Если верить Бергсону, то как раз наглядное представ-
ление duree снимает с души человека груз одержимо-
сти временем. Пруст в это верит и потому выработал
технику, с помощью которой всю жизнь стремился
к тому, чтобы вновь вывести на свет минувшее, обога-
щенное всеми реминисценциями, пропитавшими его,
ко мне слишком скоро, чтобы вызвать пресыщение, они слишком
пестры, чтобы наскучить. Я проживаю сотню жизней в одной-
единственной. Если я путешествую, то двигаюсь как электриче-
ская искра (...). Если я скуп и берегу свои банкноты» для игры,
«то это происходит, потому что слишком хорошо знаю цену вре-
мени, чтобы тратить его, как другие люди. Определенное наслаж-
дение, которому я предаюсь, стоило бы мне тысячи других (...).
Мои наслаждения — в моей душе, и других мне не надо»
(Edouard Gourdon. Les faucheurs de nuit. Joueurs et Joueuses. Paris,
1860.
P. 14-15). Сходным образом изображает эти вещи Анатоль
Франс*
23
в прелестных заметках об игре в «Jardin d'Epicure» [«Сад
Эпикура»].
1
I. Р. 110.
Et mon coeur s'effraya d'envier maint pauvre homme
Courant avec ferveur a Tabime beant,
Et qui, soul de son sang, prefererait en somme
La douleur a la mort et Fenfer au neant!
1
[И в страхе думал я, смущенный чувством новым,
Что это зависть к ним, пьянящим кровь свою,
Идущим к пропасти, но предпочесть готовым
Страданье — гибели и ад — небытию.
(Перевод В. Левит.)]
В последних строках Бодлер обращает нетерпение
в субстрат одержимости игрока. Он обнаруживал его
в себе в самом чистом виде. Его вспышки гнева по
выразительности не уступали «Iracundia» [лат. Гнев]
Джотто в Падуе
(22
.
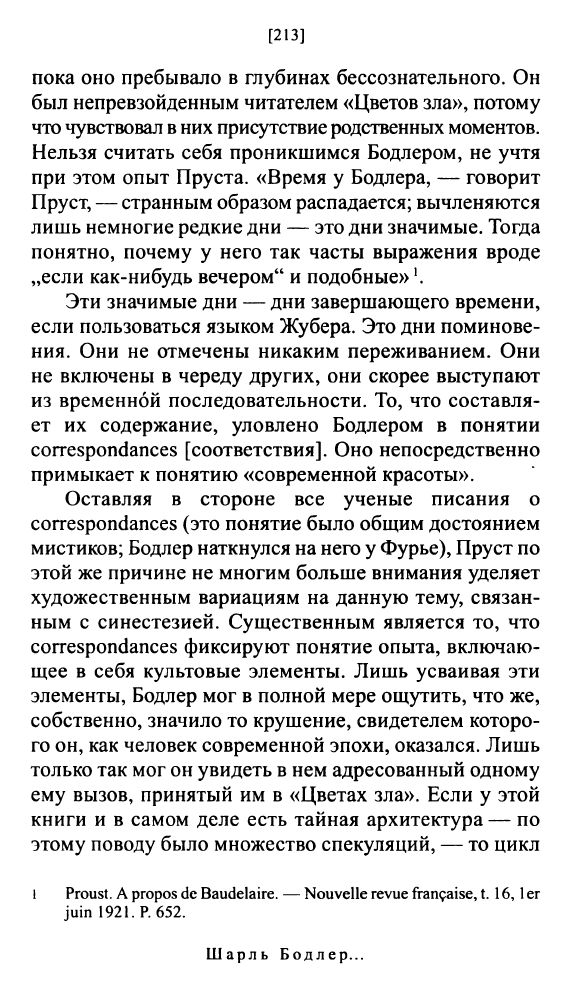
пока оно пребывало в глубинах бессознательного. Он
был непревзойденным читателем «Цветов зла», потому
что чувствовал в них присутствие родственных моментов.
Нельзя считать себя проникшимся Бодлером, не учтя
при этом опыт Пруста. «Время у Бодлера, — говорит
Пруст, — странным образом распадается; вычленяются
лишь немногие редкие дни — это дни значимые. Тогда
понятно, почему у него так часты выражения вроде
„если как-нибудь вечером" и подобные»
1
.
Эти значимые дни — дни завершающего времени,
если пользоваться языком Жубера. Это дни поминове-
ния. Они не отмечены никаким переживанием. Они
не включены в череду других, они скорее выступают
из временной последовательности. То, что составля-
ет их содержание, уловлено Бодлером в понятии
correspondances [соответствия]. Оно непосредственно
примыкает к понятию «современной красоты».
Оставляя в стороне все ученые писания о
correspondances (это понятие было общим достоянием
мистиков; Бодлер наткнулся на него у Фурье), Пруст по
этой же причине не многим больше внимания уделяет
художественным вариациям на данную тему, связан-
ным с синестезией. Существенным является то, что
correspondances фиксируют понятие опыта, включаю-
щее в себя культовые элементы. Лишь усваивая эти
элементы, Бодлер мог в полной мере ощутить, что же,
собственно, значило то крушение, свидетелем которо-
го он, как человек современной эпохи, оказался. Лишь
только так мог он увидеть в нем адресованный одному
ему вызов, принятый им в «Цветах зла». Если у этой
книги и в самом деле есть тайная архитектура — по
этому поводу было множество спекуляций, — то цикл
1
Proust. A propos de Baudelaire. — Nouvelle revue francaise, t. 16,1 er
juin 1921. P. 652.
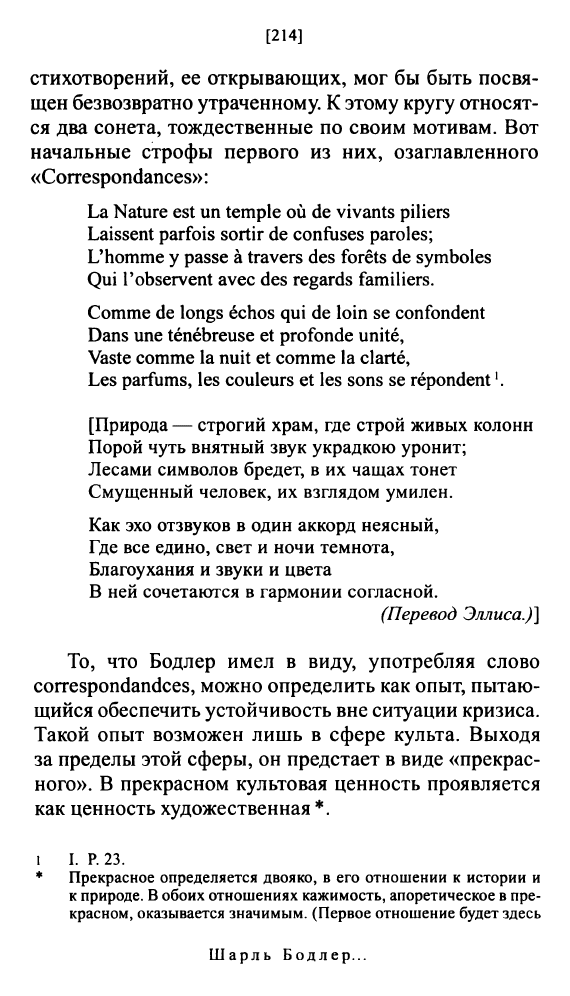
стихотворений, ее открывающих, мог бы быть посвя-
щен безвозвратно утраченному. К этому кругу относят-
ся два сонета, тождественные по своим мотивам. Вот
начальные строфы первого из них, озаглавленного
«Correspondances»:
La Nature est un temple ou de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme у passe a travers des forets de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs echos qui de loin se confondent
Dans une tenebreuse et profonde unite,
Vaste comme la nuit et comme la clarte,
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent
[Природа — строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания и звуки и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.
(Перевод Эллиса.)]
То,
что Бодлер имел в виду, употребляя слово
correspondandces, можно определить как опыт, пытаю-
щийся обеспечить устойчивость вне ситуации кризиса.
Такой опыт возможен лишь в сфере культа. Выходя
за пределы этой сферы, он предстает в виде «прекрас-
ного». В прекрасном культовая ценность проявляется
как ценность художественная *.
1 I. Р. 23.
* Прекрасное определяется двояко, в его отношении к истории и
к природе. В обоих отношениях кажимость, апоретическое в пре-
красном, оказывается значимым. (Первое отношение будет здесь
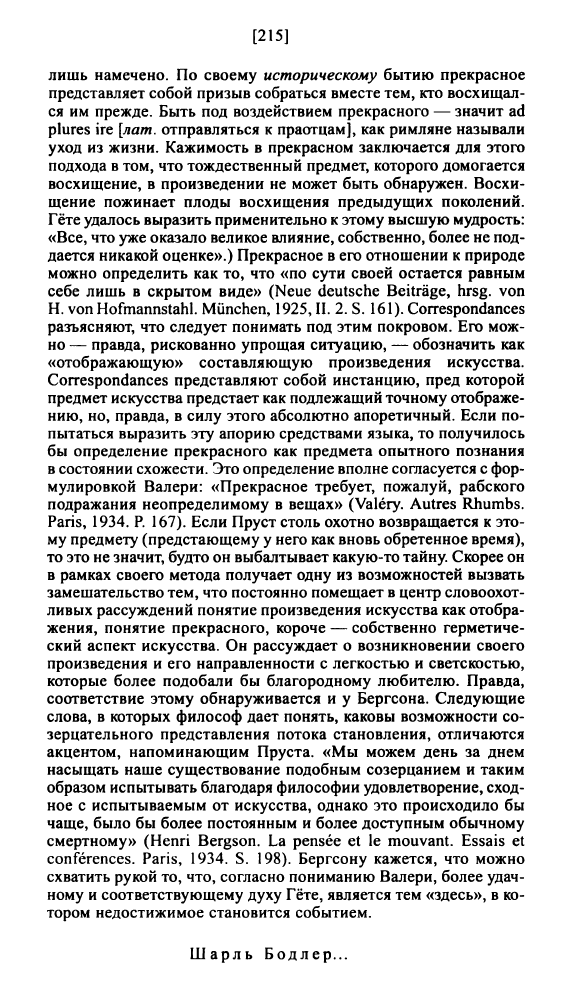
лишь намечено. По своему историческому бытию прекрасное
представляет собой призыв собраться вместе тем, кто восхищал-
ся им прежде. Быть под воздействием прекрасного — значит ad
plures ire [лат. отправляться к праотцам], как римляне называли
уход из жизни. Кажимость в прекрасном заключается для этого
подхода в том, что тождественный предмет, которого домогается
восхищение, в произведении не может быть обнаружен. Восхи-
щение пожинает плоды восхищения предыдущих поколений.
Гёте удалось выразить применительно
к
этому высшую мудрость:
«Все, что уже оказало великое влияние, собственно, более не под-
дается никакой оценке».) Прекрасное в его отношении к природе
можно определить как то, что «по сути своей остается равным
себе лишь в скрытом виде» (Neue deutsche Beitrage, hrsg. von
H. von Hofmannstahl. Munchen, 1925, II. 2. S. 161). Correspondances
разъясняют, что следует понимать под этим покровом. Его мож-
но — правда, рискованно упрощая ситуацию, — обозначить как
«отображающую» составляющую произведения искусства.
Correspondances представляют собой инстанцию, пред которой
предмет искусства предстает как подлежащий точному отображе-
нию,
но, правда, в силу этого абсолютно апоретичный. Если по-
пытаться выразить эту апорию средствами языка, то получилось
бы определение прекрасного как предмета опытного познания
в состоянии схожести. Это определение вполне согласуется с фор-
мулировкой Валери: «Прекрасное требует, пожалуй, рабского
подражания неопределимому в вещах» (Valery. Autres Rhumbs.
Paris,
1934. P. 167). Если Пруст столь охотно возвращается к это-
му предмету (предстающему у него как вновь обретенное время),
то это не значит, будто он выбалтывает какую-то тайну. Скорее он
в рамках своего метода получает одну из возможностей вызвать
замешательство тем, что постоянно помещает в центр словоохот-
ливых рассуждений понятие произведения искусства как отобра-
жения, понятие прекрасного, короче — собственно герметиче-
ский аспект искусства. Он рассуждает о возникновении своего
произведения и его направленности с легкостью и светскостью,
которые более подобали бы благородному любителю. Правда,
соответствие этому обнаруживается и у Бергсона. Следующие
слова, в которых философ дает понять, каковы возможности со-
зерцательного представления потока становления, отличаются
акцентом, напоминающим Пруста. «Мы можем день за днем
насыщать наше существование подобным созерцанием и таким
образом испытывать благодаря философии удовлетворение, сход-
ное с испытываемым от искусства, однако это происходило бы
чаще, было бы более постоянным и более доступным обычному
смертному» (Henri Bergson. La pensee et le mouvant. Essais et
conferences. Paris, 1934. S. 198). Бергсону кажется, что можно
схватить рукой то, что, согласно пониманию Валери, более удач-
ному и соответствующему духу Гёте, является тем «здесь», в ко-
тором недостижимое становится событием.
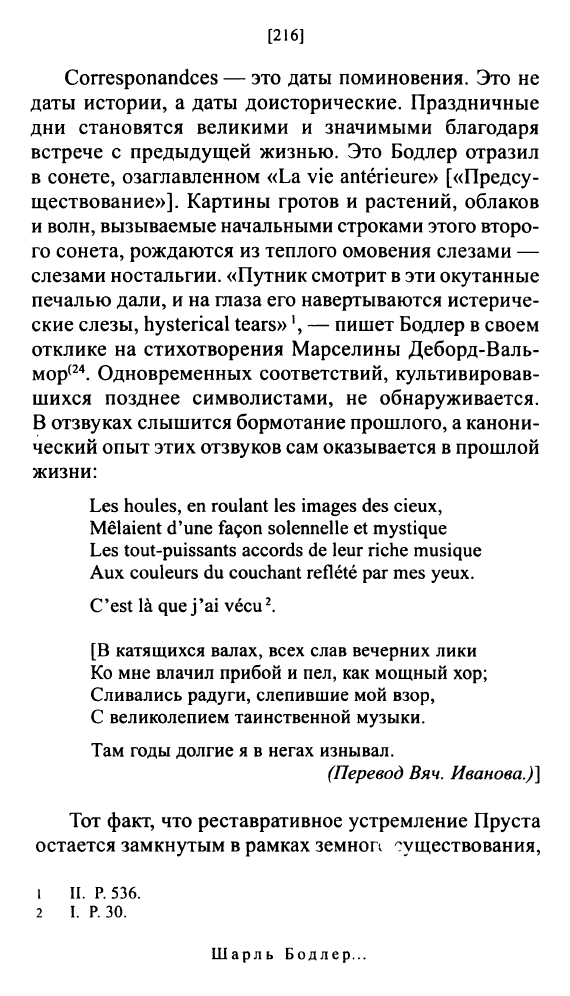
Corresponandces — это даты поминовения. Это не
даты истории, а даты доисторические. Праздничные
дни становятся великими и значимыми благодаря
встрече с предыдущей жизнью. Это Бодлер отразил
в сонете, озаглавленном «La vie anterieure» [«Предсу-
ществование»]. Картины гротов и растений, облаков
и волн, вызываемые начальными строками этого второ-
го сонета, рождаются из теплого омовения слезами —
слезами ностальгии. «Путник смотрит в эти окутанные
печалью дали, и на глаза его навертываются истериче-
ские слезы, hysterical tears» \ — пишет Бодлер в своем
отклике на стихотворения Марселины Деборд-Валь-
мор
(24
.
Одновременных соответствий, культивировав-
шихся позднее символистами, не обнаруживается.
В отзвуках слышится бормотание прошлого, а канони-
ческий опыт этих отзвуков сам оказывается в прошлой
жизни:
Les houles, en roulant les images des cieux,
Melaient
d'une
facon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflete par mes yeux.
C'est
la que j'ai vecu
2
.
[В катящихся валах, всех слав вечерних лики
Ко мне влачил прибой и пел, как мощный хор;
Сливались радуги, слепившие мой взор,
С великолепием таинственной музыки.
Там годы долгие я в негах изнывал.
(Перевод Вяч. Иванова.)]
Тот факт, что реставративное устремление Пруста
остается замкнутым в рамках земноп существования,
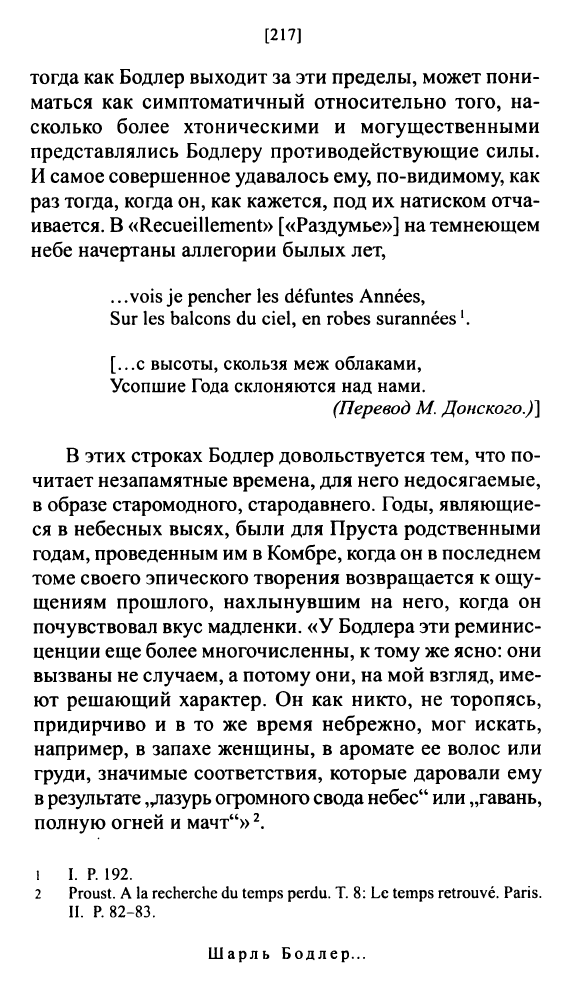
тогда как Бодлер выходит за эти пределы, может пони-
маться как симптоматичный относительно того, на-
сколько более хтоническими и могущественными
представлялись Бодлеру противодействующие силы.
И самое совершенное удавалось ему, по-видимому, как
раз тогда, когда он, как кажется, под их натиском отча-
ивается. В «Recueillement» [«Раздумье»] на темнеющем
небе начертаны аллегории былых лет,
...vois je pencher les defuntes Annees,
Sur les balcons du ciel, en robes surannees
[...с высоты, скользя меж облаками,
Усопшие Года склоняются над нами.
(Перевод М. Донского.)]
В этих строках Бодлер довольствуется тем, что по-
читает незапамятные времена, для него недосягаемые,
в образе старомодного, стародавнего. Годы, являющие-
ся в небесных высях, были для Пруста родственными
годам, проведенным им в Комбре, когда он в последнем
томе своего эпического творения возвращается к ощу-
щениям прошлого, нахлынувшим на него, когда он
почувствовал вкус мадленки. «У Бодлера эти реминис-
ценции еще более многочисленны, к тому же ясно: они
вызваны не случаем, а потому они, на мой взгляд, име-
ют решающий характер. Он как никто, не торопясь,
придирчиво и в то же время небрежно, мог искать,
например, в запахе женщины, в аромате ее волос или
груди, значимые соответствия, которые даровали ему
в результате „лазурь огромного свода небес" или „гавань,
полную огней и мачт"»
2
.
1 I. Р. 192.
2
Proust. A la recherche du temps perdu. Т. 8: Le temps retrouve. Paris.
II.
P. 82-83.
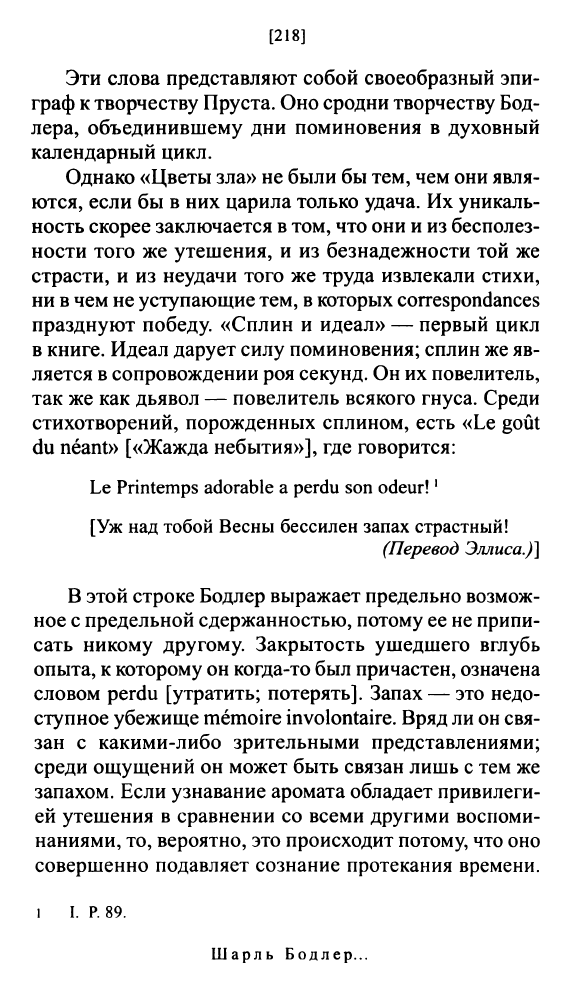
Эти слова представляют собой своеобразный эпи-
граф к творчеству Пруста. Оно сродни творчеству Бод-
лера, объединившему дни поминовения в духовный
календарный цикл.
Однако «Цветы зла» не были бы тем, чем они явля-
ются, если бы в них царила только удача. Их уникаль-
ность скорее заключается в том, что они и из бесполез-
ности того же утешения, и из безнадежности той же
страсти, и из неудачи того же труда извлекали стихи,
ни в чем не уступающие тем, в которых correspondances
празднуют победу. «Сплин и идеал» — первый цикл
в книге. Идеал дарует силу поминовения; сплин же яв-
ляется в сопровождении роя секунд. Он их повелитель,
так же как дьявол — повелитель всякого гнуса. Среди
стихотворений, порожденных сплином, есть «Le gout
du neant» [«Жажда небытия»], где говорится:
Le Printemps adorable a perdu son odeur!
1
[Уж над тобой Весны бессилен запах страстный!
(Перевод
Эллиса.)]
В этой строке Бодлер выражает предельно возмож-
ное с предельной сдержанностью, потому ее не припи-
сать никому другому. Закрытость ушедшего вглубь
опыта, к которому он когда-то был причастен, означена
словом perdu [утратить; потерять]. Запах — это недо-
ступное убежище memoire involontaire. Вряд ли он свя-
зан с какими-либо зрительными представлениями;
среди ощущений он может быть связан лишь с тем же
запахом. Если узнавание аромата обладает привилеги-
ей утешения в сравнении со всеми другими воспоми-
наниями, то, вероятно, это происходит потому, что оно
совершенно подавляет сознание протекания времени.
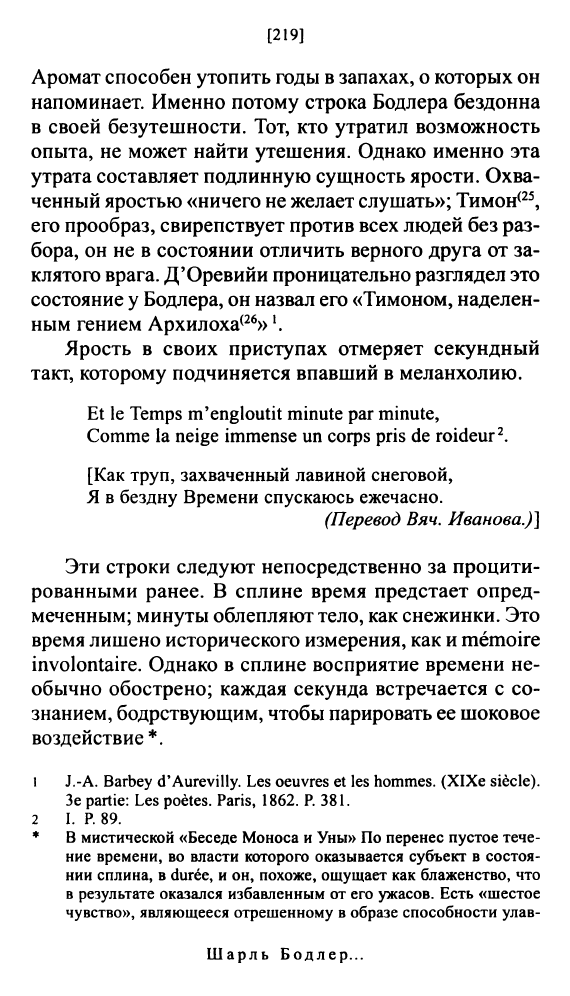
Аромат способен утопить годы в запахах, о которых он
напоминает. Именно потому строка Бодлера бездонна
в своей безутешности. Тот, кто утратил возможность
опыта, не может найти утешения. Однако именно эта
утрата составляет подлинную сущность ярости. Охва-
ченный яростью «ничего не желает слушать»; Тимон
(25
,
его прообраз, свирепствует против всех людей без раз-
бора, он не в состоянии отличить верного друга от за-
клятого врага. Д'Оревийи проницательно разглядел это
состояние у Бодлера, он назвал его «Тимоном, наделен-
ным гением Архилоха
(26
»
1
.
Ярость в своих приступах отмеряет секундный
такт, которому подчиняется впавший в меланхолию.
Et le Temps m'engloutit minute par minute,
Comme la neige immense un corps pris de roideur
2
.
[Как труп, захваченный лавиной снеговой,
Я
в бездну Времени спускаюсь ежечасно.
(Перевод Вяч. Иванова.)]
Эти строки следуют непосредственно за процити-
рованными ранее. В сплине время предстает опред-
меченным; минуты облепляют тело, как снежинки. Это
время лишено исторического измерения, как и memoire
involontaire. Однако в сплине восприятие времени не-
обычно обострено; каждая секунда встречается с со-
знанием, бодрствующим, чтобы парировать ее шоковое
воздействие*.
1
J.-A. Barbey d'Aurevilly. Les oeuvres et les hommes. (XIXe siecle).
3e partie: Les poetes. Paris, 1862. P. 381.
2 I. P. 89.
* В мистической «Беседе Моноса и Уны» По перенес пустое тече-
ние времени, во власти которого оказывается субъект в состоя-
нии сплина, в duree, и он, похоже, ощущает как блаженство, что
в результате оказался избавленным от его ужасов. Есть «шестое
чувство», являющееся отрешенному в образе способности улав-
