Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства
Подождите немного. Документ загружается.

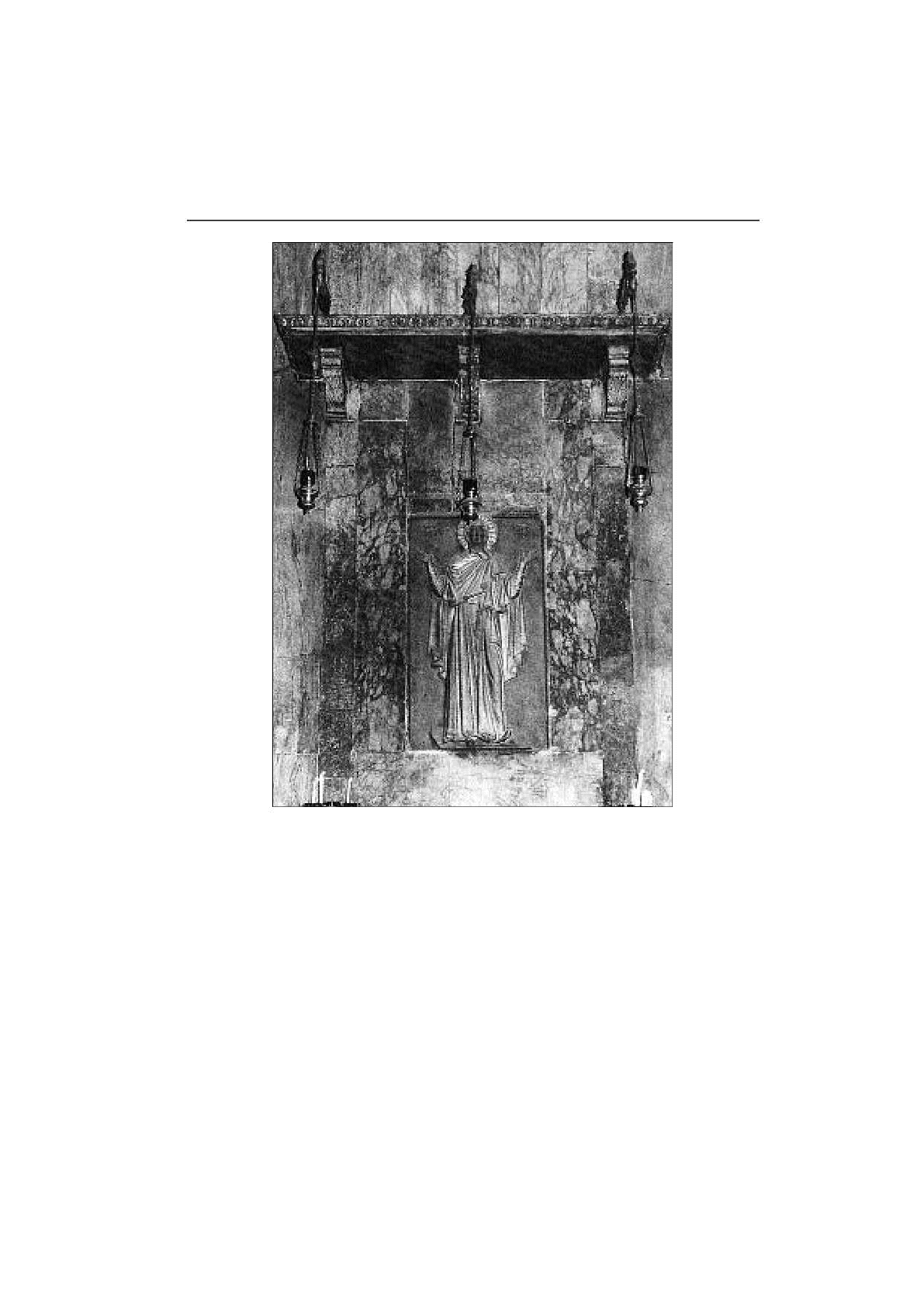
232 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции
120. «Madonna delle grazie». XI в. Венеция, Сан-Марко
вторен в новой апсидной мозаике и дополнен надписями, в которых Богома-
терь молит божественного сына о помощи
54
.
Этот экскурс дает возможность познакомиться со значением влахернских
икон в убранстве Сан-Марко. Их большое количество указывает на то, что
они служили различным социальным группам и объединениям как культо-
вые образы. Среди четырех икон в трансепте и в Западном рукаве церкви
120 особенно выделяется так называемая «Madonna delle grazie», находящаяся
вблизи северной стороны западного портала. Она привезена из Византии,
была здесь вставлена в стену и целиком позолочена. Киворий на консолях
служит опорой для лампад, которые на них закреплены и свисают перед
иконой
55
.
Многообразие икон противостояло закону серийности, ибо каждый образ
имел собственную историю и обладал собственной компетенцией. В этой ин-
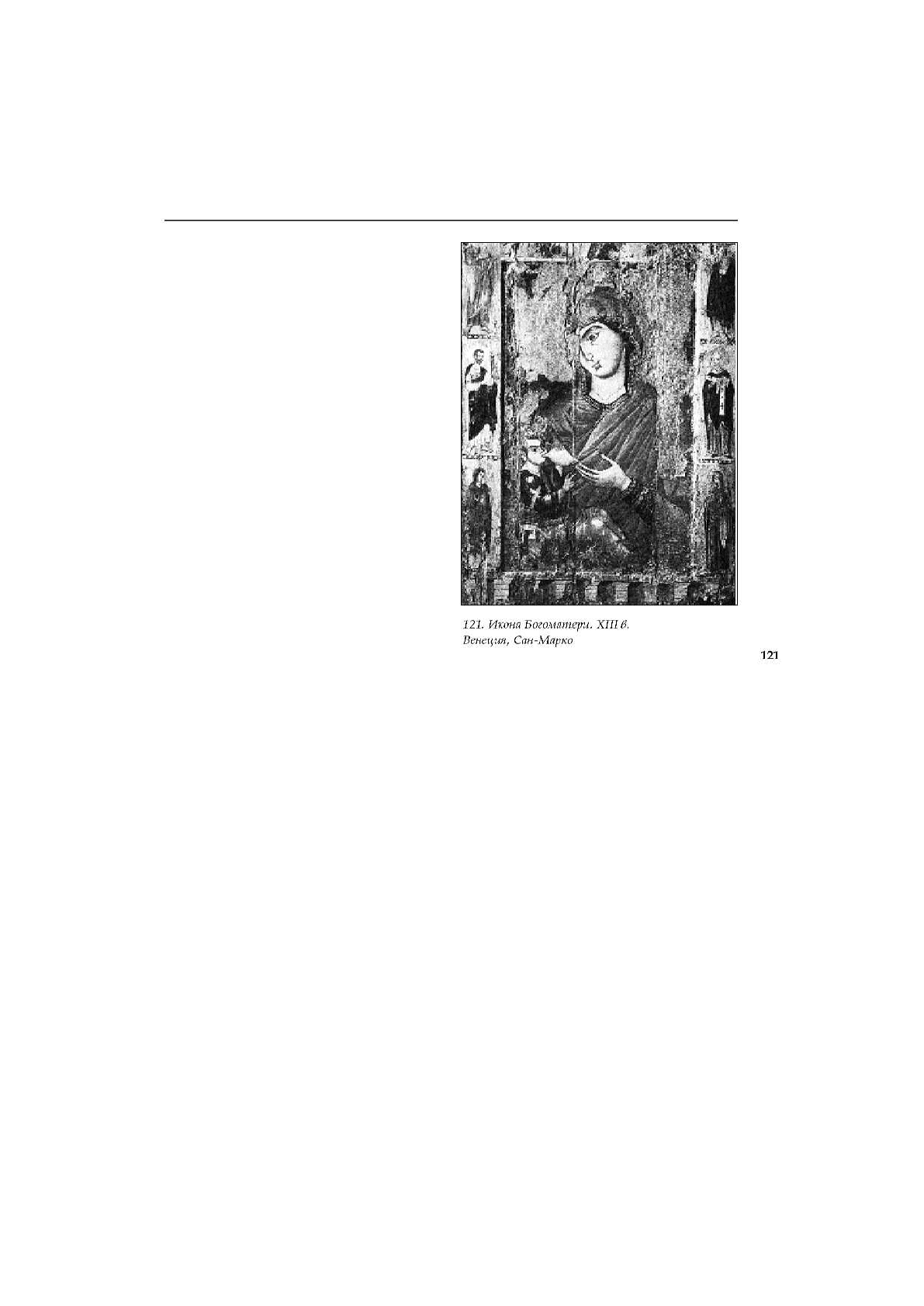
Собор Сан-Марко в Венеции и его иконы
233
дивидуальной роли он был связан
с собственной традицией и потому
не мог быть заменен другими, даже
если те выглядели похожими. Вслед-
ствие переноса культа восточных свя-
тынь в Венецию собор Св. Марка стал
паломнической церковью типа ви-
зантийской. Собранные здесь чудо-
творные иконы и реликвии гаранти-
ровали государству авторитет, а его
представителям защиту и благо.
Правда, культ икон совершали но-
вым, западным образом, ставя иконы
на престолы. Для типа алтарных икон
в Византии отсутствовали литургиче-
ские условия (гл. 17а). Привезенные
иконы из-за их прямоугольного фор-
мата и отсутствия возможности уста-
новки их на престоле плохо подхо-
дили для новой функции. Поэтому
произошли преобразования, кото-
рые можно проследить на двух при-
мерах времени около 1300 г. Живо-
писная икона Богоматери подтверждает своим огромным форматом, что она
была поставлена на престол
56
. Нарисованные балки консолей внизу иконы,
что является аномалией и попыткой эстетической коррективы иконы, пред-
назначенной для подвешивания, способствуют ее переходу к стоячему поло-
жению на плоскости престола. В характерном для западной традиции мотиве
кормления грудью образ Марии следует западному вкусу. Фигуры святых
в рост на полях соответствует канонам иконописи.
Рельеф Петра, который еще находится in situ, на престоле левого бокового 122
алтаря, позволяет выявить другое преобразование облика бывшей мрамор-
ной иконы в новой функции алтарной иконы
57
. Икона в нижней части удли-
нена, так что появляется место для двух официальных представителей адми-
нистрации в позе ктиторов. В верхней части она завершается, как в Тоскане
алтарные образы Богоматери и Франциска, фронтоном и дополняется еще,
как чудотворный крест св. Марка, медальоном с ангелом. Так она синтезиру-
ет характерные черты различных источников в образе, который замыслен для
нового положения на престоле.
В обзоре икон венецианской паломнической церкви не охвачены перенос-
ные иконы, т. е. живописные иконы и драгоценные металлические изделия,
которые сохранились лишь в малом количестве. К их числу относятся иконы
ангелов из эмали, а также знаменитая Богоматерь, приписываемая евангелис- 1
ту Луке, художественное и историческое значение которой оправдывает по-
дробный анализ
58
. То, что мы о ней знаем, позволяет сделать заключение, что
она заняла в Венеции положение покровительницы государства. Правда,
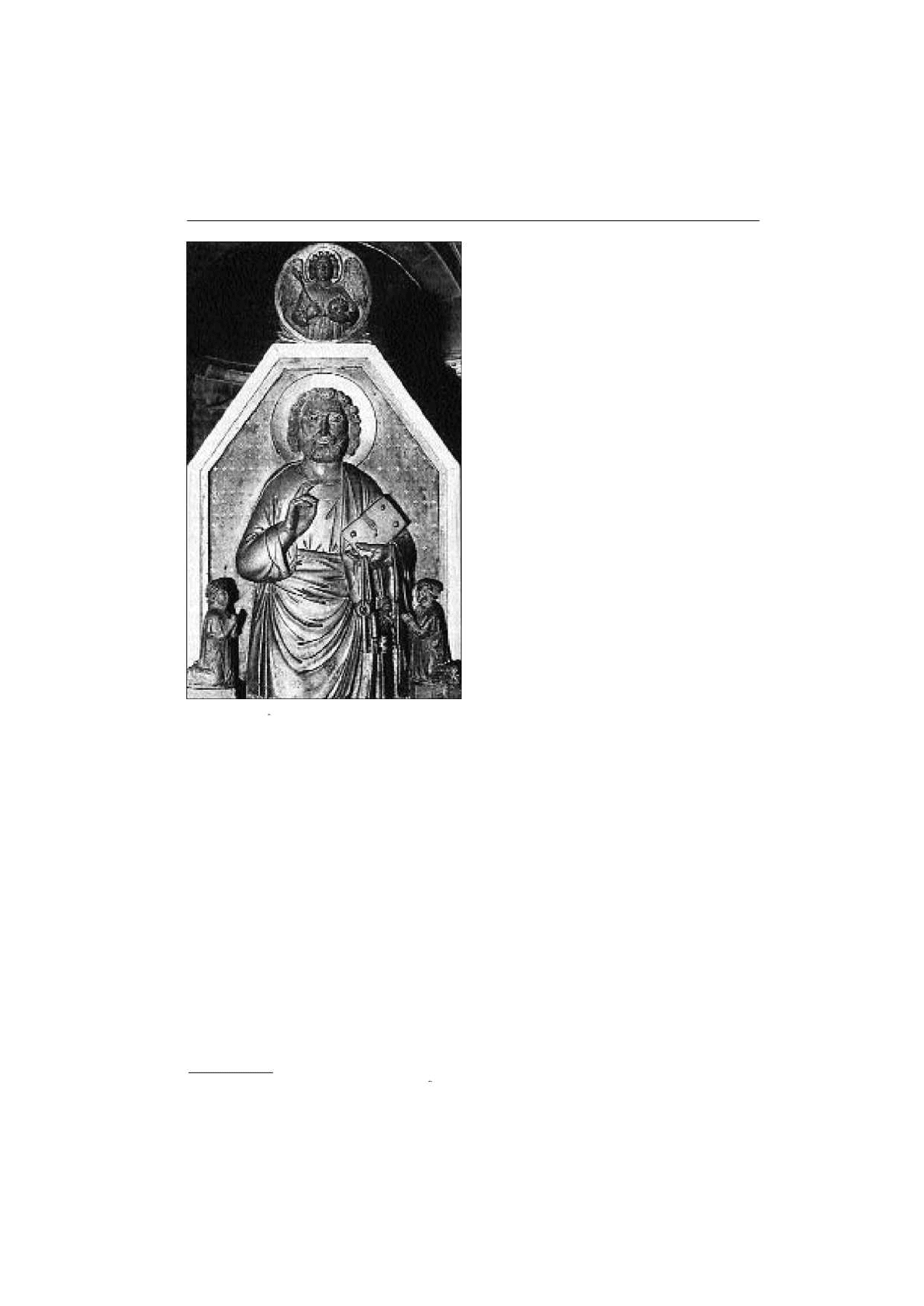
234 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции
большая часть источников происхо-
дит из времени контрреформации,
когда культ икон вступил в новую
фазу. Тогда, в 1618 г., икона попала
на престол в левом трансепте, и в том
же году Джованни Тьеполо издал
первую публикацию об ее истории
59
.
Доска размером 48x36 см является
главным произведением константи-
нопольской живописи конца XI века.
В безупречный овал ее лица внутрен-
ние формы вписаны с элегантной
точностью. Дуги бровей соотносятся
с носом и контуром лба и подчерки-
вают таким образом пристальный
взгляд, который четко отличает
60
это
произведение от других икон Богома-
тери этого времени. Воздействие об-
раза проистекает прежде всего из дви-
жения головы и взгляда в противопо-
ложных направлениях, пересечение
которых образует угол. Утонченный
рисунок губ и щек усиливает этот эф-
фект. Металлический оклад, укра-
шенный эмалями и драгоценными
камнями, достигает кульминации
в роскошном нимбе, секторы которо-
го попеременно состоят из драгоцен-
ных камней и эмалей с завитками и пальметтами подобно иконе Христа
в Иерусалиме
61
.
Сохранившаяся икона является, вероятно, тем списком, который в XII веке
считали «оригиналом» «приносящей победу», или Nikopoios. Мать держит сы-
на прямо перед грудью, чтобы отразить нападение врагов и призвать верую-
щих к почитанию. В одном раннем варианте она держала не самого младен-
ца, а щит с изображением сына, который она так показывала (гл. 6г).
Сверкающий взгляд, не имеющий ничего общего с интимностью и меланхо-
личностью других икон Богоматери этого времени, хорошо подходил к роли,
которую она тут выполняла. Она была непобедимой воительницей рядом
с императором, а в XII веке вводили не императора, а икону Марии с триум-
фом в город (Приложение, текст 18).
Действительно, «победоносная Мария» отправлялась на войну. Поэтому
крестоносцы в 1203 г. захватили как раз эту икону (ansconne) «вместе с capel
imperial* и с главной повозкой, на которой греки бросили икону на произвол
судьбы». Так повествует один из свидетелей событий, который сообщает об
122. Алтарный образ св. Петра. После 1300.
Венеция, Сан-Марко
* Саре1 imperial (старофранц.) — головной убор императора.
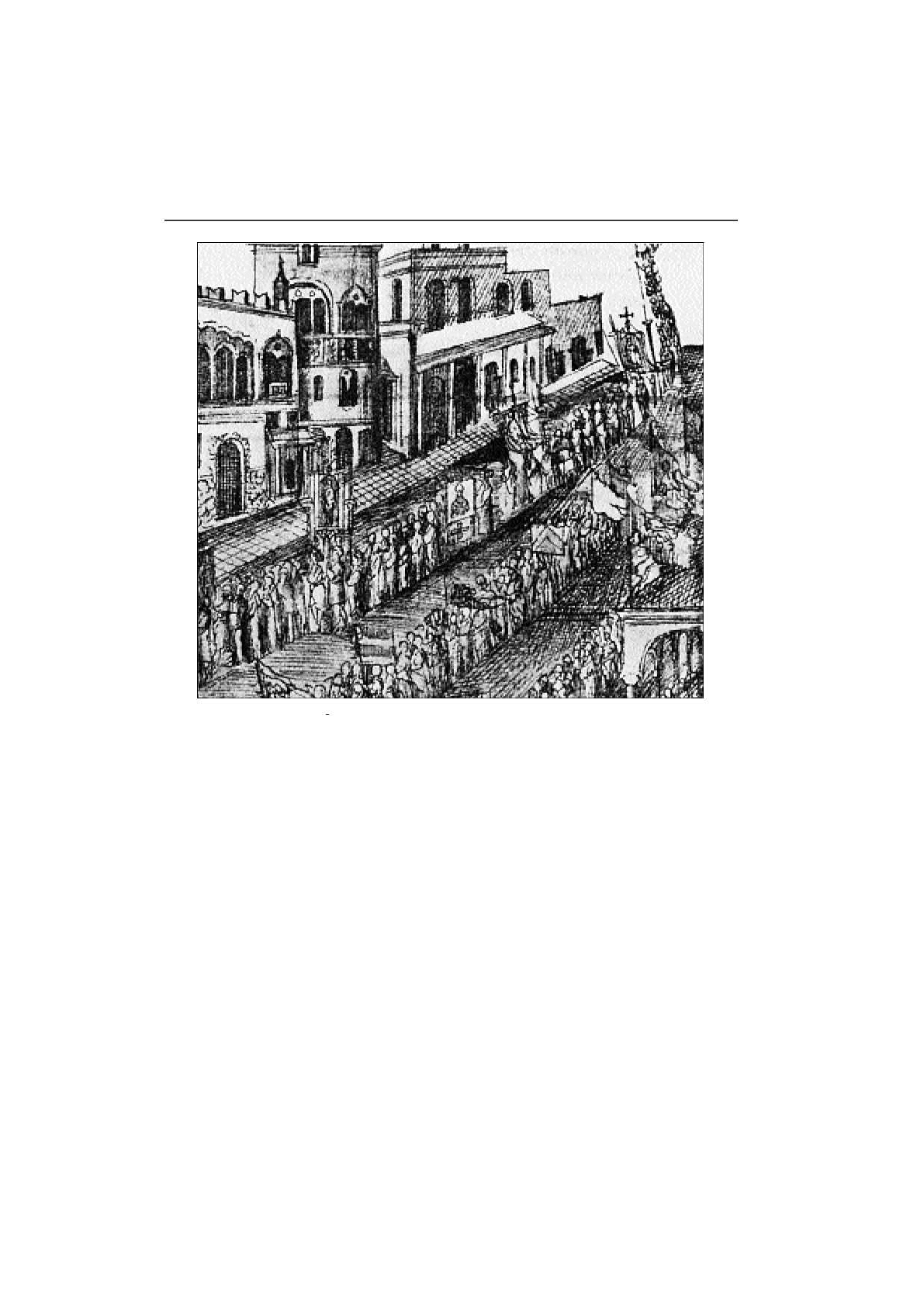
Собор Сан-Марко в Венеции и его иконы
235
123. Процессия с иконои на площади Св. Марка
в Ханье (Крит). По главюре Клонцаса
иконе, что она была будто бы «целиком из золота и драгоценных камней и так
прекрасна и роскошна, что... ничего подобного еще никогда не приходилось
видеть»
62
. Венецианцы знали об этой ее роли и называли образ, который при-
нес им победу, «приносящая победу», Nicopeia. Новый Палладий носили так-
же в публичных процессиях (andate) органов государства и общества
63
. Одиги-
трией они не смогли овладеть, т. к. в этом случае население Константинополя
оказало сопротивление (гл. 4д).
Так как сообщения о Nicopeia в Венеции появляются лишь с XVI века, пред-
ставляется полезным взглянуть на венецианскую колонию на Крите, где уже
в XIV веке о ней идет речь. Здесь венецианское государство было уже представ-
лено иконой евангелиста Луки: это была многократно переписанная Мария из
собора Тита в Кандии, которая в 1669 г. была перевезена с Крита в Венецию
и так спасена. С тех пор она находилась в обетной церкви Санта-Мария делла
Салюте
64
. Эта икона соответствовала Nikopeia не по типу, однако, пожалуй,
по функции и поэтому позволяет сделать выводы относительно Венеции, где
сенат имел попечение о культе соответствующих икон.
В 1379 г. документы сената содержат сообщение о споре латинского и гре-
ческого духовенства из-за привилегии проносить критскую икону Луки в про-

236 Паломники, императоры и братства. Места почитания икон в Византии и Венеции
124. Торжественный вынос иконы Богоматери Никопеи.
Венеция. По гравюре Марко Боскини, 1644
цессиях через Кандию. Перед ней греческое население давало клятву в вечной
верности. В знак подчинения Венеции икону передали латинскому духовенст-
ву. Венецианский сенат распорядился приносить ее каждый вторник из собо-
123 ра Тита на критскую площадь Марка, как это изображено на гравюре Клонца-
са
65
. Там она принимала официальное поклонение (il laude) государственным
властям. Такой государственный культ образа позволяет делать заключения
о самой венецианской метрополии, где икона евангелиста Луки из Сан-Марко
124 находилась в центре официального интереса. Гравюра Марко Боскини 1644 г.
изображает ее ежегодный «ход» через понтонный мост в церковь Санта-Мария
делла Салюте
66
, и там критская икона евангелиста Луки после 1670 г. будто бы
получила новое убежище. С тех пор обе иконы Луки ежегодно наносили визит
одна другой.
Паломники и братства играли в Венеции роль, сходную с той, какую они
прежде играли в Византии, откуда происходили почитаемые здесь святыни.
Роль императоров взяли на себя в Венеции дожи и их сенатские учреждения,
естественно, только в обозначенных здесь пределах: в праздничных процесси-
ях по городу и в официальном культе реликвий и икон. Аналогии простира-
ются, как в случае с иконами небесного воеводы, столь далеко, что сообщения
из Венеции можно уподоблять ситуации в Византии. В Сан-Марко можно еще
и ныне получить живое представление о том, как были убраны церкви палом-
ников в Византии. Это был культ икон на службе у паломников, императоров
и братств, который помимо литургического использования икон в эпоху сред-
невековья относился также к византийским будням.

11. «Подлинный портрет» Христа.
«Соревнование» легенд и образов
Особо высокое положение среди чудотворных икон, хранившихся в Констан-
тинополе, занимал «образ на плате» (Mandylion) с «подлинным портретом»
Христа, который находился в дворцовой часовне среди «подлинных реликвий»
земной жизни Христа
1
. Он был в X веке перенесен сюда из Эдессы, города в Се-
верной Сирии, однако уже с VI века, когда появилось первое упоминание о нем,
он занимал религиозную фантазию и формировал представление о сущности
иконы. Так как бы из небезопасного отдаленного места возвратили «на родину»
в центр империи то, что не понесло ущерба в эпоху иконоборчества. В Констан-
тинополе, где его физическое присутствие было важнее, чем возможность его
действительно увидеть, теперь обладали архетипом всех образов Христа. Были
ли они действительно похожи на архетип и до какой степени, было менее зна-
чимо, чем притязания на каноничность и угодность Богу, восприятие всеми
списками от этого подлинника.
Его следы теряются на Западе, в Риме или Париже, после разграбления ви-
зантийской столицы в 1204 г. На Востоке позднее заявили претензию на обла-
дание подлинником и сделали даже нашумевший дар генуэзцам. На Западе
тем временем пропагандировали другой чудотворный образ с подлинными
чертами Христа, по сравнению с которым привезенная с Востока икона не
имела перспектив. Между тем новый образ перенял трактовку восточного об-
раза-соперника и выглядел столь похожим на него, что их можно было спу-
тать. Правда, с ним была связана другая легенда о происхождении. Это была
Вероника, или Vera Icona в соборе Св. Петра в Риме, и о ней идет речь лишь тог-
да, когда на Западе теряются следы византийского изображения на плате,
в начале XIII века
2
. С этих пор она становится, как до того изображение на
плате на Востоке, архетипом святого образа на Западе. Оба изображения,
с точки зрения обязательной для них каноничности, находятся в тесной связи
друг с другом.
Так, мы имеем дело с изображением, которое в VI веке появляется в Сирии,
и затем с другим, почитаемым приблизительно с 1200 г. в Риме. Тем не менее
имеет смысл говорить о них обоих в этом месте, ибо этот культ древнего обра-
за, имевший место в византийском средневековье, был перенесен на образ-на-
следника в Риме. Легенды, повествующие об образе из Эдессы, оправдывают
христианский культовый образ в противовес известным упрекам, направлен-
ным против языческих идолов. Это является, собственно, двойным обоснова-
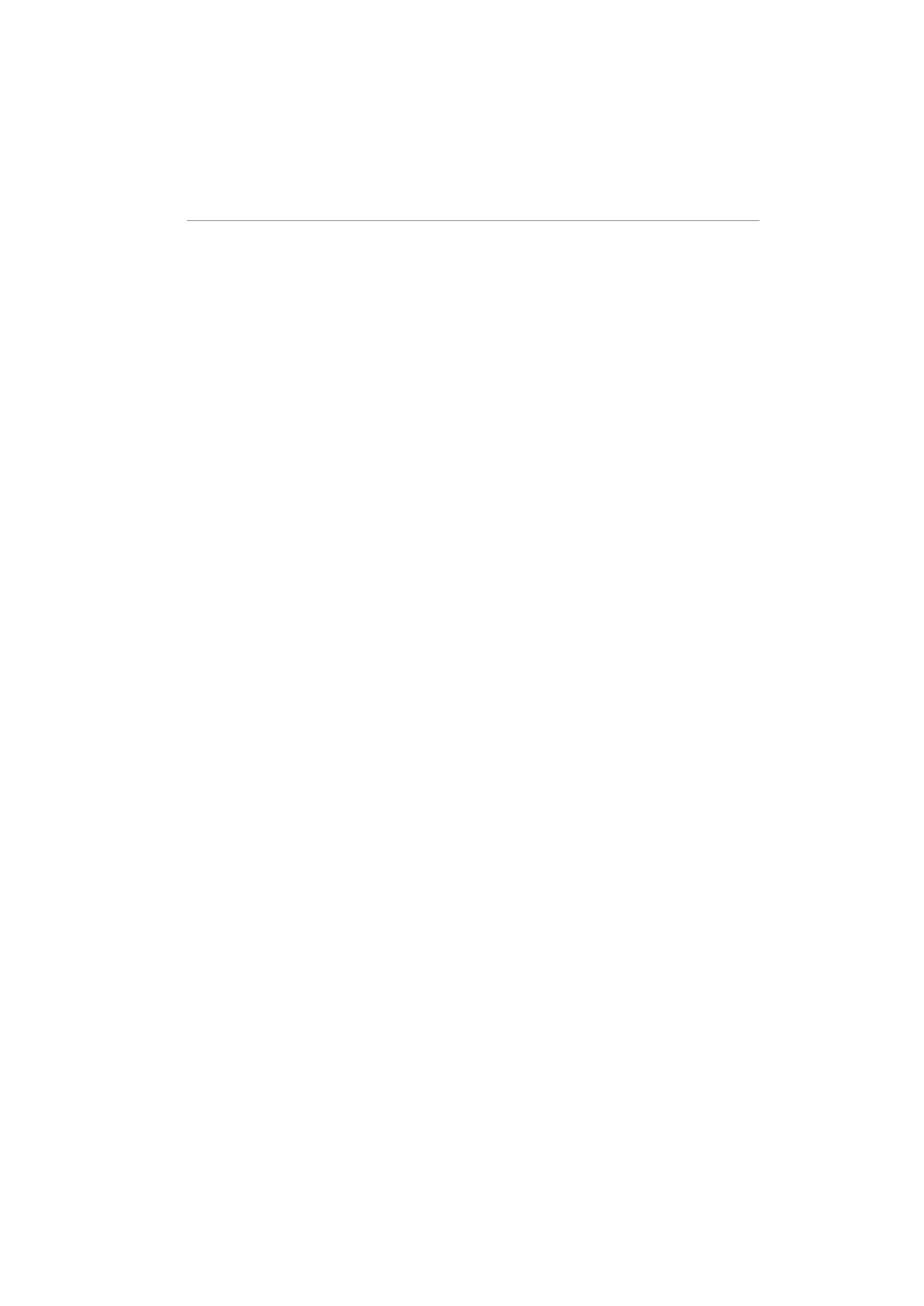
238 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов
нием, содержащим, однако, противоречие. Одним из обоснований является
утверждение, что царь Авгарь велел своему художнику написать точный пор-
трет с живой модели и получил его вместе с собственноручным посланием
Христа. Во-вторых, утверждается, что работа художника была чудесным обра-
зом исполнена самим Христом, приложившим к лику плат.
Явный смысл обоих объяснений очевиден. Во-первых, портрет с живой мо-
дели отличается от изображения вымышленных, фиктивных богов. Он удос-
товеряет историческое существование Христа, а также реальность его челове-
ческой природы, которую, как известно, оспаривали отдельные христианские
течения. Во-вторых, чудесное, или, согласно другим толкованиям, механиче-
ское, воспроизведение черт лица Христа препятствует приравниванию его
к «делаемым руками человеческими богам» или образам богов, в чем апостол
Павел упрекал язычников в Деяниях Апостолов (19: 26). Нерукотворность
(гл. 4а) является своего рода гарантией подлинности, которая не была связана
со способностью толкования художника. И наконец, намерение Христа по-
слать царю Авгарю свое изображение доказывало, что он хотел оставить свой
образ. Так был удостоверен не только факт существования, но и почитание
образа.
Такова суть, кратко говоря, запутанной легендарной традиции. Она была,
со значительной передвижкой свидетельства, перенесена на «Веронику» в Ри-
ме. Там владели сначала платом без изображения, которым Христос отирал
свой лик на Елеонской горе или на крестном пути. Позднее, когда плат стал об-
разом и творил чудеса, его связали с легендой о благочестивой женщине Веро-
нике. Она подала Христу плат, на котором запечатлелись его черты, когда он
им утирал пот. Древняя, опять-таки весьма запутанная легенда была приспо-
соблена к новой функции. Все звучит убедительно ясно, как в исторической
аргументации. Примечательно то, что теперь не ссылаются на чудо при воз-
никновении образа, ибо в эпоху средневековья христианский культовый образ
больше не оспаривается. А также отдают явное предпочтение рациональному
объяснению, а не небесному происхождению. Образ в качестве документа был
теперь важнее, тем более что в Латеране уже имелся нерукотворный образ
(Achiropiite) (гл. 4г).
Желание увидеть образ Бога связано с интересом к тому, как «Он» действи-
тельно выглядит, и ожиданием личного переживания «Другого». В христиан-
стве к этому добавлялась надежда на особое видение Бога, ибо в нем усматри-
вали сущность дальнейшей жизни на небе. На «подлинном изображении»
были запечатлены земные черты Христа, которые можно увидеть человечески-
ми глазами, т. е. наглядное присутствие Бога, неразрывно связанное с неоче-
видной реальностью Бога. Это двойное истолкование смысла образа имело
в качестве последствия копии, которые были скорее толкованиями, чем просто
дубликатами реликвии. В Византии также следует отличать свободное копи-
рование от простых дубликатов подлинника. В акте созерцания содержалось
также желание подобия или достижения подобия. Экзистенциальное отноше-
ние возникало между первообразом и копией, между творцом и творением.
В нем материальный образ играл роль посредника. Он становился объектом
созерцания утраченной красоты человека.
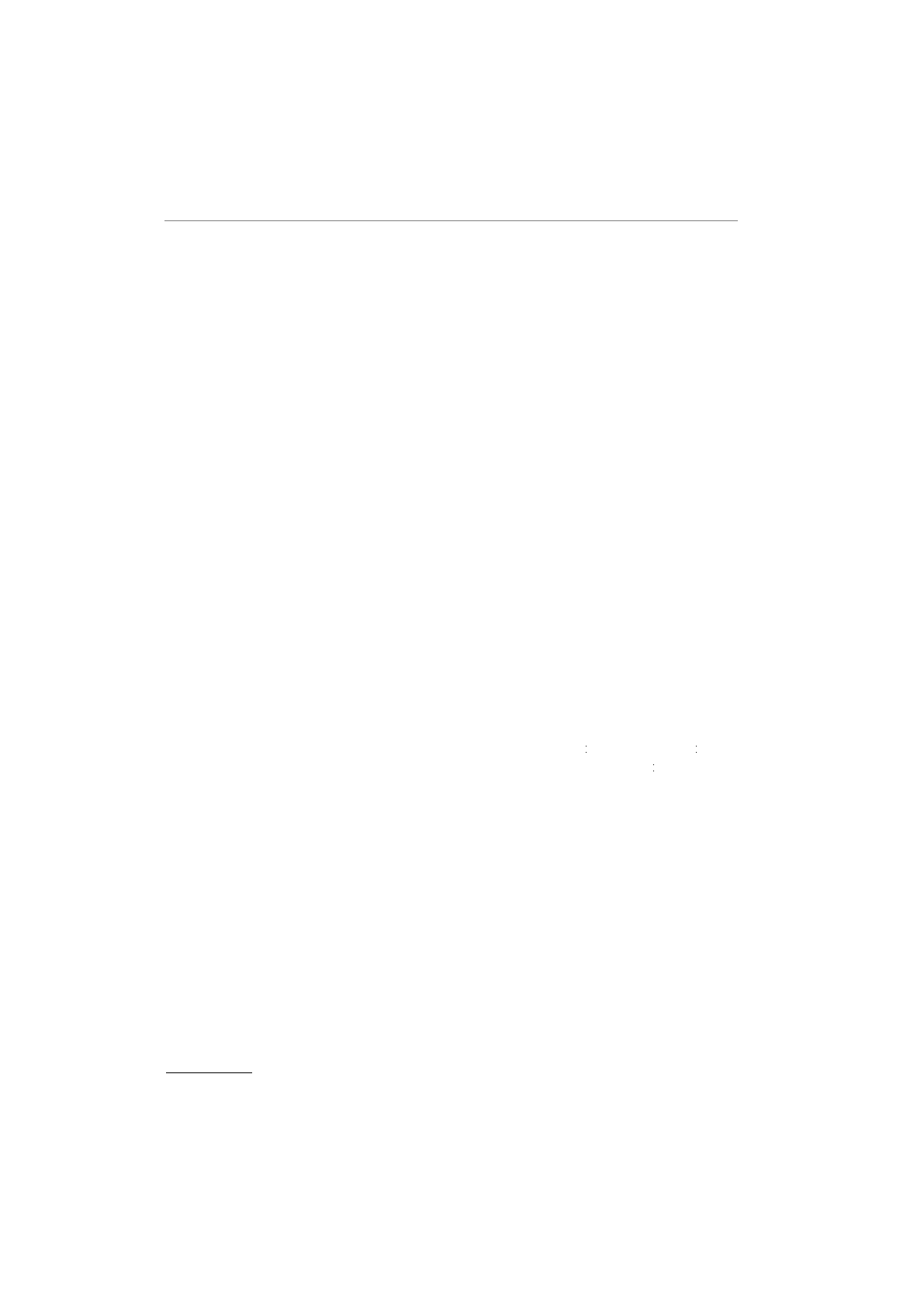
«Подлинник» нерукотворного образа, посланного царю Авгарю, и легенда о нем
239
Вильгельм Гримм описывал когда-то икону Христа, принадлежавшую Кле-
менсу Брентано, словами, которые заключали в себе вневременные представ-
ления о созерцании «подлинного» портрета
3
. Он восхищается «благородным
ликом с необычайно длинным и прямым носом и с расчесанными на пробор
волосами... производящим благородное впечатление величия и чистоты. Ни-
каких следов страданий на нем — наоборот, полный покой и ясность и лишен-
ная портретности, бесстрастная идеальная красота». В этих словах выражено
то, как воспринималась аура этого образа в атмосфере современной носталь-
гии по первоначальной подлинности религиозных образов, давшей импульс
к новому открытию иконы. Однако Гримм ошибочно понимает старую трак-
товку портрета, которая еще не подвергалась сомнению из-за банализации
гражданского портрета.
а) «Подлинник» нерукотворного образа,
посланного царю Авгарю, и легенда о нем
Образ на плате, или Мандилион, посланный царю Авгарю, распространил-
ся в бесчисленных повторениях и парафразах. Все они совпадают по идее
вплоть до взаимозаменяемости, но на практике делят друг с другом лишь
общую для них основную схему, которая допускала большую возможность
варьирования. Ее можно характеризовать следующим образом. В то время
как иконы, как правило, имеют портретную схему полуфигуры, списки не-
рукотворного образа имеют сокращенную схему — отпечаток лика и волос
головы на пустом фоне, символизирующем плат. Они соответствуют облику
подлинника, который был не иконой, а платком. На этом плате черты лица
в принципе зафиксированы механически, а волосы расположены по плоско-
сти, хотя они — если бы речь шла об иконе на доске — должны были бы нис-
падать. Так списки, отличаясь от схемы иконы и демонстрируя механичес-
кий оттиск, являются зримым доказательством способа возникновения
оригинала. Они суть повторения реликвии образа, возникшей, как думали,
в результате физического контакта с ликом Иисуса.
Но, несмотря на эти устойчивые признаки, было бы невозможно говорить
о том, как выглядел оригинал, если бы не сделали поразительного открытия
при помощи двух списков, оказавшихся в Италии
4
. Во-первых, речь идет об
иконе в Ватикане, бывшей в эпоху средневековья завидной собственностью 15
кларисс из Сан-Сильвестро ин Капите. Другая икона находится с 1384 г. в Ге-
нуе в церкви Св. Варфоломея армянской общины (degli Armeni). Византий-
ский император Иоанн V создал ее в подарок
5
capitano* генуэзской колонии на
Босфоре, Леонардо Монтальдо.
Иконы в Риме и Генуе имеют плоский серебряный оклад, который выре-
зан вдоль контуров головы и бороды. Они обе написаны на холсте и обе ук-
реплены на деревянных досках, имеющих одинаковый формат (приблизи-
тельно 40x29 см). Триптих X века имел утраченный средник, формат которого 125
точно соответствовал размеру двух других икон
6
. Так как его боковые створки
* Capitano — глава, руководитель (города, общины); здесь: глава колонии.
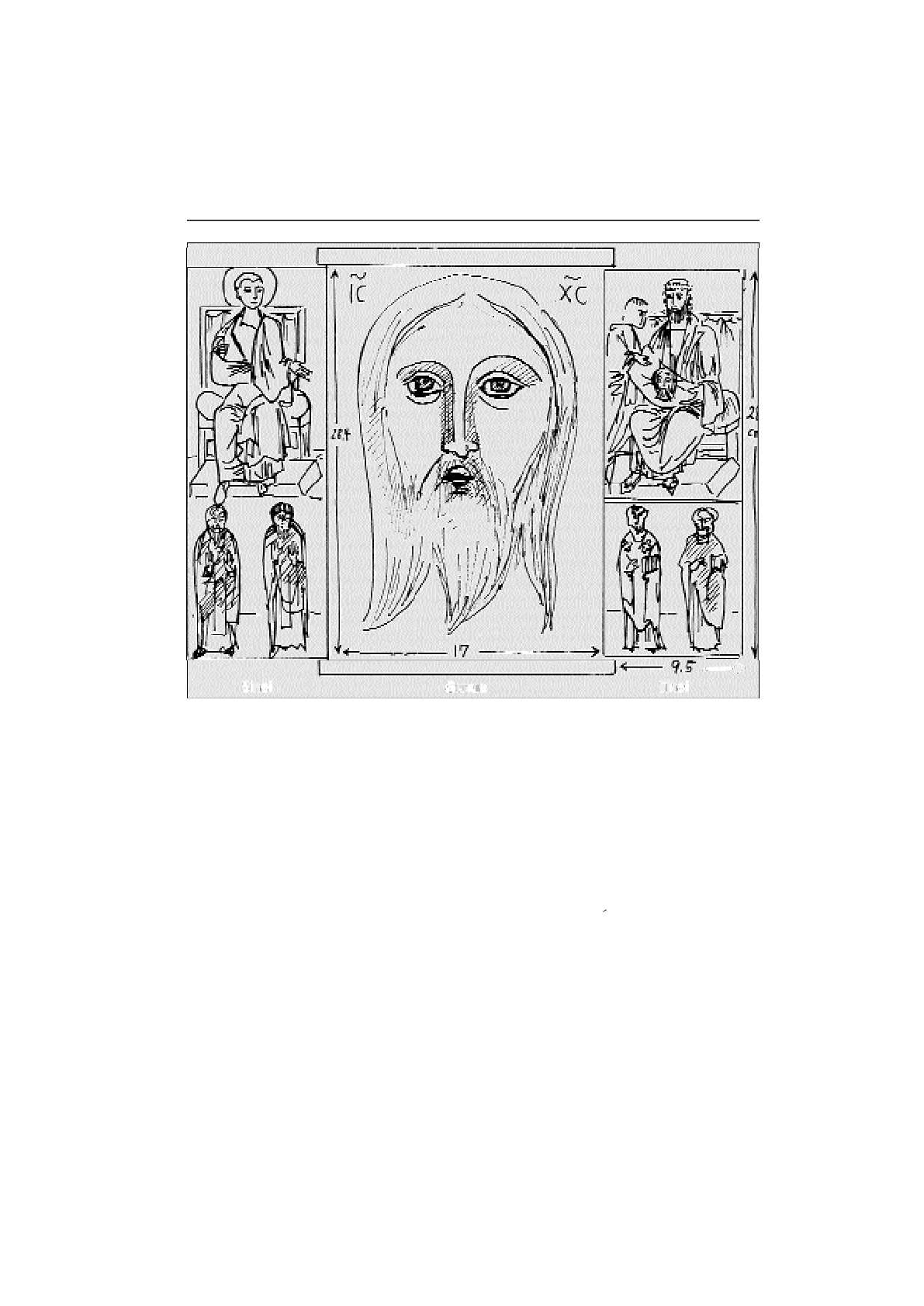
240 «Подлинный портрет» Христа. «Соревнование» легенд и образов
. *
binE-i fiSiLj^i ^iis-i
125. Мандилион («Спас Нерукотворный») из Константинополя (реконструкция).
X в. Синай, монастырь Св. Екатерины
повествуют о легенде об Авгаре, можно предположить, что утраченный сред-
ник соответствовал по своему виду спискам в Риме и Генуе.
Это обстоятельство приобретает значение, когда отмечается, что сохранив-
шиеся иконы демонстрируют поразительный архаизм, который не позволяет на
основании стиля сделать заключение о действительном времени их создания.
Напротив, обе иконы соотносятся со стилем, который обнаружили в восточно-
сирийских произведениях III века, а также на одной фреске в Дура Европос
7
.
Этот архаизм даже в кругу нерукотворных образов является исключением, в ко-
тором, невзирая на все попытки достигнуть вневременного схематизма, снова
и снова побеждал эстетический идеал своего времени. Ватиканский список име-
ет несомненные черты позднеантичного произведения, оригинальный облик
Фрон- которого под многими слоями олифы дошел до нас целым и невредимым, как
тиспис самим можно убедиться на месте. Если бы решились на раскрытие, то получили
и 8 бы, возможно, древнейшую из сохранившихся икон Христа. Древние иконы Бо-
I гоматери в Пантеоне и в церкви Санта-Франческа Романа сохраняют еще отзвук
подобной древней трактовки иконного образа.
В генуэзском списке линеарное очертание глаз обнаруживает, правда,
признаки средневековой копии. Однако избранный тип отклоняется от всех
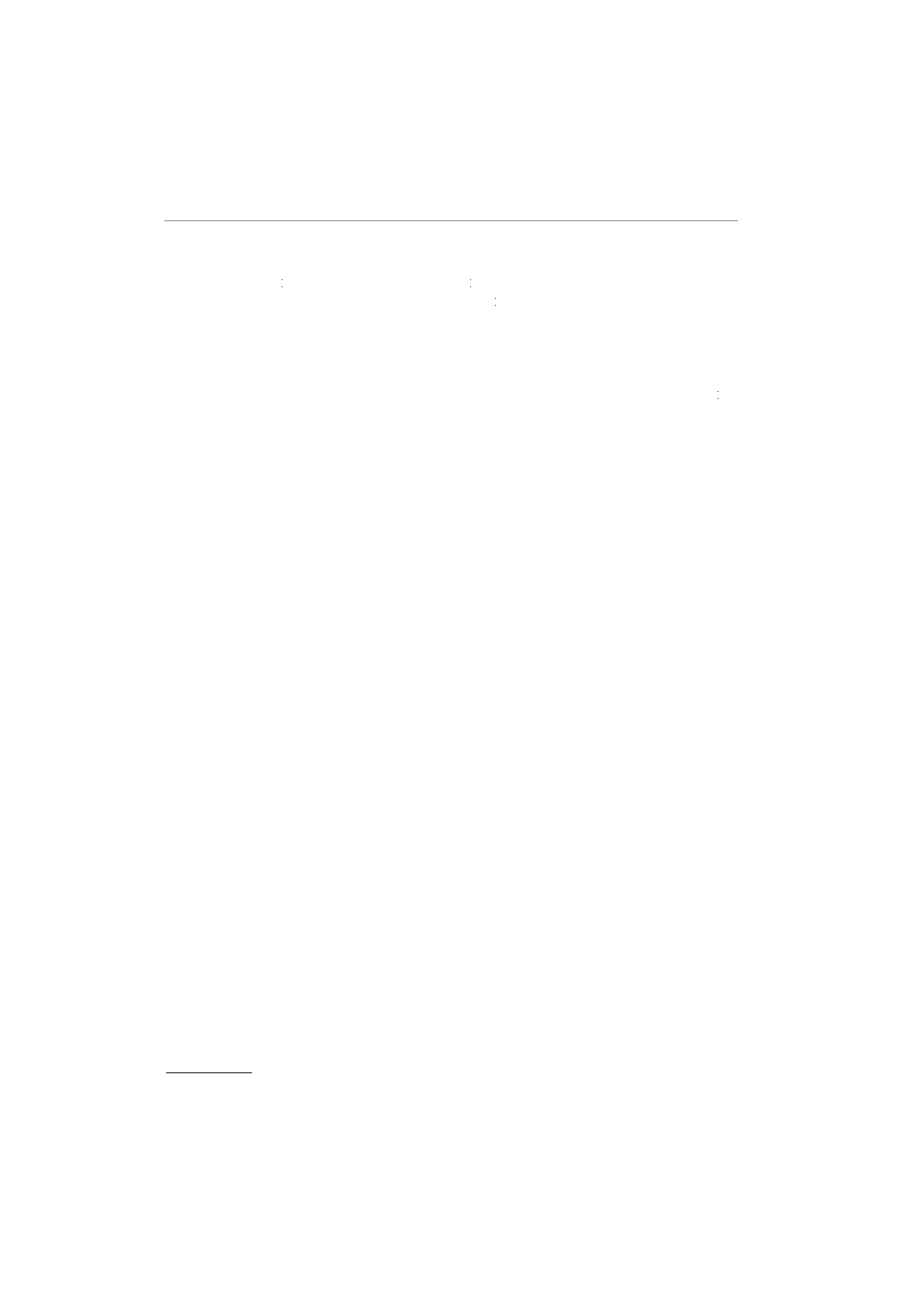
«Подлинник» нерукотворного образа, посланного царю Авгарю, и легенда о нем 241
тогдашних канонов портрета Христа. Удлиненный овал лика со скудными
внутренними формами ради абсолютной симметрии лишен всякого физиче-
ского и душевного движения. В спокойном положении и на расстоянии об-
раз производит впечатление A-patheia* и одновременно очень древнего изоб-
ражения. Лишь Туринская плащаница, исчезнувший оригинал которой явно
уже в Византии почитался как погребальное полотно Христа
8
, с ее отпечат-
ком усопшего близка этим иконам с предполагаемым отпечатком на них жи-
вого. Каждый может сам решать, как следует интерпретировать это обстоя-
тельство, выявленное при осмотре. Для нашей аргументации имеет значение
лишь маленькая группа нерукотворных образов, которые по формату и на-
ружному виду воспринимаются как повторения одного и того же «подлин-
ника».
С этим наблюдением поразительно согласовывается то, что два или три
списка — в том числе образ из Ватикана — имеют своего рода доказательство
подлинности или печать качества. Они обрамляют главное изображение ил-
люстрациями к легенде об Авгаре, которые являются редкостью в других об-
разцах. На генуэзском «Святом Мандилионе», как его называет надпись на по-
лях иконы из позолоченного серебра, расположены по кругу десять маленьких
сцен. Они начинаются наверху слева с поручения больного Авгаря достать
портрет, а кончаются чудом исцеления, которое сотворила реликвия в Кон-
стантинополе. Свиток XIV века напоминает своим архаичным видом о так на-
зываемом письме Авгаря, которое до XII века хранилось как реликвия в двор-
цовой часовне
9
. Также и здесь иллюстрации легенды вновь служат в качестве
«экспертизы» подлинника. Синайский триптих, складной поклонный образ
с боковыми створками, предположительно был создан по заказу императора.
На створках изображены друг против друга Авгарь и ученик апостолов Фад- 125
дей, который, согласно легенде, передал портрет. Однако Авгарь представлен
с чертами лица императора Константина VII, который перевез реликвию
в 944 г. в Константинополь. Так объединены апостольская и византийская эпо-
хи, древний и новый Авгарь, что подчеркивает преемственность владения ре-
ликвией. Византийский император, как свидетельствуют образы, получил
портрет также с согласия Христа, как когда-то сирийский царь.
Как изображают клейма на раме генуэзского экземпляра, посланнику Ав-
гаря, согласно легенде, не удается нарисовать Христа. Христос умывает лицо,
чтобы запечатлеть его потом на плате. Авгарь, получающий послание и об- 126
раз, исцеляется им. Дальнейшая история портрета начинается с очевидной
антитезы. Когда икону водружают на колонну, с другой колонны низвергает-
ся языческий идол. Дальнейшие события побуждают епископа заложить об- 127
раз кирпичом. Когда его снова открывают, обнаруживают, что он оставил на
кирпиче точный отпечаток. Этот керамический отпечаток (Keramidion),
или «образ на чрепии», является дальнейшим доказательством чудотворной си-
лы оригинала, который способен изготавливать дубликат своими силами.
В предпоследней картине повествования на раме в Генуе епископ истребляет
персов на костре, в который он налил масло, источаемое образом. Так чудеса
* Аpatheia (греч.) — бесстрастие.
