Волкова Л.С., Селиверстов В.И.Хрестоматия по логопедии.Том 2
Подождите немного. Документ загружается.

ности другой классификации афазий, более логичной, чем боль-
шинство общепринятых попыток. Так, наиболее поверхностным
расстройством из всех оказались бы редкие случаи (если вообще
таковые существуют) так называемой афемии, при которой боль-
ной может понимать и писать, но совсем не способен к артику-
лированной речи. К расстройству следующего уровня принадле-
жат те редкие случаи легкой афазии, при которых больной не
может с помощью волевого усилия найти подходящее существи-
тельное, например, когда ему нужно назвать предмет, находя-
щийся перед ним... Дефекты более глубоких уровней в пределах
превербитума, как можно ожидать, приведут к более грубой афа-
зии, включающей как моторный, так и сенсорный компонент.
Это то, что Гольдштейн назвал центральной афазией — термин,
кстати, неудовлетворительный. Клиническая форма характери-
зуется незаторможенным потоком речи, большая часть которого
оказывается неразборчивой. Можно думать, что в этих случаях в
превербитуме нет того тормозного механизма, который обычно
находится в готовности. Отсутствие его при этой форме афазии
приводит к тому, что слово, выходящее на поверхность созна-
ния, влечет за собой сразу же другое слово, которое с ним связа-
но просто по ассоциации, благодаря частому совпадению. Это
слово не подавляется, насильственно вклинивается и затем мо-
жет повторно всплыть и засорять последующую речь. Или два
слова в превербитуме могут объединиться нелепым образом —
«голова одного с хвостом другого», как чудовище из сказки. Все
же наиболее глубокими расстройствами в сфере превербитума
являются те, которые клинически приводят к крайней бедности
речи с наличием речевой стереотипии из остатков речи или без
таких стереотипии.
Расстройства речи в связи с фактором доминантности
одного из полушарий большого мозга
В конце XVIII в. безвестный врач, практикующий по всем
болезням, доктор Марк Дакс в результате тонких клинико-ана-
томических сопоставлений впервые обнаружил, что полушария
большого мозга не являются эквипотенциальными, во всяком
случае в отношении речи. В 1836 г. он сделал короткое сообще-
ние на эту тему... Работа не привлекла внимания, она никогда не
появилась в печати: забытая рукопись долго пролежала в ящике
после смерти ее автора, наступившей через год. Почти 30 лет
спустя и более чем 100 лет назад Брока постепенно осознал, что
каждое его наблюдение над афемией являлось результатом пора-
жения левой половины мозга.
Джексон принял доктрину о том, что левое полушарие име-
ет преимущественное отношение к речи, однако с определен-
ными оговорками... Он приписывал расстройства самовыра-
жения поражению левого полушария мозга, а ограниченные
высказывания больного с афазией относил за счет работы не-
поврежденного полушария. Джексон рассматривал, таким об-
разом, левую половину большого мозга как «ведущее» полу-
шарие в отношении творческих сторон речи, в то время как
правое полушарие он связывал с «автоматическим» использо-
ванием слов.
Надо думать, что мы все еще, вероятно, склонны недооцени-
вать роль правого полушария мозга. Нейропсихологам нужно
уделить большее внимание тщательному, экспериментальному
исследованию лингвистических возможностей правшей с пора-
жением правого полушария для выявления наличия минималь-
ной дисфазии. Уже сейчас можно указать на ряд клинических
данных.
1. Нарушение артикуляции, хотя оно может быть преходя-
щим, является довольно частым последствием поражения под-
чиненного полушария. Конечно, дизартрия этого рода должна
рассматриваться как проявление расстройства скорее акта про-
говаривания (speaking), чем речи (language). Однако при грубой
дизартрии возможна бедность речи, которая имитирует афазию
и может затруднить диагностику...
2. Творческий литературный труд, требующий особо высоко-
го уровня лингвистических способностей, должен значительно
пострадать при таких нарушениях.
3. Соответствующие экспериментальные методические при-
емы могут выявить запинания или настоящую задержу при по-
дыскании слов.
4. Специальные экспериментальные исследования, такие,
например, как тахистоскопия, могут выявить особые задержки
зрительного опознания больным словесных символов. Подоб-
ную замедленность можно заметить и при слуховом восприя-
тии речи.
5. Поражение правого полушария, вероятно, может приво-
дить к трудностям при усвоении нового речевого материала.
6. Можно также упомянуть об интересном феномене, описан-
ном Natanson Вегатап и Gordon в 1952 г., связанном с поражени-
ем теменной доли субдоминантного полушария. У больного по-
явилось множество запинок и неточностей в речи, как только
его расстройство начинало становиться темой обсуждения. Этот
феномен напоминает «неафазическое расстройство называния»
(«поп — aphasic disorder of namig») no Weinstein.
272
7. Трудности достаточно глубокого понимания основного смыс-
ла сюжетных картин часто отмечаются при всех типах пораже-
ния мозга, и некоторые уже склонны рассматривать это расстрой-
ство как более специфичное для поражения подчиненного полу-
шария.
Истинная афазия, приобретенная в детстве
В литературе по вопросу о речевых расстройствах много неяс-
ного, особенно когда дело касается детей. Имеется много при-
чин, почему афазия в строгом смысле слова должна была бы
отличаться у детей и взрослых не только по своим признакам, но
особенно по своей сущности.
Данные литературы явно недостаточны. Общее впечатле-
ние, что, помимо основных черт сходства, имеется много пун-
ктов, по которым детская афазия отличается от взрослой. Для
афазии в раннем возрасте характерны следующие клиничес-
кие черты.
Логорея, или незатормаживаемый поток речи, — встречает-
ся редко. Жаргон-афазия — нетипична. Простые дефекты на-
зывания, как при аномии или амнестической афазии, — нео-
бычны. Дизартрия — встречается часто, но отличается от де-
фектов артикуляции, сопровождающих афазию у взрослых, тем,
что у ребенка наблюдается дислалия (доходящая даже до иди-
оглоссии), выражающаяся в избегании трудных звуков и заме-
не их легкими. Редубликации простых звуков часты, так же как
и речевые итерации. Эти последние могут проявляться в фор-
ме слова, фразы, неологизма. Дефекты синтаксиса часты, они
приводят к телеграфной экономии речи, «программатизму» по
Фрешельсу.
У ребенка мы находим возврат к редубликации слогов ран-
него возраста, упрощение более трудных и недавно приобре-
тенных фонематических элементов и расстройство грамматики
с возрастом к почти исключительному употреблению существи-
тельных.
Типичная нестойкость афазии у ребенка подтверждается ред-
костью речевого расстройства при правостороннем гемипарезе в
младшем возрасте, даже если из анализа ясно, что поражение
произошло вскоре после начала развития речи. Эта способность
к быстрому восстановлению распространяется и на второе или
третье десятилетия жизни как свидетельство преходящей при-
роды дисфазии у подростков и молодых людей.
Критчли М. Афазиология. — М., 1974.
273
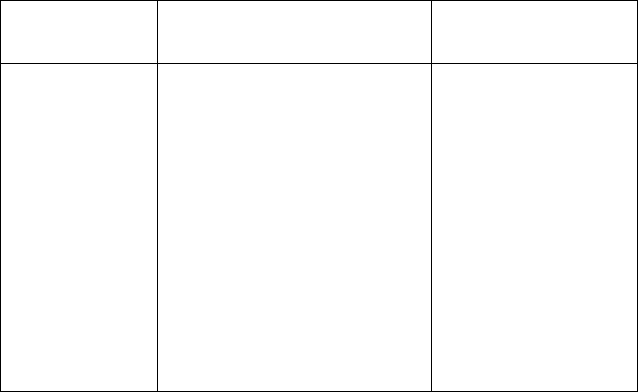
Т. Б. Глезерман, L Г. Визель
Нейролингвистическая классификация афазий
...В клинической практике классификация А. Р. Лурия оказа-
лась наиболее пригодной для целей топической диагностики.
Менее эффективна данная классификация для задач дифферен-
цированного восстановительного обучения при локальных пора-
жениях мозга.
Ясно, что речевые агнозии и апраксий, с одной стороны, и
афазии — с другой, требуют совершенно различных методов вос-
становительной работы.
Чтобы решить вопрос об адекватном и дифференцированном
восстановительном обучении, в каждом случае очагового пораже-
ния мозга, необходимо квалифицировать речевое расстройство по
следующим параметрам:
1) избирательное нарушение гностико-праксического уровня
речевой функциональной системы (форма агнозии и апраксий);
2) избирательное нарушение языкового уровня речевой функ-
циональной системы (форма афазии);
3) смешанное нарушение (форма агнозии, апраксий, афазии).
В таблице представлена предлагаемая нами нейролингвисти-
ческая классификация афазии.
...Напомним только самые общие положения, лежащие в ос-
нове классификации.
Таблица. Схема нейролингвистической классификации афазии
Форма афазии
Нарушенное звено языкового
уровня речевой функциональной
системы
Локализация, третичные
корковые поля левого
полушария
1. Лексическая
(фонологи-
ческая)
Звуковой код
21-е поле височной
области
2. Лексическая
(логико-грам-
матическая)
Код значений
Логико-грамматический («скры-
тая грамматика»)
37-е поле височно-за-
тылочной области
3. Лексическая
(морфологи-
ческая)
Морфологический («явная»
грамматика)
39, 40-е поля теменно-
затылочной области
4. Синтаксичес-
кая I
Синтаксический («скрытая
грамматика»)
45-е поле префрон-
тальной лобной обла-
сти
5. Синтаксичес-
кая II
(«явная» грамматика)
1. Афазия — расстройство символического (языкового) уров-
ня речевой функциональной системы.
2. Афазия возникает при поражении третичных корковых по-
лей.
3. Различные формы афазии связаны с избирательным нару-
шением отдельных звеньев внутри языкового уровня речевой
функциональной системы.
4. Различные формы афазии возникают при очаговом пора-
жении отдельных третичных полей коры головного мозга.
Из таблицы видно, что все афазии можно разделить на две груп-
пы: нарушение звукового кода языка (фонологическая афазия) и
нарушение кода значений. Основное различие этих групп заключа-
ется в следующем.
При фонологической афазии нарушение мышления возникает
из-за распада звукового кода языка. При остальных формах афа-
зии системное речевое расстройство и нарушение мышления яв-
ляются следствием одного дефекта — распада кода значений язы-
ка, который представляет собой частное проявление «левополу-
шарного» мышления. Однако для каждой из этих форм афазий
характерно парциальное и своеобразное нарушение мышления, в
зависимости от того, какое звено кода значений поражено.
Лексическая (логико-грамматическая) афазия
Основным радикалом данного синдрома является нарушение
в звене категориального компонента значения слова.
Обеднение категориальными признаками приводит, с одной
стороны, к нарушению категориального мышления, а с другой —
к системному речевому расстройству. Последнее проявляется:
1) в словарном дефиците; 2) вербальных парафазиях на основе
смешения категориальных признаков слов; 3) подмене категори-
ального слова описанием по функции; 4) непонимании оттенков
словесных значений.
Другой вид нарушения речевой деятельности, вытекающий из
обеднения категориальными признаками, проявляется в непо-
нимании контекстных связей, в появлении семантически несо-
четаемых слов, которые могут выглядеть как вербальные пара-
фазии, в трудностях построения самостоятельных контекстов.
Лексическая (морфологическая) афазия
Основным нарушением при данной форме афазии является
недостаточность в звене морфологического кода языка. У боль-
ных этой группы страдает понимание и использование в соб-
ственной речи внекорневых морфологических компонентов языка
в условиях, когда фактор смысловой избыточности либо отсут-
ствует, либо выражен незначительно.
Характер импрессивного аграмматизма, т.е. нарушение пони-
мания аффиксальных частей слова, зависит от особенностей ло-
кализации очага поражения.
При этом больные с преимущественным поражением поля 40
теменно-затылочной области затрудняются в основном в пони-
мании суффиксальных частей слова, а больные с преимуществен-
ным поражением поля 39 этой области мозга — в понимании
префиксальных (включая предлоги) и флективных морфем. При
поражении поля 39 наблюдаются также нарушения зрительно-
пространственного восприятия (гностико-праксический уровень)
и дискалькулия вследствие нарушения понимания разрядного
строения числа.
Самостоятельная речь характеризуется трудностями употреб-
ления аффиксальных частей слов.
Лексическая (фонологическая) афазия
В основе этой формы афазии лежит избирательное наруше-
ние фонологического уровня звуковой стороны речи; восприня-
тые речевые звуки не опознаются как символы языка, и поэтому
звуковые последовательности не могут быть интерпретированы
как значимые единицы языка. Категориальные признаки, харак-
тер для слова (его «означаемое»), не могут актуализироваться вне
звуковой формы, что определяет как нарушение понимания слов,
так и своеобразные нарушения понятийного мышления.
Речевой статус больного с фонологической афазией характе-
ризуется массивными парафазиями. Литеральные парафазии яв-
ляются непосредственным следствием дефекта; при сохранном
ритмическом рисунке и общем абрисе слова (правополушарные
гештальты) страдает его фонемное «наполнение» из-за смеше-
ния фонем по их различительным признакам. В первую очередь
страдают так называемые оппозиционные фонемы, имеющие
минимальные отличия (по одной фонологической оппозиции).
Поскольку полное разрушение мозговой ткани в области очага
поражения наблюдается редко, то и распад психической функ-
ции чаще проявляется не в полном ее отсутствии, а в дисфунк-
ции. В некоторых случаях звуковой код слова опознается боль-
ным фонологической афазией, но тогда он характеризуется чрез-
вычайной нестойкостью, лабильностью, быстро утрачивается,
амнездруется. В «погоне» за ускользающим звучанием слова воз-
никают различные искажения его звуковой структуры: переста-
новки, пропуски, вставные звуки, контаминации и т.д. Кроме
того, функциональная иерархия внутри языкового уровня зву-
ковой стороны речи.., принципиально допускает избиратель-
ное нарушение: 1) фонологической квалификации речевых зву-
ков; 2) памяти на вероятностные (в соответствии с правилами
данного языка) сочетания фонем, образующие звуковой код
языка. Во втором случае утрачивается словарь (из-за дефекта в
звене «означающего»), приобретенный в течение всего прошлого
опыта.
Синтаксическая афазия I и синтаксическая афазия II
При синтаксической афазии I первичным дефектом является
нарушение порождения предложения на уровне оперирования
категориальными признаками лексических значений предиката,
субъекта и объектов.
У таких больных сохранны мотивация, общий замысел выс-
казывания, но наличие аспонтанности и тусклого эмоциональ-
ного фона может создавать впечатление отсутствия мотивации.
Анализ замысла дефектен: линейное разворачивание категори-
альных признаков действия «застревает» на одном из своих эта-
пов. Категориальные признаки субъекта и объектов не могут
проецироваться на компенсаторные им категориальные призна-
ки предиката, так как сам вектор (признак действия) отсутству-
ет. Нарушение построения предложения на описываемом этапе
даже при сохранности всех последующих звеньев создает блок,
препятствующий формированию высказывания. Нарушение по-
строения предложения на этапе его разворачивания, который по
лингвистической терминологии соответствует глубинной струк-
туре фразы, приводит к тому, что не реализуется комплементар-
ное взаимодействие полушарий — в «правополушарном» симво-
ле субъективное «я» не отделяется от объекта (события), не вы-
деляются образы, соответствующие субъекту и объектам предло-
жения. Таким образом, в результате поражения левого полуша-
рия замысел, который возникает в правом полушарии, тоже ре-
дуцируется.
...В речи больного с синтаксической афазией I предложение
подменяется словом, а значение слова ограничивается эмпири-
ческим компонентом.
Синтаксическая афазия П. При синтаксической афазии II в
построении высказывания избирательно нарушены те его зве-
нья, с которыми связана трансформация глубинной структуры
фразы в поверхностную. Образование глубинной структуры фра-
зы не нарушено, т.е. происходит эксплицирование категорий для
отражения события. Нарушено оперирование теми признаками,
выделение которых происходит при анализе наглядно-ситуаци-
онного контекста события (конкретные, функциональные при-
знаки и признаки пространственных отношений).
В результате нарушения оперирования конкретными и функ-
циональными признаками при построении предложения возни-
кает лексический дефицит. Недаром в неврологической литера-
туре имеются указания на псевдоамнестический дефицит при
«лобных» афазиях. Объяснить его возникновение можно следу-
ющим образом. При соединении категориальных признаков пре-
диката и категориальных признаков субъекта и объектов на уровне
глубинной структуры фразы используются лишь актуальные для
данного события признаки субъекта и возможных объектов, а не
весь категориальный компонент их словесного значения. Поэто-
му основную роль для актуализации звукового кода слов, входя-
щих в предложение, играет эмпирический компонент их значе-
ния, который выступает в целостном виде (топологическая схе-
ма предмета).
В результате нарушения оперирования признаками простран-
ственных отношений, воплощенных в парадигматических мар-
фологических рядах языка, возникает дефект «явной» граммати-
ки — трудности образования словоформ в поверхностной син-
таксической структуре. В речи больных преобладают номина-
тивные формы слов, наблюдаются ошибки словообразования и
словоизменения, а также нарушения согласования во всех фор-
мах синтаксической связи.
Глезерман Т. Б.. Психо-физиологические основы нару-
шения мышления при афазии. — М., 1986.
Л. С. Цветкова
Принципы и методы
восстановительного обучения при афазии
Принципы условно можно разделить на психофизиологи-
ческие, психологические и психолого-педагогические.
А. Психофизиологические принципы
1. Прежде чем приступить к восстановительному обучению
необходимо провести тщательные нейропсихологический ана-
лиз нарушения функции и выявление ее механизма, т. е. пер-
вичного дефекта, лежащего в основе нарушения. Принцип ква-
лификации дефекта позволяет наметить постановку дифферен-
цированных задач и применение адекватных дефекту методов.
2. Вторым важным принципом восстановительного обуче-
ния является использование сохранных анализаторных систем
(афферентаций) в качестве опоры при обучении. Этот прин-
цип основывается на учении о функциональных системах и их
пластичности, на представлении о полирецепторности их аф-
ферентного поля и о «запасном фонде» афферентаций.
3. Третьим принципом восстановительного обучения явля-
ется создание новых функциональных систем на основе аффе-
рентаций, не принимавших прежде прямого участия в отправ-
лении пострадавшей функции.
4. Восстановительное обучение должно учитывать не толь-
ко факты полирецепторности и территориальной независимо-
сти отдельных частей функциональной системы, но и наличие
разных уровней ее организации, на которых может быть реа-
лизована пострадавшая функция. Опора на разные уровни орга-
низации психических функций, в том числе и речи, является
четвертым принципом восстановительного обучения.
5. Опора при обучении больных на всю психическую сферу
человека в целом, а также и на отдельные сохранные психи-
ческие процессы, такие, как память и внимание, мышление и
воображение и т. д., является пятым принципом восстанови-
тельного обучения.
6. Принцип контроля сформулирован П. К. Анохиным,
Н. А. Бернштейном и А. Р. Лурией и исходит из положения,
что лишь постоянный поток обратной сигнализации обеспе-
чивает слияние выполняемого действия с исходным намере-
нием и своевременную коррекцию допускаемых ошибок. От-
сюда становится понятным использование ряда средств (ман-
гитофон, зеркало, указания педагога на успешность выполне-
ния задания и др.) в восстановительном обучении.
Б. Психологические принципы
1. Принцип учета личности больного. Восстановительное
обучение исходит из задач лечения человека, а не из задач
изолированного восстановления каких-либо умений.
2. Принцип опоры на сохранные формы деятельности боль-
ного. Больной человек в прошлом имел широкий социальный
опыт, в частности опыт интеллектуальной, речевой, трудовой,
игровой деятельности. Этот опыт не исчезает, остаются со-
хранными многие формы деятельности человека.
3. Принцип опоры на деятельность больного. Известно, что
основные формы деятельности человека — обучение, труд,
игры, общение — играют ведущую роль в формировании пси-
хических процессов.
4. Принцип организации деятельности больного. Совре-
менная психология давно показала, что в обучении важны не
только содержание обучения и собственная деятельность че-
ловека по усвоению материала, но прежде всего необходимы
организация этой деятельности и управление ею (Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев).
5. Принцип программированного обучения. Больной с афа-
зией нуждается в такой организации его деятельности и в
таких методах, которые бы позволили ему самостоятельно вы-
полнять сначала операции, а затем и действия с целью вы-
полнения задач (говорить, понимать, писать и т. д.) ...Наибо-
лее оптимальными методами обучения... являются такие, ко-
торые позволяют воссоздать в развернутом виде внутреннюю
структуру нарушенного звена в распавшейся функции с по-
мощью вынесения вовне отдельных операций, строго соот-
ветствующих структуре дефекта, и последовательное выпол-
нение которых может привести к осуществлению пострадав-
шей функции.
6. Принцип системного воздействия на дефект. Он осно-
ван на концепции системного подхода к анализу дефекта (по
Л. С. Выготскому). Этот принцип предусматривает воздей-
ствие на нарушенную речь с опорой на другие психические фун-
кции — память, мышление, восприятие, воображение и т. д.
7. Принцип учета социальной природы человека, который
по словам А. Н. Леонтьева, является по своей природе соци-
альным существом, и все человеческое в человеке порождает-
ся его жизнью в условиях общества и созданной человечеством
культуры.
8. Психолого-педагогические принципы
1. Принцип «от простого — к сложному» выдвигает прежде
всего требования к подбору материала. В восстановительном
обучении широко применяется известный дидактический
принцип «от простого — к сложному». Однако при этом под-
вергается тщательному анализу степень сложности материала
в каждом случае и при каждой форме афазии, степень слож-
ности операций и действий больного. Это связано с тем, что
фактор сложности вербального и картинного материала совпа-
дает. Так, известно, что в норме и у детей и у взрослых более
элементарной единицей для восприятия и понимания явля-
ется слово, а при некоторых формах афазии, например, при сен-
сорной, наиболее простой единицей для восприятия и понима-
ния в грубых случаях его нарушения (и на начальных стадиях
