Васильев Л.С. Древний Китай. Том 2. Период Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.)
Подождите немного. Документ загружается.

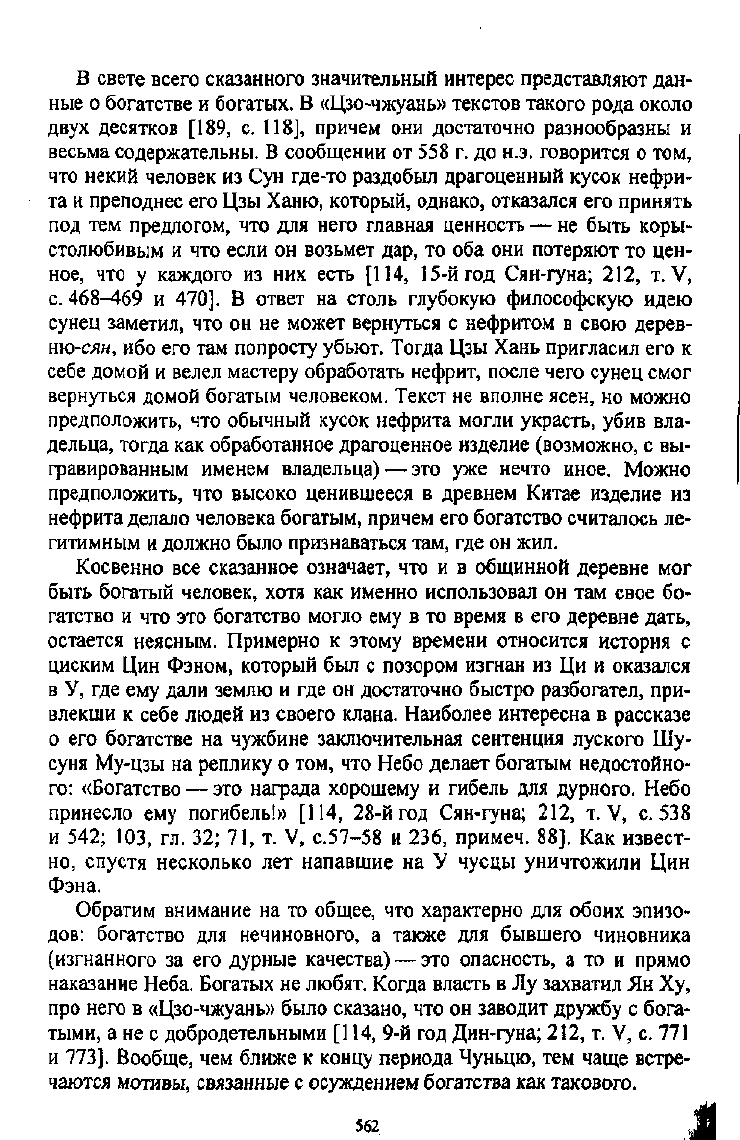
В свете всего сказанного значительный интерес представляют дан-
ные
о богатстве и богатых. В «Цзо-чжуань» текстов такого рода около
двух
десятков [189, с. 118], причем они достаточно разнообразны и
весьма содержательны. В сообщении от 558 г. до н.э. говорится о том,
что некий человек из Сун где-то раздобыл драгоценный кусок нефри-
та и преподнес его Цзы Ханю, который, однако, отказался его принять
под тем предлогом, что для него главная ценность — не быть коры-
столюбивым и что если он возьмет дар, то оба они потеряют то цен-
ное,
что у каждого из них есть [114, 15-й год Сян-гуна; 212, т. V,
с.
468^469
и 470]. В ответ на столь глубокую философскую идею
сунец заметил, что он не может вернуться с нефритом в свою дерев-
ню-сян,
ибо его там попросту
убьют.
Тогда Цзы Хань пригласил его к
себе домой и велел мастеру обработать нефрит, после чего сунец смог
вернуться домой богатым человеком. Текст не вполне ясен, но можно
предположить, что обычный кусок нефрита могли украсть, убив вла-
дельца, тогда как обработанное драгоценное изделие (возможно, с вы-
гравированным именем владельца) — это уже нечто иное. Можно
предположить, что высоко ценившееся в древнем Китае изделие из
нефрита
делало человека богатым, причем его богатство считалось ле-
гитимным и должно было признаваться там, где он жил.
Косвенно
все сказанное означает, что и в общинной деревне мог
быть богатый человек, хотя как именно использовал он там свое бо-
гатство и что это богатство могло ему в то время в его деревне дать,
остается неясным. Примерно к этому времени относится история с
циским
Цин
Фэном,
который был с позором изгнан из Ци и оказался
в
У, где ему дали землю и где он достаточно быстро разбогател, при-
влекши
к себе людей из своего клана. Наиболее интересна в рассказе
о
его богатстве на чужбине заключительная сентенция луского Шу-
суня Му-цзы на реплику о том, что Небо делает богатым недостойно-
го:
«Богатство — это награда хорошему и гибель для дурного. Небо
принесло
ему погибель!» [114, 28-й год Сян-гуна; 212, т. V, с. 538
и
542; 103, гл. 32; 71, т. V,
с.57-58
и 236, примеч. 88]. Как извест-
но,
спустя несколько лет напавшие на У чусцы уничтожили Цин
Фэна.
Обратим внимание на то общее, что характерно для обоих
эпизо-
дов: богатство для нечиновного, а также для бывшего чиновника
(изгнанного
за его дурные качества) — это опасность, а то и прямо
наказание
Неба. Богатых не любят. Когда власть в Лу захватил Ян Ху,
про
него в «Цзо-чжуань» было сказано, что он заводит
дружбу
с бога-
тыми,
а не с добродетельными [114, 9-й год Дин-гуна; 212, т. V, с. 771
и
773]. Вообще, чем ближе к концу периода Чуньцю, тем чаще встре-
чаются мотивы, связанные с осуждением богатства как такового.
562
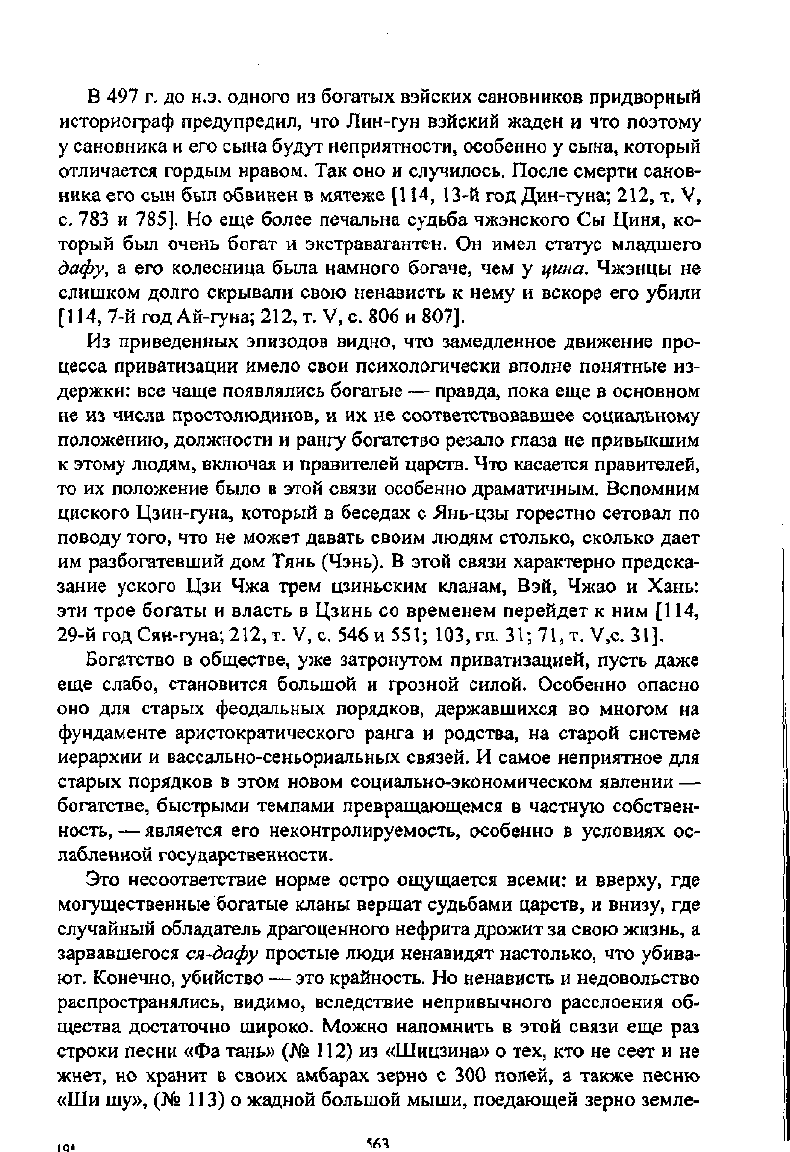
В 497 г. до н.э. одного из богатых вэйских сановников придворный
историограф предупредил, что Лин-гун вэйский жаден и что поэтому
у сановника и его сына
будут
неприятности, особенно у сына, который
отличается гордым нравом. Так оно и случилось. После смерти санов-
ника
его сын был обвинен в мятеже [114, 13-й гад Дин-гуна; 212, т. V,
с. 783 и 785]. Но еще более печальна
судьба
чжэнского Сы
Циня,
ко-
торый был очень богат и экстравагантен. Он имел
статус
младшего
дафу,
а его колесница была намного богаче, чем у
цина.
Чжэнцы не
слишком долго скрывали свою ненависть к нему и вскоре его убили
[114, 7-й год
Ай-гуна;
212, т. V, с. 806 и 807].
Из
приведенных эпизодов видно, что замедленное движение про-
цесса приватизации имело свои психологически вполне понятные из-
держки: все чаще появлялись богатые — правда, пока еще в основном
не из числа простолюдинов, и их не соответствовавшее социальному
положению, должности и рангу богатство резало глаза не привыкшим
к
этому людям, включая и правителей царств. Что касается правителей,
то их положение было в этой связи особенно драматичным. Вспомним
циского Цзин-гуна, который в
беседах
с Янь-цзы горестно сетовал по
поводу того, что не может давать своим людям столько, сколько
дает
им
разбогатевший дом Тянь
(Чэнь).
В этой связи характерно предска-
зание уского Цзи Чжа трем цзиньским кланам, Вэй, Чжао и Хань:
эти
трое богаты и власть в Цзинь со временем перейдет к ним [114,
29-й год Сян-гуна; 212, т. V, с. 546 и 551; 103, гл. 31; 71, т. V,c. 31].
Богатство в обществе, уже затронутом приватизацией, пусть
даже
еще слабо, становится большой и грозной силой. Особенно опасно
оно
для старых феодальных порядков, державшихся во многом на
фундаменте аристократического ранга и родства, на старой системе
иерархии и вассально-сеньориальных связей. И самое неприятное для
старых порядков в этом новом социально-экономическом явлении —
богатстве, быстрыми темпами превращающемся в частную собствен-
ность, — является его неконтролируемость, особенно в условиях ос-
лабленной государственности.
Это несоответствие норме остро ощущается всеми: и
вверху,
где
могущественные богатые кланы вершат судьбами царств, и внизу, где
случайный обладатель драгоценного нефрита дрожит за свою жизнь, а
зарвавшегося
ся-дафу
простые люди ненавидят настолько, что убива-
ют. Конечно, убийство — это крайность. Но ненависть и недовольство
распространялись, видимо, вследствие непривычного расслоения об-
щества достаточно широко. Можно напомнить в этой связи еще раз
строки песни «Фа
тань»
(№ 112) из «Шицзина» о тех, кто не сеет и не
жнет, но хранит в своих амбарах зерно с 300 полей, а также песню
«Ши шу», (№ 113) о жадной большой мыши, поедающей зерно земле-
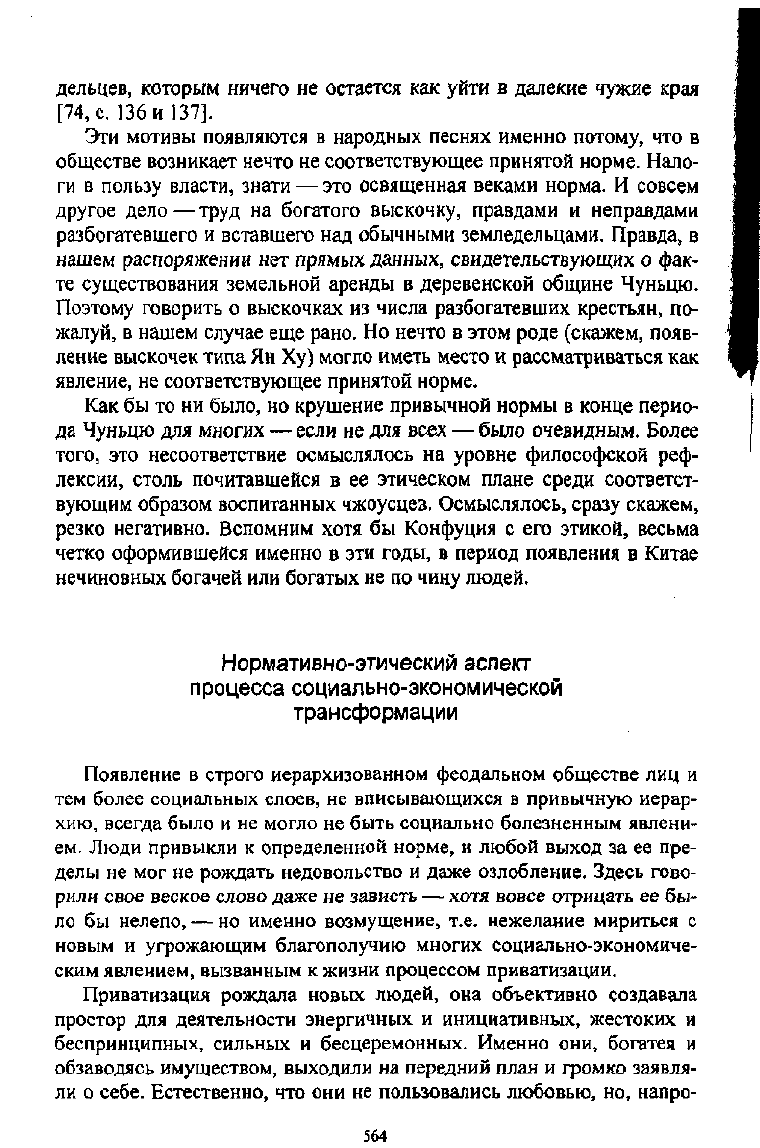
дельцев, которым ничего не остается как уйти в далекие
чужие
края
[74, с. 136 и 137].
Эти мотивы появляются в народных песнях именно потому, что в
обществе возникает нечто не соответствующее принятой норме. Нало-
ги в пользу власти, знати — это освященная веками норма. И совсем
другое
дело —
труд
на богатого выскочку, правдами и неправдами
разбогатевшего и вставшего над обычными земледельцами. Правда, в
нашем
распоряжении нет прямых данных, свидетельствующих о фак-
те существования земельной аренды в деревенской общине Чуньцю.
Поэтому говорить о выскочках из числа разбогатевших крестьян, по-
жалуй, в нашем
случае
еще рано. Но нечто в этом роде (скажем, появ-
ление выскочек типа Ян Ху) могло иметь место и рассматриваться как
явление,
не соответствующее принятой норме.
Как
бы то ни было, но крушение привычной нормы в конце перио-
да Чуньцю для многих — если не для
всех
— было очевидным. Более
того, это несоответствие осмыслялось на уровне философской реф-
лексии,
столь почитавшейся в ее этическом плане среди соответст-
вующим образом воспитанных чжоусцез. Осмыслялось, сразу скажем,
резко негативно. Вспомним хотя бы Конфуция с его этикой, весьма
четко оформившейся именно в эти годы, в период появления в Китае
нечиновных богачей или богатых не по чину людей.
Нормативно-этический аспект
процесса социально-экономической
трансформации
Появление
в строго иерархизованном феодальном обществе лиц и
тем более социальных слоев, не вписывающихся в привычную иерар-
хию, всегда было и не могло не быть социально болезненным явлени-
ем.
Люди привыкли к определенной норме, и любой
выход
за ее пре-
делы не мог не рождать недовольство и
даже
озлобление. Здесь гово-
рили
свое веское
слово
даже
не зависть — хотя вовсе отрицать ее бы-
ло бы нелепо, — но именно возмущение, т.е. нежелание мириться с
новым
и угрожающим благополучию многих социально-экономиче-
ским
явлением, вызванным к жизни процессом приватизации.
Приватизация
рождала новых людей, она объективно создавала
простор для деятельности энергичных и инициативных, жестоких и
беспринципных,
сильных и бесцеремонных. Именно они, богатея и
обзаводясь имуществом, выходили на передний план и громко заявля-
ли
о себе. Естественно, что они не пользовались любовью, но, напро-
564
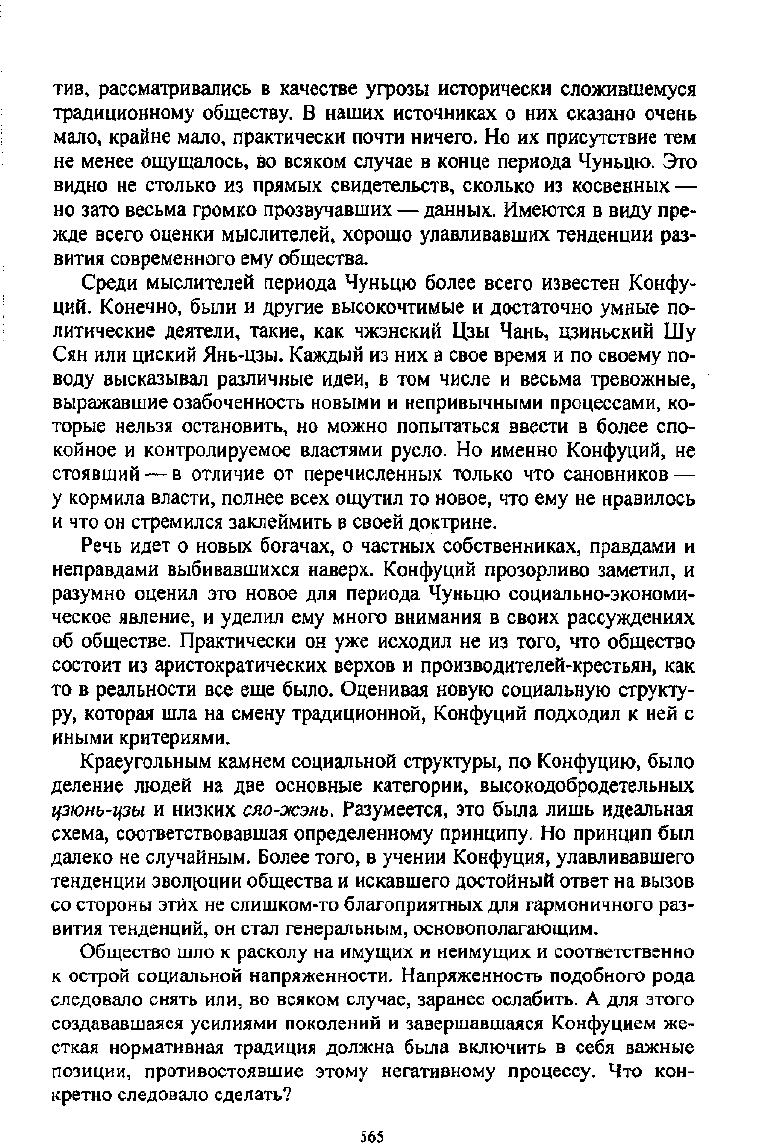
тив,
рассматривались в качестве угрозы исторически сложившемуся
традиционному обществу. В наших источниках о них сказано очень
мало,
крайне мало, практически почти ничего. Но их присутствие тем
не
менее ощущалось, во всяком
случае
в конце периода Чуньцю. Это
видно не столько из прямых свидетельств, сколько из косвенных —
но
зато весьма громко прозвучавших — данных. Имеются в виду пре-
жде всего оценки мыслителей, хорошо улавливавших тенденции раз-
вития
современного ему общества.
Среди мыслителей периода Чуньцю более всего известен Конфу-
ций.
Конечно, были и
другие
высокочтимые и достаточно умные по-
литические деятели, такие, как чжэнский Цзы Чань, цзиньский Шу
Сян
или циский Янь-цзы. Каждый из них в свое время и по своему по-
воду
высказывал различные идеи, в том числе и весьма тревожные,
выражавшие озабоченность новыми и непривычными процессами, ко-
торые нельзя остановить, но можно попытаться ввести в более спо-
койное
и контролируемое властями русло. Но именно Конфуций, не
стоявший
— в отличие от перечисленных только что сановников —
у кормила власти, полнее
всех
ощутил то новое, что ему не нравилось
и
что он стремился заклеймить в своей доктрине.
Речь идет о новых
богачах,
о частных собственниках, правдами и
неправдами выбивавшихся наверх. Конфуций прозорливо заметил, и
разумно оценил это новое для периода Чуньцю социально-экономи-
ческое явление, и
уделил
ему много внимания в своих рассуждениях
об обществе. Практически он уже исходил не из того, что общество
состоит из аристократических верхов и производителей-крестьян, как
то в реальности все еще было. Оценивая новую социальную
структу-
ру, которая шла на смену традиционной, Конфуций подходил к ней с
иными
критериями.
Краеугольным камнем социальной структуры, по Конфуцию, было
деление людей на две основные категории, высокодобродетельных
щюнь-цзы
и низких
сяо-жэнь.
Разумеется, это была лишь идеальная
схема, соответствовавшая определенному принципу. Но принцип был
далеко не случайным. Более того, в учении Конфуция, улавливавшего
тенденции
эволюции общества и искавшего достойный ответ на вызов
со стороны этих не слишком-то благоприятных для гармоничного раз-
вития
тенденций, он стал генеральным, основополагающим.
Общество шло к расколу на имущих и неимущих и соответственно
к
острой социальной напряженности. Напряженность подобного рода
следовало снять или, во всяком случае, заранее ослабить. А для этого
создававшаяся усилиями поколений и завершавшаяся Конфуцием же-
сткая
нормативная традиция должна была включить в себя важные
позиции,
противостоявшие этому негативному процессу. Что кон-
кретно
следовало
сделать?
565
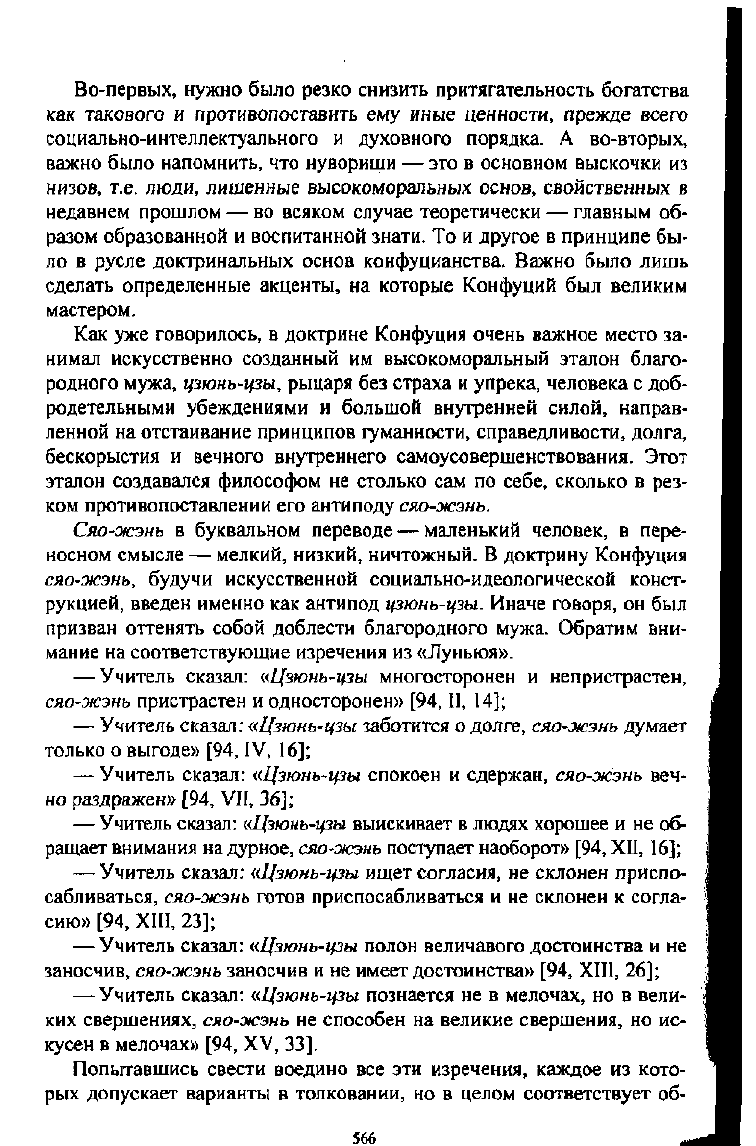
Во-первых, нужно было резко снизить притягательность богатства
как
такового и противопоставить ему иные ценности, прежде всего
социально-интеллектуального и
духовного
порядка. А во-вторых,
важно было напомнить, что нувориши — это в основном выскочки из
низов,
т.е. люди, лишенные высокоморальных основ, свойственных в
недавнем прошлом — во всяком
случае
теоретически — главным об-
разом образованной и воспитанной знати. То и
другое
в принципе бы-
ло в
русле
доктринальных основ конфуцианства. Важно было лишь
сделать определенные акценты, на которые Конфуций был великим
мастером.
Как
уже говорилось, в доктрине Конфуция очень важное место за-
нимал
искусственно созданный им высокоморальный эталон благо-
родного
мужа,
цзюнь-цзы,
рыцаря без
страха
и упрека, человека с доб-
родетельными убеждениями и большой внутренней силой, направ-
ленной
на отстаивание принципов гуманности, справедливости, долга,
бескорыстия и вечного внутреннего самоусовершенствования. Этот
эталон
создавался философом не столько сам по себе, сколько в рез-
ком
противопоставлении его антиподу
сяо-жэнь.
Сяо-жэнь
в буквальном переводе — маленький человек, в пере-
носном
смысле — мелкий,
низкий,
ничтожный. В доктрину Конфуция
сяо-жэнь,
будучи
искусственной социально-идеологической конст-
рукцией,
введен именно как антипод
цзюнь-цзы.
Иначе говоря, он был
призван
оттенять собой доблести благородного
мужа.
Обратим вни-
мание
на соответствующие изречения из
«Луньюя».
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
многосторонен и
не
пристрастен,
сяо-жэнь
пристрастен и односторонен» [94, II, 14];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
заботится о долге,
сяо-жэнь
думает
только о
выгоде»
[94, IV, 16];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
спокоен и сдержан,
сяо-жэнь
веч-
но
раздражен» [94, VII, 36];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
выискивает в людях хорошее и не об-
ращает внимания на дурное,
сяо-окэнь
поступает наоборот» [94, XII, 16];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
ищет согласия, не склонен приспо-
сабливаться,
сяо-жэнь
готов приспосабливаться и не склонен к согла-
сию»
[94, XIII, 23];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
полон величавого достоинства и не
заносчив,
сяо-жэнь
заносчив и не имеет достоинства» [94, XIII, 26];
— Учитель сказал:
«Цзюнь-цзы
познается не в мелочах, но в вели-
ких свершениях,
сяо-жэнь
не способен на великие свершения, но ис-
кусен в
мелочах»
[94, XV, 33].
Попытавшись
свести воедино все эти изречения, каждое из кото-
рых допускает варианты в толковании, но в целом соответствует об-
566
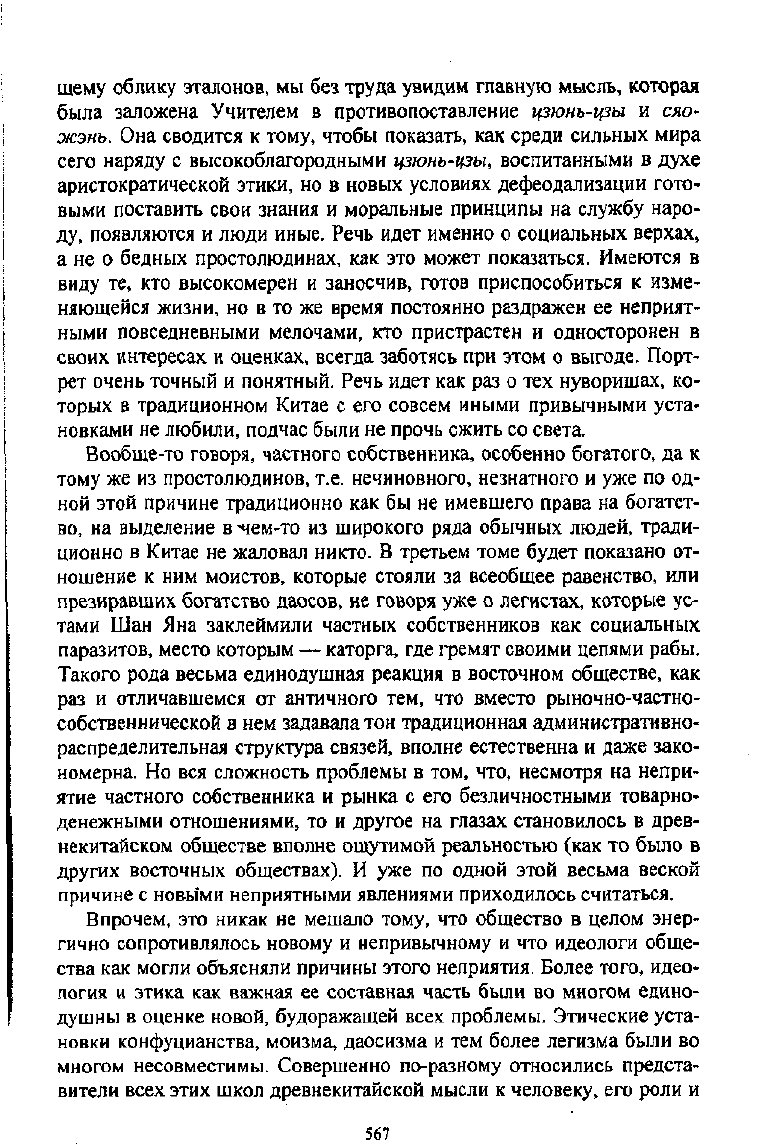
щему облику эталонов, мы без
труда
увидим главную мысль, которая
была заложена Учителем в противопоставление
цзюнъ-цзы
и сяо-
жэнъ.
Она сводится к
тому,
чтобы показать, как среди сильных мира
сего наряду с высокоблагородными
цзюнь-цзы,
воспитанными в
духе
аристократической этики, но в новых условиях дефеодализации гото-
выми поставить свои знания и моральные принципы на
службу
наро-
ду, появляются и люди иные. Речь идет именно о социальных
верхах,
а не о бедных простолюдинах, как это может показаться. Имеются в
виду те, кто высокомерен и заносчив, готов приспособиться к изме-
няющейся
жизни, но в то же время постоянно раздражен ее неприят-
ными
повседневными мелочами, кто пристрастен и односторонен в
своих интересах и оценках, всегда заботясь при этом о выгоде. Порт-
рет очень точный и понятный. Речь идет как раз о тех нуворишах, ко-
торых в традиционном Китае с его совсем иными привычными
уста-
новками
не любили, подчас были не прочь сжить со света.
Вообще-то говоря, частного собственника, особенно богатого, да к
тому же из простолюдинов, т.е. нечиновного, незнатного и уже по од-
ной
этой причине традиционно как бы не имевшего права на богатст-
во,
на выделение в -чем-то из широкого ряда обычных людей, тради-
ционно
в Китае не жаловал никто. В третьем томе
будет
показано от-
ношение
к ним моистов, которые стояли за всеобщее равенство, или
презиравших богатство даосов, не говоря уже о легистах, которые ус-
тами Шан Яна заклеймили частных собственников как социальных
паразитов, место которым — каторга, где гремят своими цепями рабы.
Такого рода весьма единодушная реакция в восточном обществе, как
раз и отличавшемся от античного тем, что вместо рыночно-частно-
собственнической в нем задавала тон традиционная административно-
распределительная
структура
связей, вполне естественна и
даже
зако-
номерна.
Но вся сложность проблемы в том, что, несмотря на непри-
ятие частного собственника и рынка с его безличностными товарно-
денежными отношениями, то и
другое
на глазах становилось в древ-
некитайском
обществе вполне ощутимой реальностью (как то было в
других
восточных обществах). И уже по одной этой весьма веской
причине
с новыми неприятными явлениями приходилось считаться.
Впрочем, это
никак
не мешало
тому,
что общество в целом
энер-
гично сопротивлялось новому и непривычному и что идеологи обще-
ства как могли объясняли причины этого неприятия. Более того, идео-
логия и этика как важная ее составная часть были во многом едино-
душны в оценке новой, будоражащей
всех
проблемы. Этические
уста-
новки
конфуцианства, моизма, даосизма и тем более легизма были во
многом несовместимы. Совершенно по-разному относились предста-
вители
всех
этих школ древнекитайской мысли к человеку, его роли и
567
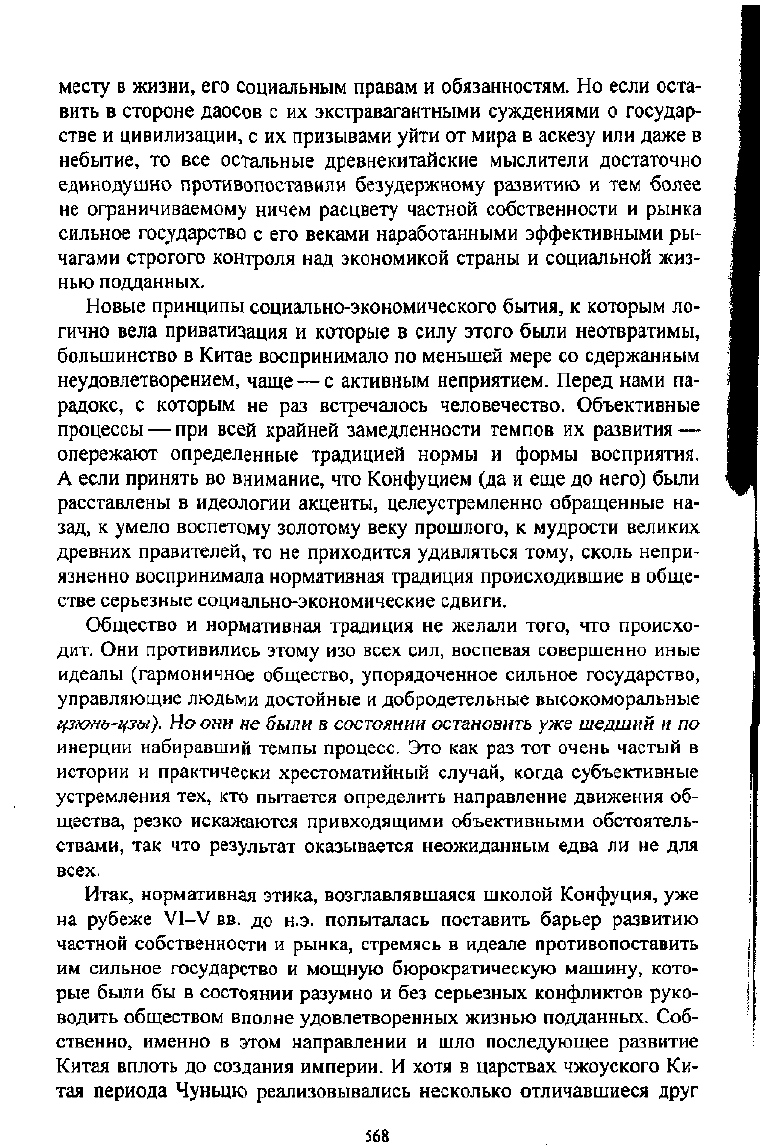
месту в жизни, его социальным правам и обязанностям. Но если оста-
вить в стороне даосов с их экстравагантными суждениями о государ-
стве и цивилизации, с их призывами уйти от мира в аскезу или
даже
в
небытие, то все остальные древнекитайские мыслители достаточно
единодушно противопоставили безудержному развитию и тем более
не
ограничиваемому ничем расцвету частной собственности и рынка
сильное государство с его веками наработанными эффективными ры-
чагами строгого контроля над экономикой страны и социальной жиз-
нью подданных.
Новые
принципы социально-экономического бытия, к которым ло-
гично вела приватизация и которые в силу этого были неотвратимы,
большинство в Китае воспринимало по меньшей мере со сдержанным
неудовлетворением, чаще — с активным неприятием. Перед нами па-
радокс, с которым не раз встречалось человечество. Объективные
процессы — при всей крайней замедленности темпов их развития —
опережают определенные традицией нормы и формы восприятия.
А если принять во внимание, что Конфуцием (да и еще до него) были
расставлены в идеологии акценты, целеустремленно обращенные на-
зад, к умело воспетому золотому веку прошлого, к мудрости великих
древних правителей, то не приходится удивляться
тому,
сколь непри-
язненно
воспринимала нормативная традиция происходившие в обще-
стве серьезные социально-экономические сдвиги.
Общество и нормативная традиция не желали того, что происхо-
дит. Они противились этому изо
всех
сил, воспевая совершенно иные
идеалы (гармоничное общество, упорядоченное сильное государство,
управляющие людьми достойные и добродетельные высокоморальные
грюнъ-цзы).
Но они не
были
в
состоянии
остановить уже шедший и по
инерции
набиравший темпы процесс. Это как раз тот очень частый в
истории
и практически хрестоматийный случай, когда субъективные
устремления тех, кто пытается определить направление движения об-
щества, резко искажаются привходящими объективными обстоятель-
ствами, так что
результат
оказывается неожиданным едва ли не для
всех.
Итак,
нормативная этика, возглавлявшаяся школой Конфуция, уже
на
рубеже
VI-V вв. до н.э. попыталась поставить барьер развитию
частной собственности и рынка, стремясь в идеале противопоставить
им
сильное государство и мощную бюрократическую машину, кото-
рые были бы в состоянии разумно и без серьезных конфликтов руко-
водить обществом вполне удовлетворенных жизнью подданных. Соб-
ственно,
именно в этом направлении и шло последующее развитие
Китая
вплоть до создания империи. И хотя в царствах чжоуского Ки-
тая периода Чуньцю реализовывались несколько отличавшиеся
друг
568
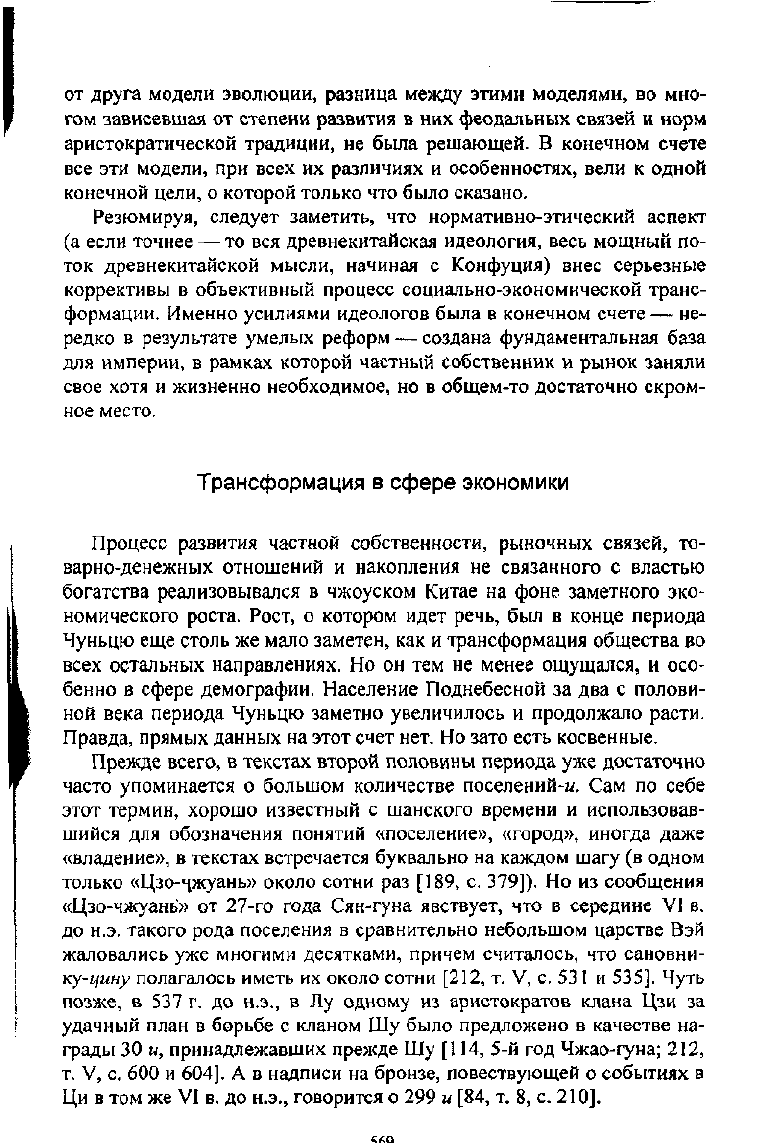
от
друга
модели эволюции, разница
между
этими моделями, во мно-
гом зависевшая от степени развития в них феодальных связей и норм
аристократической традиции, не была решающей. В конечном счете
все эти модели, при
всех
их различиях и особенностях, вели к одной
конечной
цели, о которой только что было сказано.
Резюмируя,
следует
заметить, что нормативно-этический аспект
(а
если точнее — то вся древнекитайская идеология, весь мощный по-
ток
древнекитайской мысли, начиная с Конфуция) внес серьезные
коррективы в объективный процесс социально-экономической транс-
формации.
Именно усилиями идеологов была в конечном счете — не-
редко в
результате
умелых
реформ — создана фундаментальная база
для империи, в рамках которой частный собственник и рынок заняли
свое хотя и жизненно необходимое, но в общем-то достаточно скром-
ное
место.
Трансформация
в
сфере
экономики
Процесс
развития частной собственности, рыночных связей, то-
варно-денежных отношений и накопления не связанного с властью
богатства реализовывался в чжоуском Китае на фоне заметного эко-
номического роста. Рост, о котором идет речь, был в конце периода
Чуньцю еще столь же мало заметен, как и трансформация общества во
всех
остальных направлениях. Но он тем не менее ощущался, и осо-
бенно
в сфере демографии. Население Поднебесной за два с полови-
ной
века периода Чуньцю заметно увеличилось и продолжало расти.
Правда, прямых данных на этот счет нет. Но зато есть косвенные.
Прежде всего, в текстах второй половины периода уже достаточно
часто упоминается о большом количестве поселений-и. Сам по себе
этот термин, хорошо известный с шанского времени и использовав-
шийся
для обозначения понятий «поселение»,
«город»,
иногда
даже
«владение», в текстах встречается буквально на каждом шагу (в одном
только
«Цзо-чжуань»
около сотни раз [189, с. 379]). Но из сообщения
«Цзо-чжуань»
от
27-го
года
Сян-гуна явствует, что в середине V! в.
до н.э. такого рода поселения в сравнительно небольшом царстве Вэй
жаловались уже многими десятками, причем считалось, что сановни-
ку-цину полагалось иметь их около сотни [212, т. V, с. 531 и 535]. Чуть
позже, в 537 г. до н.э., в Лу одному из аристократов клана Цзи за
удачный план в борьбе с кланом Шу было предложено в качестве на-
грады 30 и, принадлежавших прежде Шу [114, 5-й год Чжао-гуна; 212,
т. V, с. 600 и 604]. А в надписи на бронзе, повествующей о событиях в
Ци
в том же VI в. до н.э., говорится о 299 и [84, т. 8, с. 210].
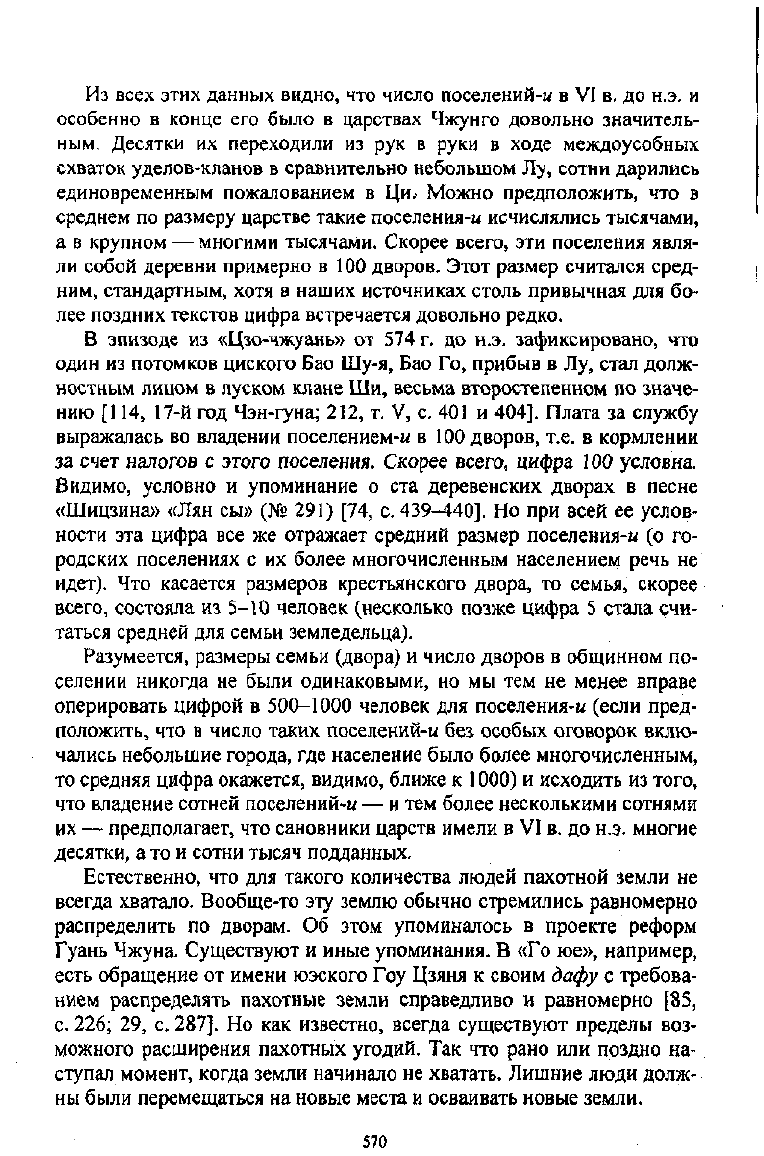
Из
всех
этих данных видно, что число поселений-u в VI в. до н.э. и
особенно
в конце его было в царствах Чжунго довольно значитель-
ным.
Десятки их переходили из рук в руки в
ходе
междоусобных
схваток уделов-кланов в сравнительно небольшом Лу, сотни дарились
единовременным пожалованием в Ци, Можно предположить, что в
среднем по размеру царстве такие поселения-u
ИСЧИСЛЯЛИСЬ
тысячами,
а в крупном — многими тысячами. Скорее всего, эти поселения явля-
ли
собой деревни примерно в 100 дворов. Этот размер считался сред-
ним,
стандартным, хотя в наших источниках столь привычная для бо-
лее поздних текстов цифра встречается довольно редко.
В эпизоде из
«Цзо-чжуань»
от 574 г. до н.э. зафиксировано, что
один
из потомков циского Бао Шу-я, Бао Го, прибыв в Лу, стал долж-
ностным
лицом в луском клане Ши, весьма второстепенном по значе-
нию
[114, 17-й год Чэн-гуна; 212, т. V, с. 401 и 404]. Плата за
службу
выражалась во владении поселением-м в 100 дворов, т.е. в кормлении
за
счет
налогов
с
этого
поселения.
Скорее
всего,
цифра 100 условна.
Видимо, условно и упоминание о ста деревенских дворах в песне
«Шицзина» «Лян сы» (№ 291) [74, с. 439—440]. Но при всей ее услов-
ности
эта цифра все же отражает средний размер поселения-u (о го-
родских поселениях с их более многочисленным населением речь не
идет). Что касается размеров крестьянского двора, то семья, скорее
всего, состояла из 5-10 человек (несколько позже цифра 5 стала счи-
таться средней для семьи земледельца).
Разумеется, размеры семьи (двора) и число дворов в общинном по-
селении
никогда не были одинаковыми, но мы тем не менее вправе
оперировать цифрой в
500-1000
человек для поселения-и (если пред-
положить, что в число таких поселений-u без особых оговорок вклю-
чались небольшие города, где население было более многочисленным,
то средняя цифра окажется, видимо, ближе к 1000) и исходить из того,
что владение сотней поселений-u — и тем более несколькими сотнями
их — предполагает, что сановники царств имели в VI в. до н.э. многие
десятки, а то и сотни тысяч подданных.
Естественно, что для такого количества людей пахотной земли не
всегда хватало. Вообще-то эту землю обычно стремились равномерно
распределить по дворам. Об этом упоминалось в проекте реформ
Гуань Чжуна. Существуют и иные упоминания. В «Го юе», например,
есть обращение от имени юэского Гоу
Цзяня
к своим
дафу
с требова-
нием
распределять пахотные земли справедливо и равномерно [85,
с. 226; 29, с. 287]. Но как известно, всегда
существуют
пределы воз-
можного расширения пахотных угодий. Так что рано или поздно на-
ступал момент, когда земли начинало не
хватать.
Лишние люди долж-
ны
были перемещаться на новые места и осваивать новые земли.
570
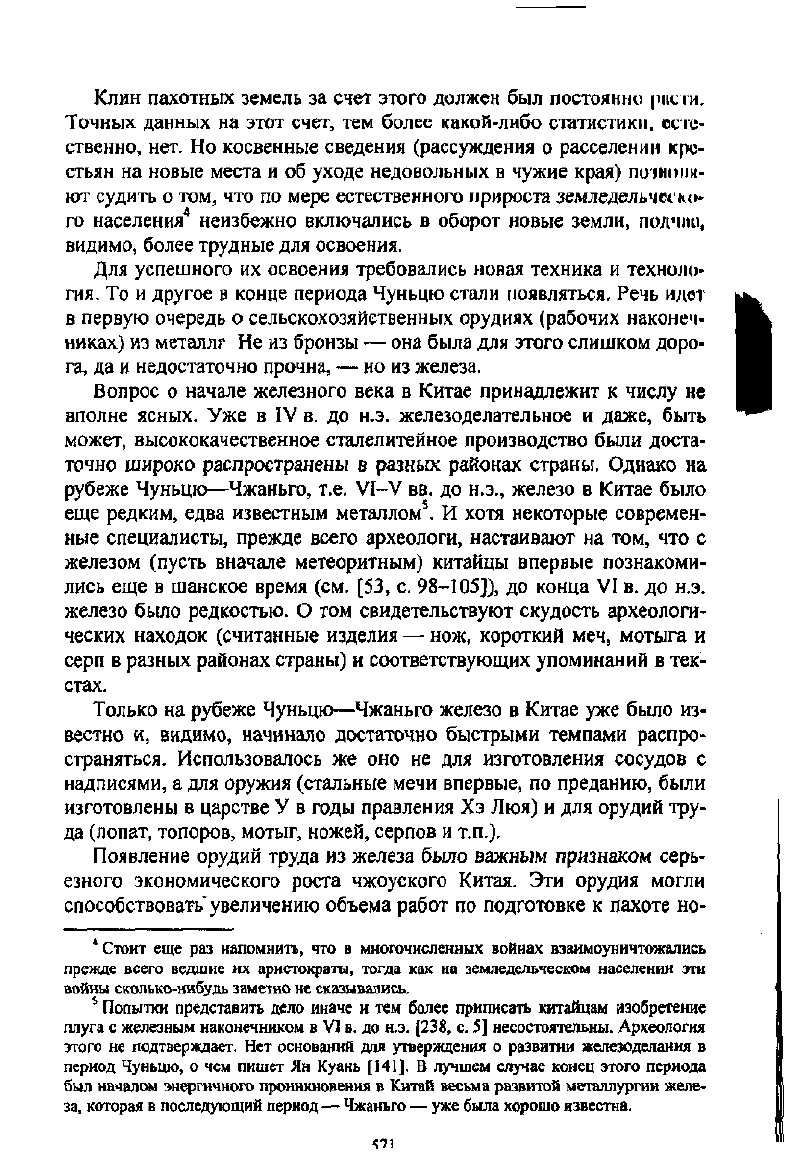
Клин
пахотных земель за счет этого должен был постоянно расти.
Точных данных на этот счет, тем более какой-либо статистики, есте-
ственно,
нет. Но косвенные сведения (рассуждения о расселении кре-
стьян
на новые места и об
уходе
недовольных в
чужие
края)
поншнн-
ют судить о том, что по мере естественного прироста земледелыкчх»-
го населения
4
неизбежно включались в оборот новые земли, подчпу,
видимо,
более трудные для освоения.
Для успешного их освоения требовались новая техника и техноло-
гия.
То и
другое
в конце периода Чуньцю стали появляться, Речь идет
в
первую очередь о сельскохозяйственных орудиях (рабочих наконеч-
никах) из металлг Не из бронзы — она была для этого слишком доро-
га, да и недостаточно прочна, — но из железа.
Вопрос о начале железного века в Китае принадлежит к числу не
вполне ясных. Уже в IV в. до н.э. железоделательное и даже, быть
может, высококачественное сталелитейное производство были доста-
точно широко распространены в разных районах страны. Однако на
рубеже
Чуньцю—Чжаньго, т.е. VI-V вв. до н.э., железо в Китае было
еще редким, едва известным металлом
5
. И хотя некоторые современ-
ные
специалисты, прежде всего археологи, настаивают на том, что с
железом (пусть вначале метеоритным) китайцы впервые познакоми-
лись еще в шанское время (см. [53, с.
98-105]),
до конца VI в. до н.э.
железо было редкостью. О том свидетельствуют скудость археологи-
ческих находок (считанные изделия — нож, короткий меч, мотыга и
серп в разных районах страны) и соответствующих упоминаний в тек-
стах.
Только на
рубеже
Чуньцю—Чжаньго железо в Китае уже было из-
вестно и, видимо, начинало достаточно быстрыми темпами распро-
страняться. Использовалось же оно не для изготовления сосудов с
надписями,
а для оружия (стальные мечи впервые, по преданию, были
изготовлены в царстве У в годы правления Хэ Люя) и для орудий тру-
да (лопат, топоров, мотыг, ножей, серпов и т.п.).
Появление
орудий
труда
из железа было важным признаком серь-
езного экономического роста чжоуского Китая. Эти орудия могли
способствовать* увеличению объема работ по подготовке к пахоте но-
* Стоит еще раз напомнить, что в многочисленных войнах взаимоуничтожались
прежде всего ведшие их аристократы,
тогда
как на земледельческом населении эти
войны
сколько-нибудь заметно не сказывались.
5
Попытки представить дело иначе и тем более приписать китайцам изобретение
плуга
с железным наконечником в VI в. до н.э. [238, с. 5] несостоятельны. Археология
этого не подтверждает. Нет оснований для утверждения о развитии железоделания в
период Чуньцю, о чем пишет Ян Куань [141]. В лучшем
случае
конец этого периода
был началом энергичного проникновения в Китай весьма развитой металлургии желе-
за, которая в последующий период — Чжаньго — уже была хорошо известна.
