Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

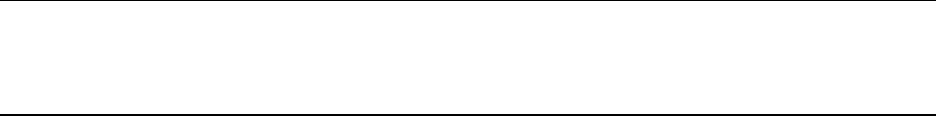
ВАС РФ. 2006. N 8. С. 24). Отмечается, что "принцип сепаратности... используется для
определения в фактах действительности той воли, которая имеет обязательственное и
вещное правовое последствие", что "теория вещного соглашения позволяет добавить
большей четкости в деление права на вещное и обязательственное, поскольку ведет это
деление еще дальше - к области договоров" (см.: Там же. С. 22, 24 и указ. там литературу).
Интересно отметить, с другой стороны, что закрепление в Code Napoleon
противоположного германскому консенсуального принципа перехода права
собственности по договору обосновывалось в том числе тем, что "следовало
отграничивать договор как таковой от его исполнения; договор перфекционировался
волей контрагентов, исполнение предполагало договор, но не идентифицировалось с ним"
(Petronio U. Vendita, trasferimento della proprieta e vendita di cosa altrui nella formazione del
Code civil e dell'Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch // Vendita e trasferimento della proprieta
nella prospettiva storico-comparatistica: Atti del Convegno Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca
17 - 21 aprile 1990. T. I / A cura di L. Vacca. Milano: Giuffre, 1991. P. 180). Это обоснование
показывает, что признание традиции лишь юридическим фактом исполнения
обязательства характерно для консенсуалистской системы, каковой является французская,
но не для классической системы традиции, которой следует в том числе российское право
и в которой передача вещи выступает юридическим фактом вещного права.
Утвердительный ответ на этот вопрос давался рядом русских дореволюционных
цивилистов. "...Область договора выходит за пределы обязательственных отношений... -
писал, например, Г.Ф. Шершеневич, полностью следуя в этом отношении взглядам
Савиньи и Виндшайда. - Договор лежит... в основании передачи вещи, которой создается
вещное право (вещный договор), - такой договор обязательственного отношения не
создает" <70>. "Традиция есть сочетание двух воль, т.е. договор, причем договор вещный,
т.е. он устанавливает вещное, а не обязательственное право" <71>, - отмечал другой
видный русский ученый, В.М. Хвостов. Общее деление сделок на вещные и
обязательственные в зависимости от их содержания проводил также В.И. Синайский,
признавая передачу как способ приобретения права собственности на движимое
имущество вещным договором <72>.
--------------------------------
<70> Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Т. II. СПб., 1902. С. 72.
<71> Хвостов В.М. Указ. соч. С. 240.
<72> См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002 [по изд. 1914
г.]. С. 163, 235.
В советской цивилистике конструкция вещного договора за редкими исключениями
не признавалась. Не получила она пока еще общего признания и в современной
российской доктрине. Впервые ее развернутое обоснование было предпринято в курсе
договорного права М.И. Брагинского и В.В. Витрянского. "Определенное
распространение, - пишет М.И. Брагинский, - получили договоры, которые самим фактом
своего создания порождают у контрагента вещное право, прежде всего право
собственности. В соответствующих случаях передача вещи происходит на стадии
возникновения договора, а не его исполнения. Имеются в виду так называемые вещные
договоры, объектом которых служат не действия обязанного лица, а непосредственно
соответствующие вещи, как это вообще свойственно правоотношениям вещным" <73>.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3-е, стереотипное).

<73> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.:
Статут, 1997. С. 224 и сл.
К сожалению, М.И. Брагинский подходит к категории вещного договора с
чрезмерной осторожностью, ограничивая ее применение - по крайней мере, на страницах
указанной работы - лишь областью реального договора дарения. Кроме того, в его
рассуждениях отчетливо прослеживается жесткая обусловленность самой этой категории
фактом невозникновения между сторонами договора обязательственного отношения <74>.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3-е, стереотипное).
<74> См.: Там же. С. 225 и сл.
Такая же обусловленность характерна для концепции вещного договора,
обосновываемой В.В. Витрянским. "...Передача дарителем имущества в качестве дара
одаряемому, - указывает автор, - имеет своим результатом непосредственное
возникновение у одаряемого права собственности на подаренное имущество. Иными
словами... заключение договора дарения не порождает никаких обязательственно-
правовых отношений, а приводит к возникновению права собственности на подаренное
имущество у одаряемого" <75>. Суть вещного договора В.В. Витрянский видит в том, что
его заключение, "не порождая обязательственно-правовых отношений, приводит к
возникновению вещных прав" <76>.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о
передаче имущества" (Книга 2) включена в информационный банк согласно публикации -
Статут, 2002 (издание 4-е, стереотипное).
<75> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. II: Договоры о
передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 337.
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о
передаче имущества" (Книга 2) включена в информационный банк согласно публикации -
Статут, 2002 (издание 4-е, стереотипное).
<76> Там же. С. 340.
Вместе с тем автор, хотя и рассматривает в качестве примера вещного договора в
основном, как и М.И. Брагинский, реальное дарение, все же не ограничивает сферу его
действия этим последним: "...в данном случае речь идет не о единственном исключении из
общего правила, а, действительно, об особой категории гражданско-правовых
договоров..." <77>. Иллюстрируя это утверждение, В.В. Витрянский относит к числу
вещных договоров также соглашение об установлении сервитута <78> и закрепление
собственником имущества за действующими государственными и муниципальными
предприятиями на праве хозяйственного ведения. "Таким образом, - заключает автор, -
когда мы говорим о вещных договорах, речь идет действительно об особой категории
гражданско-правовых договоров" <79>. Традицию в их числе автор не называет.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о
передаче имущества" (Книга 2) включена в информационный банк согласно публикации -
Статут, 2002 (издание 4-е, стереотипное).

<77> Там же.
<78> Однако и в этом примере видна жесткая связь, существующая, в представлении
автора, между конструкцией вещного договора и отсутствием обязательственного
отношения: квалифицируя соглашение об установлении сервитута в качестве вещного
договора, он делает оговорку о том, что речь идет лишь о безвозмездном соглашении, т.е.
не устанавливающем обязательства по оплате (см.: Там же).
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о
передаче имущества" (Книга 2) включена в информационный банк согласно публикации -
Статут, 2002 (издание 4-е, стереотипное).
<79> Там же.
Установление зависимости между признанием за договором вещного характера и
отсутствием (невозникновением) обязательственного отношения выглядит, однако,
несколько искусственным. В самом деле, почему договор, производящий эффект как в
обязательственной, так и в вещно-правовой сфере, следует называть только
обязательственным? Не правильнее ли было бы признать за ним качества как
обязательственного, так вещного договора? Именно акцентирование указанной
зависимости не позволяет, по всей видимости, авторам квалифицировать в качестве
вещного договора традицию, если только она не выражена в реальном дарении, ибо ее
правовые последствия состоят не только в вещном, но и в обязательственном эффекте -
прекращении обязательства (если традиция совершается во исполнение последнего) или
его установлении (при заключении реальных договоров).
Лишь немногие исследователи, не замыкающие понятие вещного договора на
производстве последним исключительно вещного эффекта, признают вещным договором
традицию как таковую <80>.
--------------------------------
<80> См., напр.: Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок и
проблемы их восприятия в российской доктрине, законодательстве и судебной практике:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 13, 42 и сл.; Бекленищева И.В. Указ. соч.
С. 17 и сл. (впрочем, последний автор выражается достаточно туманно, говоря о "вещном
договоре о передаче вещи, который лежит в основе возникновения права собственности и
других вещных прав", не приводя примеров и не уточняя, идет ли речь о российском
праве, немецком праве или праве вообще; к сожалению, мне не представилась
возможность ознакомиться по этому поводу с монографией автора, изданной по
материалам диссертации). Лишь вскользь и только говоря о традиции, совершенной под
условием, квалифицирует передачу в качестве вещной сделки Е.А. Крашенинников (см.:
Крашенинников Е.А. Фактический состав сделки // Очерки по торговому праву: Сб. науч.
тр. Вып. 11 / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2004. С. 8, сн. 11).
В целом же следует отметить отрицательное, как правило, отношение современных
отечественных цивилистов (по крайней мере, тех, кто когда-либо высказывался по этому
вопросу) как к категории вещной сделки вообще, так и к признанию такой сделкой
традиции в частности.
Противники использования категории вещного договора в российском гражданском
праве ссылаются обычно на то, что передача "является лишь одним из возможных для
сторон вариантов определения перехода права собственности на отчуждаемую вещь и
сама по себе, вне "обязательственного" (основного) договора, не имеет
правопорождающего значения" <81>, что, далее, передача имущества не по договору об
отчуждении, а по иному правовому основанию "никакого вещно-правового эффекта...
породить не способна" <82>.
--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<81> Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. II. С. 50 (автор - Е.А.
Суханов).
<82> Синицын С.А. Указ. соч. С. 7.
Думается, что отчасти это неприятие вызвано недоразумением терминологического
характера. Вопрос состоит в том, что, собственно, следует понимать под вещным
договором. Ведь, возражая против введения в научный оборот категории вещной сделки,
авторы приведенных критических замечаний на самом деле выступают против признания
за традицией абстрактного характера, т.е. ее независимости от основного договора-каузы.
Но если в германском праве вещный договор есть в то же время абстрактный договор, то
это - исключительная особенность германского правопорядка, которая не должна
приводить к отождествлению самих этих понятий. Когда говорится о вещном договоре,
имеется в виду лишь то, что он приводит (неважно, самостоятельно или в совокупности с
иными элементами сложного состава) к вещному, а не обязательственному эффекту <83>.
Именно такой смысл вкладывал в данное понятие и сам Савиньи, впервые предложивший
и обосновавший категорию вещных договоров (dingliche Vertrage), противопоставив их
договорам обязательственным <84>. Это же значение вкладывают в него и современные
немецкие юристы, а также уже цитированные дореволюционные и современные
российские цивилисты. Понимаемая таким образом категория вещного договора вовсе не
противоречит ни идее функциональной генетической связи, которая существует между
обязательственной сделкой и традицией, обусловливая транслятивный эффект последней
<85>, ни тому бесспорному положению, что обязательственный договор "имплицитно"
содержит в себе волю сторон перенести на основании него право собственности и
оправдывает переход такового <86>. Все это имеет отношение к понятию каузы традиции
(iusta causa traditionis) и не исключает ее квалификации как вещной сделки.
--------------------------------
<83> Не исключается, однако, что наряду с вещным он может иметь и
обязательственный эффект, будучи направленным, например, на прекращение
обязательства.
<84> См.: Savigny F.C. Op. cit. Bd III. § 140. S. 313.
<85> См.: Vacca L. Usucapione (diritto romano) // Enciclopedia del Diritto. T. XLV. S. 1.
(ma Milano), 1992. P. 1103 s.
<86> См.: Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian
Tradition. Cape Town, 1992. P. 240.
С другой стороны, искусственным представляется возражение, что "в догматической
конструкции "вещный договор" необоснованно сливаются понятия сделки и
правоотношения, ею порожденного, ибо сам по себе юридический факт вещным или
обязательственным быть не может" <87>. В действительности никакого слияния здесь не
происходит, и идея отождествления юридического факта с юридическим отношением
вряд ли пришла бы кому-нибудь в голову. Нет, вопреки мнению автора, необходимости
разграничивать и без того несопоставимые понятия договора и правоотношения, а
приводимый им факт относительности и срочности связи сторон договора, не
характерных для вещных отношений <88>, ничего не доказывает.
--------------------------------
<87> Синицын С.А. Указ. соч. С. 9. Этот контрдовод цитируется также в упомянутом
учебнике гражданского права МГУ (с. 51), и лишь поэтому заслуживает специального
рассмотрения.
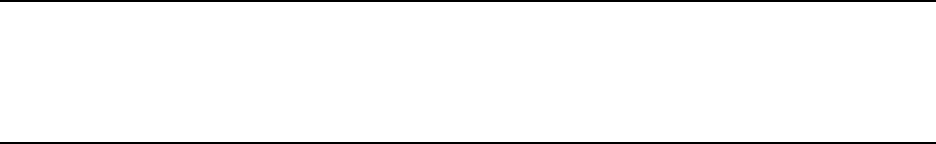
<88> См.: Синицын С.А. Указ. соч. С. 10. Примерно в этом же ключе рассуждает
В.В. Бердников. "Характерной чертой распорядительных сделок, к числу которых
относится и традиция, - пишет он, - является "возможность непосредственно изменить
имущественно-правовое положение лица, что условно именуется транспортной функцией.
Разумеется, при самой процедуре переноса какого-либо субъективного права,
совершаемой лицом посредством распорядительной сделки, еще не возникает вещного
правоотношения, в противном случае пришлось бы признать существование последнего
между двумя лицами, что противоречило бы сути абсолютных правоотношений. Вещный
эффект появляется только как последствие совершения распорядительной сделки,
окончательное свидетельство результата ее действия. Строго говоря, распорядительная
сделка делает возможным возникновение у лица определенного субъективного права (в
ряде случаев одновременно с принятием имущества (завладения им)), но сама по себе
характеризуется только совершением конкретного действия по переносу такого права, и
поэтому вряд ли ее можно наделять вещным свойством" (Бердников В.В. Указ. соч. //
Законодательство. 2002. N 2. С. 18 и сл.). Конечный вывод, однако, вовсе не вытекает из
предшествующих ему рассуждений. К тому же явно отвлеченным от реальности выглядит
представление автора о "процедуре переноса права" как некотором растянутом во времени
процессе, как если бы речь шла о перенесении из одного места в другое материального
объекта.
Напрасно и опасение Е.А. Суханова, что введение в научный оборот "конструкции
"вещной сделки"... привело бы к неизбежному смешению вещных и обязательственных
прав, противоречащему основным принципам отечественного правопорядка" <89>.
Остается прежде всего непонятным, каким именно образом это могло бы произойти. Как
раз напротив, данная категория, если ее понимать в установленном выше собственном
смысле, послужила бы четкому разграничению вещного и обязательственного эффекта
договора, а также самих оснований возникновения вещных и обязательственных прав,
способствуя противостоянию все более нарастающей угрозе девальвации этого
классического деления в отечественном правоведении: девальвации, которой, заметим,
невольно содействуют сами сторонники четкого разграничения сфер вещного и
обязательственного права, отказываясь, например, признать действительность
обязательственного договора, заключенного неуправомоченным отчуждателем, и,
напротив, недействительность совершенной во исполнение такого договора традиции
<90>, или же отрицая вещный характер права арендатора по отношению ко всем третьим
лицам, существующего наряду с его обязательственным правом по отношению к
арендодателю <91>, или, наконец, отторгая деление сделок в отечественном праве на
обязательственные и распорядительные (вещные).
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<89> Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. II. М., 2005. С. 51.
<90> Подробнее см. § 50.
<91> Против этого, напр.: Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском
гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. N 2. С. 24. Если встать на
позицию, согласно которой арендатор имеет лишь обязательственное право (= право
требования), то совершенно непонятно, в чем, в таком случае, состоит отличие его
правового статуса от весьма прекарного - именно вследствие исключительно
обязательственного характера - положения нанимателя в римском праве, не имевшего
самостоятельной защиты своего владения вещью (которое поэтому и именовалось
невладением, а держанием) и подверженного риску быть в любое время его лишенным (в
том числе быть изгнанным с участка, из помещения) самим наймодателем. Кроме того,
если предположить, что современный арендатор не имеет никакого вещного права, был
бы непонятен и объект предоставленной ему вещно-правовой защиты (ст. 305 ГК).
На очевидном недоразумении покоится и приведенное выше возражение о
неспособности традиции, совершенной по договору, не направленному на отчуждение
имущества, породить вещный эффект. Действительно, правовым последствием традиции -
как римской, так и современной - не всегда является переход права собственности,
поскольку передача производится также в связи с договорами, не направленными на
отчуждение имущества, такими, как наем, ссуда, хранение и т.п. Да и по договору купли-
продажи, если момент перехода права собственности определен сторонами иначе, чем в
законе, т.е. приурочен не к передаче, а к иному действию (например, уплате покупной
цены) или к определенному моменту времени, традиция переносит фактическое владение,
но не собственность <92>. Однако автор указанного возражения не учитывает
(отождествляя, возможно, понятия вещного эффекта и перехода права собственности)
такое несомненно вещное последствие передачи как переход титульного владения,
сопровождающийся предоставлением новому владельцу вещно-правовой защиты против
любых нарушений его владения, в том числе и со стороны собственника (ст. 305 ГК).
--------------------------------
<92> "Само по себе слово tradere, - отмечал применительно к римской традиции
Аранджио-Руиц, - всегда двусмысленно... поскольку, в то время как traditio, строго говоря,
имеет место только, когда вещь передается одним лицом другому в условиях,
допускающих переход собственности, о ней говорится тем не менее также и в смысле
переноса того фактического господства, каковым является владение..." (Arangio-Ruiz V.
Op. cit. P. 164).
Недавно концепция традиции как вещного договора <93> встретила новую
интенсивную критику в двух статьях проф. Е.А. Суханова, из которых одна специально
посвящена вопросу о применимости категорий вещной и распорядительной сделки в
отечественной правовой системе <94>. По мнению автора, в действительности перед нами
не более чем "искусственная, надуманная проблема выделения "вещных договоров" или
"распорядительных сделок" <95>, а обращение к этим категориям ряда современных
российских цивилистов является на самом деле лишь "одним из новейших способов
"размывания" четких различий вещных и обязательственных прав" <96>.
--------------------------------
<93> Изложенная мной ранее в докторской диссертации (см.: Тузов Д.О. Общие
учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской
доктрине, законодательстве и судебной практике: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск,
2006. С. 13, 42 и сл.), а также в одной из статей (см.: Он же. О правовой природе традиции.
С. 71 - 75).
<94> См.: Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском
праве. С. 5 - 26; Он же. Вещные права и права на нематериальные объекты // Вестник ВАС
РФ. 2007. N 7. С. 16 - 31.
<95> Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве.
С. 26.
<96> Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты. С. 26.
Проведя сравнительный анализ института сделок, направленных на переход права
собственности, в германском и в российском праве, автор заключает: "В качестве общего
итога можно отметить, что германские конструкции "вещного договора" и
"распорядительной сделки" в современной отечественной литературе обычно
используются явно не до конца осознанно и во всяком случае не в том значении, которое
придает им немецкая цивилистика. Употребление же этих категорий в значении, понятном
только авторам соответствующих работ, без нужды осложняет и запутывает ситуацию:
ведь такие понятия неизвестны действующему законодательству и, следовательно, не
могут иметь реального практического значения, а по существу становятся некими
умозрительными конструкциями, с помощью которых можно обосновывать очередные
теоретические изыски и "парадигмы" <97>.
--------------------------------
<97> Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве.
С. 23.
К сожалению, делая указанный вывод, уважаемый профессор мог судить о позиции
автора этих строк лишь по автореферату диссертации, на который он и ссылается, а
точнее, лишь по одному из содержащихся в нем положений, вынесенных на защиту <98>.
С этим, по-видимому, связано и замечание о том, что рассматриваемые категории
используются в отечественной литературе "в значении, понятном только авторам
соответствующих работ".
--------------------------------
<98> См.: Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок... С. 13.
Но и независимо от этого вызывает удивление тезис, согласно которому
рассматриваемые понятия не могут иметь реального практического значения вследствие
их неизвестности действующему законодательству. То обстоятельство, что отечественное
законодательство не использует специальных терминов, обозначающих данные понятия,
еще не свидетельствует о том, что сами эти понятия ему неизвестны <99>. Единственным
критерием здесь может быть лишь содержание правовой нормы. Если традиция является
сделкой, а это признает и Е.А. Суханов, то ее квалификация как сделки должна,
разумеется, определяться теми правовыми последствиями, которые с ней нормально
связываются. А поскольку такие последствия состоят в том числе в непосредственном
переходе права <100>, то эта сделка является распорядительной; поскольку же - если речь
идет о сделках, направленных на отчуждение имущества, - переходит вещное право
(право собственности), то это вещная сделка. Термины и их значения в данном случае
совпадают с соответствующими германскими, что связано с известным феноменом
циркуляции правовых моделей и не должно вызывать неприятие и негативные эмоции,
если учитывать, что гражданское право родилось не в России и что его институты были
заимствованы отечественной цивилистикой в первую очередь из пандектного права
<101>.
--------------------------------
<99> Заметим, что действующее законодательство в равной мере не употребляет и не
употребляло терминов "реальные" и "консенсуальные", "каузальные" и "абстрактные", а
до принятия нового ГК также "ничтожные" и "оспоримые сделки". Однако вряд ли из
этого можно делать вывод - и с этим, думаю, согласится сам автор цитированного
замечания, - что обозначаемые ими понятия (пришедшие к нам, заметим, как и
обсуждаемые здесь категории, из немецкой пандектистики) "не имеют реального
практического значения" и являются "непродуманными заимствованиями" германских
правовых конструкций.
<100> Разумеется, по общему правилу, ибо как стороны, так и закон могут
установить иной порядок перехода права.
<101> В связи с этим представляется несколько преувеличенной негативная оценка
Е.А. Сухановым заимствования отдельных зарубежных правовых моделей. Это касается в
том числе и такого института, традиционно приводимого автором в качестве яркого
примера "непродуманных попыток прямой рецепции чужеродных правовых конструкций"
(Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве. С. 6), как
англо-американский trust, который, как указывает автор, "эффективно работает лишь в

системе "права справедливости" (law of equity), причем еще и в ее соотношении с
системой "общего права" (commom law)" (Там же. С. 15). Реалии правового развития в
Европе свидетельствуют об обратном. Еще в 80-х гг. прошлого века к Гаагской конвенции
от 1 июля 1985 г. о трасте присоединились такие типичнейшие представители
континентальной (романистической) правовой традиции, как Германия, Италия и
Нидерланды. Эта Конвенция "позволила гражданам стран [традиции] civil law
пользоваться англо-американским трастом, который сейчас процветает также и в Италии
и который позволяет преодолевать даже противоречащие [ему] нормы внутреннего права,
имеющие императивный характер. <...> Таким путем институт common law может ввиду
преимуществ, которые он в состоянии предоставить, использоваться гражданами
[государств] civil law, без того, чтобы подобная трансплантация вызвала отторжение со
стороны принимающей системы" (Galgano F. La globalizzazione nello specchio del diritto.
Bologna: Il Mulino, 2005. P. 87; См. также: Malaguti M. Ch. Il trust // Atlante di diritto privato
comparato. 4a ed. / A cura di F. Galgano con la collaborazione di F. Ferrari e G. Ajani. Bologna:
Zanichelli, 2006. P. 203). Судебная и административная практика, например, Италии,
ратифицировавшей Конвенцию в 1989 г., "широко и благосклонно восприняли самые
различные формы применения внутреннего траста, окончательно развеивая таким образом
сомнения насчет легитимности этого института и признавая его полную совместимость с
итальянским правопорядком. В этом смысле траст был верно обоснован судебной
практикой силой [действия] феноменов глобализации и shopping'а права..." (Manes P. Il
trust in Italia // Atlante di diritto privato comparato. P. 204). А между тем и в этой стране еще
"немногие десятилетия назад о трасте говорили как о фигуре, далекой от нашей правовой
цивилизации, для нас почти непостижимой" (Galgano F. Op. cit. P. 87). По-видимому,
институт траста является для континентального права не таким уж чужеродным, особенно
если учесть, что импульсы для своего развития он получал именно от римского права,
хотя и не был последнему известен (см.: Циммерман Р. Римское право и гармонизация
частного права в Европе // Древнее право. Ius antiquum. 15. 2005. С. 171). Проблема, таким
образом, состоит, вероятно, не в принципиальной несовместимости иностранных
правовых институтов с национальным правопорядком, а в том, как правильно вписать их
в реципирующую правовую систему.
Следует, конечно, согласиться с Е.А. Сухановым в том, что традиция "сама по себе,
вне "обязательственного" (основного) договора, не имеет правопорождающего значения"
<102>, что стороны желают перехода права собственности уже при заключении
обязательственного договора, который, пользуясь выражением Циммермана,
"имплицитно" содержит в себе эту их волю. Однако данное наблюдение, верное само по
себе, не имеет доказательного значения в рассматриваемом вопросе. В любой правовой
системе, в том числе и германской, никто, как правило, не заключает обязательственные
договоры об отчуждении лишь ради того, чтобы обязаться: при нормальном положении
вещей всегда предполагается переход права собственности. Существенно, однако, то, что
и при германской, и при российской системе (в отличие от так называемых
консенсуалистских систем) договор об отчуждении создает, по общему правилу, лишь
обязательство; для вещного же эффекта необходима новая сделка, пусть и совершаемая во
исполнение сделки основной, обязательственной. И положение не меняется от того, что в
германском праве такой сделкой служит особое соглашение о переходе права
собственности, а в российском - традиция. Думаю, это трудно отрицать также и с позиций
Е.А. Суханова, справедливо признающего традицию в российском праве юридической
сделкой (хотя и односторонней).
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права" (под ред. Е.А. Суханова)

включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<102> Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. II. М., 2005. С. 50.
Однако обратимся к конкретным возражениям, выдвинутым этим автором против
отстаиваемой здесь позиции по существу.
"...В значительной мере типичной для наших работ последнего времени, - отмечает
Е.А. Суханов, - является, например, позиция Д.О. Тузова, по мнению которого "традиция
(передача вещи) как вид предоставления есть распорядительная вещная каузальная
двусторонняя сделка", которая "как и всякая сделка, может быть действительной или
недействительной, ничтожной или оспоримой". С точки зрения германской доктрины это
высказывание представляет собой явное недоразумение: во-первых, "вещные сделки" -
основная разновидность "распорядительных сделок", поэтому их "двойная" квалификация
становится излишней; во-вторых, и те, и другие всегда имеют абстрактный характер, ибо в
противном случае теряет смысл их отделение от "обязательственных" (каузальных)
сделок; в-третьих, сама по себе передача вещи... является чисто фактическим действием,
не представляя собой даже элемента юридического состава. Главное же здесь - прямо и
упорно обосновываемая автором возможность оспаривания таких "сделок" (наряду с само
собой разумеющейся аналогичной возможностью для "обязательственных сделок"),
кардинально расходящаяся с основной идеей выделения "вещных" сделок в германском
праве. | В итоге приходится признать, что названный автор... создает собственные
категории "вещных" и "распорядительных" сделок, не имеющие почти ничего общего с их
классическими аналогами. При этом необходимость их использования в российском
гражданском праве остается не только недоказанной, но и непосредственно ведущей к
дальнейшему разрушению современного отечественного имущественного (гражданского)
оборота..." <103>.
--------------------------------
<103> Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском
праве. С. 16.
Прежде чем ответить на эту критику (на которой считаю уместным остановиться
подробно ввиду ее показательности для образа аргументации ряда современных
отечественных цивилистов <104>), хотелось бы обратить внимание, что ее автор, говоря о
"явном недоразумении" "с точки зрения германской доктрины", не учитывает, что
традиция рассматривается мной в качестве распорядительной и вещной сделки отнюдь не
с точки зрения германской доктрины, а на основе реалий российского права, хотя и с
использованием категорий немецкой пандектистики, из которой - не будем забывать этого
- выросла российская наука гражданского права ("факт родства", явно недооцениваемый
автором) и понятийный аппарат которой составляет фундаментальную основу последней.
--------------------------------
<104> Из последнего ср., напр.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и
практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 712 и сл. (автор - Р.С.
Бевзенко): "Очевидно, что между конструкцией германской вещной сделки... и передачей
вещи российского гражданского права существует большая разница, а потому слепое
перенесение германских юридических воззрений на нашу правовую почву - большая
ошибка"; Васильев Г.С. Передача движимой вещи // Вестник ВАС РФ. 2006. N 12. С. 26:
"Исполнение обязательства по передаче вещи в собственность не является соглашением
между должником и кредитором о переходе права собственности. <...> | ...Передача не
является распорядительной сделкой, и доктринальные споры об абстрактном или
каузальном характере традиции лишены оснований". Этот последний автор идет, однако,
дальше Е.А. Суханова, отрицая за традицией даже общепризнанное значение modus'а
приобретения права собственности: "...Передача не является соглашением о переходе
права и способом приобретения собственности..." (Там же. С. 27).
Утверждение автора о создании мной собственных категорий вещных и
распорядительных сделок, не имеющих "почти ничего общего с их классическими
аналогами", и тем самым об "искажении классических подходов" <105>, нуждается в
качестве критерия истинности прежде всего в выявлении упомянутых классических
аналогов и подходов, а их следует, полагаю, усматривать скорее в концепции Савиньи,
прямо признававшего традицию, как показано выше, вещным договором, еще
безотносительно к его характеристике в качестве абстрактного, - концепции, к которой
Е.А. Суханов в своей полемике, к сожалению, не обращается. Но и с точки зрения
современных представлений, отличие российской системы перехода права собственности
по договору от германской, состоящее в том, что первой неизвестно какое-либо особое
соглашение о передаче собственности, отделенное, подобно германской Einigung, от
передачи вещи (соглашение, конечно, имеется, однако оно имманентно самой традиции
как согласованному действию), равно как неизвестен ей и принцип абстрактности
вещного договора <106>, отнюдь не препятствует, как будет показано далее,
использованию германских категорий распорядительной и вещной сделки также и в
российском праве.
--------------------------------
<105> Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты. С. 28.
<106> Впрочем, существует и иное мнение на этот счет, о котором речь пойдет
немного ниже.
Теперь по существу. Во-первых, в том, что касается "двойной" квалификации
традиции, такая квалификация произведена по общепринятому классификационному
принципу - от общего к частному. Распорядительные сделки могут быть как вещными, так
и не относиться к таковым (например, цессия). Как вещная сделка, традиция является,
следовательно, разновидностью сделок распорядительных. "Двойная" квалификация
обусловлена, таким образом, последовательностью научного анализа и является - в той
форме, в которой она сформулирована, - лишь результатом последнего.
Во-вторых, утверждение о том, что распорядительные и вещные сделки всегда
имеют абстрактный характер, формально верно, как уже говорилось, лишь с точки зрения
действующего немецкого права, а по существу и для этого последнего верно только
отчасти. Высказывая его, автор ограничивается лишь немецкой кодификационной
системой, не принимая во внимание иные правопорядки, отличные от германского, а
также реальную практику применения самого BGB в Германии. Между тем, как было
справедливо замечено, "абстрактность не является неотъемлемым признаком вещного
договора: она может быть предусмотрена для вещного договора в одном правопорядке, но
может и не быть предусмотрена в другом. Мотивы (к BGB. - Д.Т.) имеют в виду, что по
замыслу разработчиков ГГУ вещный договор является абстрактным, но не более того...
Практика применения названного кодифицированного акта создала многочисленные
исключения из абстрактности вещного договора, который в настоящее время чаще не
является таковым" <107>.
--------------------------------
<107> Туктаров Ю.Е. Указ. соч. С. 32, сн. 5.
Действительно, сравнение с другими правовыми системами (в том числе с
австрийской, на которую ссылается сам автор <108>) показывает, что деление сделок на
обязательственные и вещные проводится и в отсутствие принципа абстрактности
последних, основываясь лишь на различии в их правовом эффекте, как это было,
собственно, при появлении данных категорий и в Германии <109>. Достаточно
обратиться, например, к итальянскому праву, не знающему принципа абстрактности
вещного договора. "Договор может быть квалифицирован также в зависимости от
последствий, которые он производит... - пишет автор одного из наиболее авторитетных в
