Стасюлевич М.М. (сост.) История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768 - 1096гг.)
Подождите немного. Документ загружается.

551
Век Григория VII Гильдебранда и начало борьбы пап с императорами
ти, потому что Вормский конкордат был от-
ступлением от системы Григория VII... Кон-
кордат утверждал политическую зависи-
мость духовенства; он предоставлял импе-
рии огромное влияние на судьбу церкви, и
выборы, делаемые в присутствии императо-
ра, не могли быть еще свободными. Отчего
же папизм согласился на такую сделку?
Только потому, что Каликст должен был ус-
тупить силе обстоятельств. В духовной ре-
форме Григорий нашел опору в мирянах; он
переломил упорство епископов и духовен-
ства, подняв на них массы. Но в вопросе об
инвеституре задеты были интересы светско-
го общества, и папство должно было усту-
пить такой огромной оппозиции. Папы не
могли бороться с общественным мнением,
потому что на нем только и покоился их
нравственный перевес...
Историки обыкновенно называют борь-
бу императора Генриха IV с Григорием VII
Гильдебрандом войной за инвеституру, то
есть за право назначения и утверждения лиц
на духовные места, но, собственно говоря,
инвеститура и симония (продажа духовных
мест) послужили только поводом к окон-
чательному разрыву между главой империи
и главой церкви; существенная причина са-
мой борьбы была несравненно важнее, по-
тому что дело шло не больше и не меньше,
как о том, быть или не быть светской влас-
ти. Деятельность Григория VII, в чем бы она
ни обнаруживалась, была направлена к со-
вершенному уничтожению государствен-
ности: короли и императоры, по его поли-
тической теории, были только вассалами
папского престола. Светские государи не
могли принять на себя такой роли, потому
борьба Пап с императорами продолжалась
долго и по окончании вопроса об инвести-
туре; конкордат Вормский (1122 г.), имев-
ший целью умиротворить христианство, на
деле был одним перемирием. Вражда пап-
ства и империи разжигалась силой обстоя-
тельств; она приостановилась после Генри-
ха IV, чтобы тем с большей силой возобно-
виться при императорах последующего
Швабского дома (XII и XIII вв.). Гогеншта-
уфены имели высокое понятие об импера-
торском достоинстве. Генрих IV еще пре-
данный католик; как католик, он преклонил-
ся перед Григорием VII; Фридрих II Гоген-
штауфен, при своей религиозной терпимо-
сти, выступил за пределы католичества и
явился предвестником идей нового време-
ни. Люди будущего всегда падают уже по-
тому, что они превышают меру потребнос-
тей современного им общества. Папство
торжествует при Григории VII; оно господ-
ствует при Иннокентии и преследует Гоген-
штауфенов, пока последняя их отрасль не
сложила своей головы на эшафоте. Но тор-
жество пап не могло быть прочно, потому
что их победа была бы разрушением всяко-
го государства, смертью национальных ин-
дивидуальностей. Дело Генриха IV и Гоген-
штауфенов было делом будущего, и если
люди, защищавшие его, погибли, то само
дело не могло погибнуть. Настанет день,
когда государство приобретет свою незави-
симость от церкви, даже пойдет далее:
включит ее в свои пределы, сохранив, од-
нако, все уважение к отдельным веровани-
ям. Папство может исчезнуть, но государ-
ство сохранится; как преходящая форма,
папство имеет временную задачу. Государ-
ство коренится в самой природе человека;
оно вечно настолько, насколько его призва-
ние будет совпадать с существованием че-
ловеческого рода.
Такой взгляд на вековую борьбу, разде-
лявшую империю от папизма, дает нам воз-
можность беспристрастно взглянуть на ге-
роев обоих враждебных станов. Страсти,
взволновавшие тогдашнее общество, долго
раздавались в истории. Гибелины (Гогенш-
тауфены) и с ними все дорожившие граж-
данской свободой, говорят с ужасом о ти-
рании Гильдебранда, честолюбии Иннокен-
тия и узурпации пап. Гвельфы и с ними все
верующие в католичество и папизм, как в
отражение вечной истины, проклинают Ген-
риха IV и Гогенштауфенов. Но эти обоюд-
ные проклятия свидетельствуют о заблуж-
дении партий: история не должна прокли-
нать. Мы владеем безусловной истиной не
больше, как и наши отцы; за что мы будем
вменять им в преступление их ошибки, ког-
да мы должны сами признаться, что прини-
маемое нами за истину заключает также в
себе долю заблуждения? Папы имели при-
чину защищать независимость церкви, по-

552
От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)
тому что зависимая церковь не могла бы
выполнять своей высокой задачи. Но разве
из этого одного следует, что противники ее
независимости в XI в. должны быть осуж-
дены на проклятие? Церковь в то время ра-
зумела под своей независимостью и свобо-
дой безусловную власть в делах духовных
и беспредельное влияние на светские дела:
независимость церкви обращалась в зави-
симость государства. Но государство, по
своей сущности, должно быть свободно,
потому что оно выражает собой националь-
ную независимость. Таким образом, Гибе-
лины, борясь с папизмом, боролись за свя-
щенное дело, за свободу гражданской влас-
ти. Несчастный Генрих IV, скептический
Фридрих II должны быть оба восстановле-
ны в своей чести. Реактивные стремления
и восторгание перед Средними веками мно-
го содействовали успехам папизма: Григо-
рий и Иннокентий были слишком идеали-
зированы. Мы отдаем им справедливость,
но мы хотим остаться справедливы и к им-
ператорам, которые, помимо своих страс-
тей и заблуждений, расчищали дорогу бу-
дущему. Справедливая оценка прошедше-
го не есть еще оправдание всего, что было
совершено прошедшим; так может посту-
пать фатализм. Объяснять прошедшее не
значит еще его принимать. Мы не возводим
заблуждения людей на степень закона; мы
осуждаем пороки Генриха IV и гордыню Го-
генштауфенов. Но мы не оправдываем и до-
ктрин прошедшего; наше время – не Сред-
ние века; оно не может желать ни тирании
пап, ни тирании светской власти. Деспо-
тизм, в какой бы форме ни являлся, досто-
ин осуждения уже потому, что он оскорб-
ляет достоинство человека. Если он и при-
водит к добру, то такова воля Божья; если
же Божеству угодно обращать и дурные
страсти людей на пользу человечества, то
это не препятствует нам бичевать дурные
страсти. Слава добра принадлежит Богу; от-
ветственность за зло тяготеет над челове-
ком.
Григорий VII реформирует церковь,
обязав духовенство к безбрачию; но он не
довершил бы своего дела, если бы церковь
осталась в зависимости от светской влас-
ти; потому Григорий нападает на симонию
и инвеституру. Папа совершенно прав, и с
первого раза не совсем понятно, почему
император противится реформе, клоня-
щейся к независимости церкви. Но вник-
нем в самую глубь идеи Григория. Какое
он имел представление о духовной и свет-
ской власти? Каковы, по его понятиям,
должны быть их взаимные отношения?
По теории Григория
1
, светская власть
опирается на демона, а Папа исходит от
Сына Божия, совечного Отцу. Эта гордая
доктрина вызвала негодование даже у тако-
го писателя, как Боссюэт (XVII в.). «Обще-
ство человеческое,– говорит он,– подчине-
ние, власть королей над подданными, уста-
новлены не гордыней, но разумом, не
дьяволом, но Божеством». Чтобы объяс-
нить себе источник презрения Григория VII
к светской власти, достаточно представить
то положение, в котором она находилась в
XI в.: это была свирепая сила, одержимая
самыми дурными страстями. Кто мог при-
знать перст Божий в ежедневных насилиях,
хищничестве, разврате и преступной рос-
коши? Ко всему этому, Григорий в своих
суждениях опирался на принцип более глу-
бокий; его суждения были логическим вы-
водом христианского спиритуализма. Об-
ласть светской власти составляет внешний
мир, оружие, победы, земные блага; область
же церкви относится к душе и Богу. Пото-
му спиритуализм более терпит, нежели при-
знает внешнюю жизнь; он бежит ее, как цар-
ства сатаны. Чем же могло представиться
такому учению достоинство, вызывающее
честолюбивые виды, почести, гордость, од-
ним словом, все то, что христианство бичу-
ет под именем пороков? Не был ли Григо-
рий последователен, когда он объявил де-
мона источником светской власти?
Христианский спиритуализм Григория VII
обнаруживается особенно в сравнении, ко-
торое он проводит между королем и пасты-
рем церкви: «Посмотрите на королей, ког-
да они на одре смерти; чтобы уйти от ада,
чтобы свергнуть с себя иго своих грехов в
день Судный, они ищут и умоляют о помо-
щи пастыря церкви. Покажите мне, не го-
ворю духовное лицо, но мирянина, который
1
См. его послания ниже.
553
Век Григория VII Гильдебранда и начало борьбы пап с императорами
просил бы короля о спасении своей души?
Может ли сам император, посредством та-
инства крещения, исторгнуть младенца из
власти демона? Есть ли на земле такой вла-
ститель, который своим словом претворил
бы хлеб и вино в тело и кровь Господню?
Могут ли они вязать и решить на земле и
на небе? Все это доказывает превосходст-
во и преимущество пастырского сана». Да-
лее, он продолжает параллель между коро-
лями и церковными пастырями в их жизни.
«Если мы,– пишет Григорий,– рассмотрим
всю историю от начала мира и до наших
дней, то не найдем ни одного короля, ни
императора, который сравнился бы своим
благочестием с бесчисленными святыми,
презревшими мир. Не говоря об апостолах
и мучениках, кто из них может сравниться
со св. Антонием, св. Мартином, св. Бене-
диктом? Где видели императора, который
воскрешал бы мертвых, возвращал зрение
слепым, исцелял бы прокаженных?.. Такое
ничтожество сильных земли происходит от
того, что Божьи люди пренебрегали пустой
славой и предпочитали вечное спасение
мирским делам, между тем как короли и им-
ператоры, увлеченные ложной славой, бо-
лее любили земные наслаждения, нежели
духовную радость» (Epist. VIII, 21).
Григорий, называя с упреком сильных
земли детьми гордыни, сам страдает гордо-
стью в своем сравнении королей с пастыря-
ми. Но опять в его гордости нет ничего лич-
ного; им руководит сознание божественно-
сти церкви. Еще св. Амвросий (De dignitate
sacerdotali) сказал, что «...высота епископ-
ского звания не может быть сравнена ни с
чем; мир преклоняется перед блеском свет-
ской власти, но, по сравнению с достоинст-
вом пастыря, оно то же, что олово перед зо-
лотом». Григорий был, следовательно, ве-
рен этой логике, когда писал Вильгельму
Завоевателю, что Бог поставил две власти
для управления всем миром: апостольскую
и королевскую; Папа выразил классически
их взаимные отношения: «Мир физический
освещается двумя светилами, более значи-
тельными прочих, – солнцем и луной: в
нравственном порядке вещей Папа изобра-
жает солнце, а король занимает место
луны» (Epist. VII, 26). Позднейшие богосло-
вы приняли это сравнение весьма серьезно
и пустились высчитывать размеры солнца
и луны, чтобы вывести отсюда с точностью,
во сколько Папа превышает светского го-
сударя. Один из них нашел, что Папа боль-
ше императора в 1744 раза, но Боден
(Boden, известный французский публицист
XVI в.), в насмешку над богословами, по-
правил вычисление и доказал, что, по Пто-
лемею и арабским астрономам, Папа выше
императора в 6645 раз и
7
/
8
...
Одним словом, докторина Григория VII
вела к уничтожению всякой светской влас-
ти. Отлучение и свержение Генриха было
не самой большей узурпацией, которую
только позволил себе Папа; в его письмах
находятся образчики несравненно больших
притязаний. Из них видно, что Григорий
думал не об одном подчинении себе свет-
ской власти; он имел в виду быть госуда-
рем всех государств Европы. Когда после
смут, последовавших за свержением Генри-
ха, князья германские повергли император-
скую корону к стопам Григория, Папа вос-
пользовался этим обстоятельством, чтобы
наложить на главу империи такую прися-
гу, которая не оставляла бы никакого со-
мнения об отношении двух властей. Король
Германии дал Папе присягу, обещая ему
верность вассала. Формула, заимствован-
ная по этому случаю у феодального права,
делала императора человеком (homo)
Папы. Итак, весь христианский мир сделал-
ся папским феодом.
Но Григорий не довольствовался одной
неопределенной властью сюзерена; он ис-
кал прямой власти над всеми христиански-
ми государствами. По его словам, «Карл
Великий предложил всю Саксонию папам,
с помощью которых он завоевал ее» (Epist.
VIII, 23). На авторитет того же Карла ссы-
лался он, когда заявлял требования дани от
Франции; он писал туда своим легатам:
«Надобно сказать всем французам и стро-
го приказать, чтобы каждый дом платил св.
Петру, по крайней мере, один денарий в год,
если они признают его своим отцом и пас-
тырем, на основании древнего обычая, ус-
тановленного Карлом Великим». В Испа-
нии притязания Григория были еще обшир-
нее: «Вам небезызвестно, что со времен

554
От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)
глубокой древности ваше королевство счи-
тается собственностью св. Петра; права св.
Петра не утратились, и если Испания заня-
та язычниками, то права пап не потеряли
силы». Притязания Григория не были пус-
тыми словами: он предписывает, чтобы хри-
стиане, отнимая земли у язычников, прися-
гали в верности св. престолу. Он идет да-
лее и объявляет, что для него лучше видеть
Италию под игом неверных, нежели в ру-
ках христиан, которые отказались бы пла-
тить дань св. Петру (Epist. I, 7).
Англия была завоевана Вильгельмом
Нормандским. Завоеватель, будучи на-
столько же хорошим политиком, как и храб-
рым воителем, искал нравственной поддер-
жки в Риме. Папа был очень рад вмешаться
в светские дела и разрешил герцогу Нор-
мандии вступить в Англию для приведения
этой страны в повиновение св. престолу. Ко-
роль Англосакский и его приверженцы
были отлучены от церкви; знамя Римской
церкви и перстень были чем-то вроде инве-
ституры, которая ставила завоеванную
страну в зависимость от пап. Григорий, еще
как архидьякон, принял деятельное участие
в переговорах по этому делу; сделавшись
Папой, он требовал вассальной присяги от
нового короля. В этом отказал ему гордый
завоеватель, но тем не менее согласился
платить дань, какую вносили англосакские
короли.
Требовательность Григория объясняется
духом самого времени. Папа считался наме-
стником Христа; короли, препоручая свои
государства св. Петру, думали, что они тем
самым ставят себя под покровительство
Бога. В Рим в то время прибыл сын Дмит-
рия, русского князя; он объявил Григорию
свое желание получить княжество из его рук,
как дар св. Петра, и предлагал дать ему при-
сягу в верности. Папа согласился и надел на
него корону именем Петра; он присоединил
к этому, что глава апостолов не преминет
покровительствовать ему своим заступниче-
ством перед Богом и что он даст ему славу в
этой жизни и вечное спасение за гробом
(Epist. II, 74). Сохранилась присяга графов
Прованса, которой они отдавались во власть
Богу, св. апостолам Петру и Павлу и госпо-
дину Папе. Григорий даже делал королей в
знак своего светского могущества: на сино-
де в Далмации легаты Григория предостави-
ли герцогу этой страны знамя, меч, скипетр
и корону вместе с королевским титулом от
имени св. престола. Дело шло о том, чтобы
оторвать Далмацию от Константинополя и
Греческой церкви...
Подобные притязания Григорий VII выс-
казывал везде, где мог, и осуществлял их
то силой, как завоеватель, то союзом с дру-
гими завоевателями: весь Запад должен был
сделаться данником и вассалом св. престо-
ла. Притязания его были так огромны, что
трудно понять, как даже и в XI столетии
человек, обладавший высоким умом, мог
мечтать о чем-нибудь подобном. Новейшие
защитники Григория VII, как, например,
немецкий ученый Фогт
1
, говорят, что не
надобно буквально понимать слов Григо-
рия, что великий Папа не думал быть мо-
нархом вселенной, но только искал незави-
симости церкви. По нашему мнению, под-
чинение западных народов, которого
требовал себе Григорий, не должно считать
чем-нибудь оригинальным; в этом подчине-
нии Папа искал не гарантий церковной не-
зависимости; это подчинение вытекало само
собой из идей христианского спиритуализ-
ма об отношении светской власти к духов-
ной, а потому и Григорий VII пришел к зак-
лючению о необходимости сделать Папу
верховным сюзереном всех государей, то
есть основать всемирную монархию в хри-
стианской форме...
Конечно, действительное влияние Григо-
рия далеко не соответствовало его безгра-
ничному честолюбию. Три государя властво-
вали в ту эпоху на Западе, короли Франции,
Англии и Германии: все трое были против
Папы. Григорий сам говорит, что никто из
тогдашних королей не заходил так далеко в
симонии, как Филипп I, король Франции. С
самого вступления на престол Папа писал
самые грозные письма епископам Галлии:
«Или король откажется от симонии, или
французы, пораженные мечом отлучения,
откажут ему в повиновении, если не пред-
1
Voigt. Hildebrand, als Papst Gregorius VII, und
sein Zeitalter. Weimar. 1815.
555
Век Григория VII Гильдебранда и начало борьбы пап с императорами
почтут бросить христианскую веру». Папа
требует от епископов, чтобы они осуждали
короля; если же он не послушает, то и они
должны прекратить повиноваться ему и зап-
ретить церковное богослужение во всей
Франции: «Если же и после такого наказа-
ния король не исправится, то мы, с Божией
помощью, будем стараться лишить его ко-
роны всеми мерами, какие только находят-
ся в нашем распоряжении». Никогда еще
Папа не обращался так дерзко с королем
Франции, но Григорию пришлось ограни-
читься одними угрозами. Быть может, он бо-
ялся, что галликанское духовенство, мало-
благосклонное к притязаниям Рима, отка-
жется следовать за ним в случае борьбы с
королем, или война с империей не позволи-
ла ему завязать новой борьбы, но вражда Гри-
гория VII с Филиппом осталась без дальней-
ших последствий.
Рим оказал нравственную помощь Виль-
гельму Завоевателю; обвиняют даже Григо-
рия, как соучастника тех насилий, которые
позволили себе нормандцы в отношении
англосакского духовенства. Но новый ко-
роль Англии не был способен служить ору-
дием пап. Он не отверг папского декрета о
безбрачии духовенства, но удержал за со-
бой инвеституру, несмотря на все соборные
запрещения: «Я желаю,– говорил он,– дер-
жать в своей руке все пастырские жезлы Ан-
глии». Когда Папа, напоминая ему обеща-
ния, сделанные, быть может, перед вторже-
нием, требовал вассальной присяги, Виль-
гельм отвечал ему: «Я посылаю вам сбор
св. Петра, потому что так поступали и мои
предшественники. Но дать присягу вернос-
ти я не хочу и не могу, потому что не обе-
щал, и не вижу, чтобы мои предшественни-
ки делали что-нибудь подобное в отноше-
нии ваших». Такой отказ должен был
оскорбить Папу, но он скрыл свое неудо-
вольствие. Король Англии пошел далее: он
запретил епископам и архиепископам посе-
щать Рим. Григорий горько жаловался на то
своему легату: «Ни один государь, даже
языческий, никогда не смел подумать о том,
что сделал ныне Вильгельм. Легат должен
ему сделать по этому поводу замечания, но
весьма осторожно; Папа прощает коро-
лю его заблуждения, в воспоминание пре-
жней дружбы; но если король не остановит-
ся, то тем привлечет на себя гнев св. Пет-
ра» (Epist. VII, 1)...
Очевидно, обстоятельства были силь-
нее Григория VII: несмотря на все его мо-
гущество, он должен был щадить королей
Франции и Англии; если он решился на-
пасть на Генриха IV, то только потому, что
в Германии нашлись ему союзники, кото-
рые ожидали повода к восстанию против
императора.
La papauté et l’empire, с. 64–100; 167–181.
СТАТУТ ОБ ИЗБРАНИИ ПАП
НИКОЛАЯ II. 1059 г.
Во имя Господа Бога и Спасителя наше-
го Иисуса Христа, в лето от воплощения его
1059-е, апреля, индикта 12. По прочтении
святейшего Евангелия, под председатель-
ством достопочтеннейшего и блаженнейше-
го Николая, апостолического владыки, в па-
триаршем Латеранском соборе, именуемом
Константиновским, в присутствии уважае-
мых архиепископов, епископов, аббатов и
достопочтенных пресвитеров и дьяконов.
Вышеупомянутый достопочтенный перво-
святитель, постановляя правила, относи-
тельно избрания верховных пап, изрек:
«Известно вашей святости, возлюбленные
братия и соепископы, а равно и вам, млад-
шие члены Христовы, небезызвестно,
сколько потерпел после смерти, блаженной
памяти, господина Стефана, предшествен-
ника нашего, этот апостольский престол,
которому я служу, по милости Божией, и
каким частым ударам и потрясениям он под-
вергался в последнее время со стороны тор-
гашей симоновской ереси (simoniacae
haeresis), вследствие чего столп Бога живо-
го, казалось, уже почти поколебался, и мре-
жа верховного ловца, от поднявшихся бурь,
принуждена была погрузиться в бездну кру-
шения. Поэтому, если благоугодно вашему

556
От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)
братству, мы должны, при помощи Божи-
ей, благоразумно позаботиться о том, что-
бы это зло, ожив – чего Боже избави, – не
одержало верха. Таким образом, властью,
полученной нами от наших предшественни-
ков и других святых отцов, определяем и
постановляем, чтобы после смерти перво-
святителя Римской вселенской церкви, сна-
чала кардиналы приступали к соглашению
относительно нового избрания, тщательно
наперед обсудив дело, с соблюдением дол-
жной чести и уважения (salvo debito honore
et reverentia) к возлюбленнейшему сыну на-
шему, Генриху (IV), нынешнему королю и
будущему, по воле Божией, императору, на
что уже через его посла, канцлера Ланго-
бардии, мы дали согласие; также к его пре-
емникам, которые получили бы этот сан от
апостольского престола. Приняв предосто-
рожность, чтобы недуг купли не вторгся
каким-либо образом, благочестивые мужи
с светлейшим сыном нашим королем Ген-
рихом должны избрать, а остальные при-
знать нового первосвятителя. Избрать же
его должны из недра этой самой церкви,
если найдется достойный; а если не найдет-
ся в ней, то из другой. Если же развращен-
ность порочных и мятежных людей усилит-
ся до такой степени, что беспристрастный,
искренний и согласный выбор в городе бу-
дет невозможен, то с согласия непобедимо-
го короля могут избрать первосвятителя в
таком месте, где то будет удобнее, и хотя
бы налицо было мало избирателей. По окон-
чании выбора, в случае военного времени
(bellica tempestas), или злобного восстания,
если избранный не может вступить
(intronisari) на апостольский престол, то он,
тем не менее, как истинный Папа, должен
управлять св. Римской церковью и распо-
ряжаться всеми ее средствами: мы знаем,
что так поступил и блаженный Григорий,
прежде своего посвящения. Если кто всту-
пит на престол против этого нашего декре-
та, обнародованного по согласию собора,
будучи избран вследствие восстания, инт-
риг или хитрости и посвящен, то такой дол-
жен считаться не Папой, но сатаной, не апо-
стольским мужем, но апостатом и, по отлу-
чении от св. Римской церкви, божественной
властью и вечной анафемой от св. апосто-
лов Петра и Павла, вместе со своими по-
мощниками, покровителями и привержен-
цами должен быть низвергнут, как анти-
христ, возмутитель и нарушитель всего
христианства, и не только не может пользо-
ваться никакой почестью, но должен быть не-
медленно лишен всякой церковной степени,
какую бы он ни имел прежде. Всякий, всту-
пившийся за него или оказавший ему, как
первосвятителю, честь, или отважившийся
защищать его, должен быть предан подоб-
ному же осуждению. Всякий, кто нарушит
этот наш декрет и решится возмутить спо-
койствие Римской церкви, и покусится идти
против этого нашего постановления, да
осужден будет вечной анафемой и отверже-
нием, и к нечестивым, которые не воскрес-
нут на суде, да причтется; да испытает он на
себе гнев всемогущего Бога Отца и Сына и
Духа Св. и св. апостолов Петра и Павла, цер-
ковь которых он отважился возмутить, в сей
жизни и в будущем веке; да будет жилище
его пусто, и в шатре его да не обитает никто;
НИКОЛАЙ II, ПАПА. 1059–1061. Был родом из Бургундии и занимал место епис-
копа Флоренции. После смерти Виктора II, последнего немецкого Папы, который умер
вслед за своим покровителем, Генрихом III (1056 г.), в Риме ожила национальная партия
и под влиянием монаха Гильдебранда избрала Стефана X (1057–1058 гг.), но Ломбар-
дия не признала его и он вскоре умер от отравы. Римская знать избрала Бенедикта X,
но Гильдебранд, склонив на свою сторону немецкий двор, утвердил на престоле Нико-
лая II, принудив его соперника отречься. Для предупреждения беспорядков при избра-
нии пап и для устранения немецкого влияния, новый Папа и издал свой знаменитый де-
крет. Николаю II наследовал Александр II (1061–1073 гг.), после которого вступил на пре-
стол сам Григорий VII Гильдебранд.
Издание: Pertz. Monum. II, 2, 176–180, под заглавием: «Statutum Nicolai II papae de
electione papae», a. 1059.
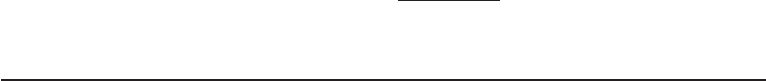
557
Век Григория VII Гильдебранда и начало борьбы пап с императорами
да будут сыновья его сироты и жена его вдо-
вой; да поколеблется он до конца, и сыновья
его да будут нищими и изгонятся из жилищ
своих; ростовщик да возьмет все имущество
его, и чужие люди да расхитят все труды его;
вся вселенная да восстанет против него и все
стихии да будут враждебны ему, и заслуги
всех святых усопших да смутят его. Пови-
нующихся же этому нашему декрету да хра-
нит благодать всемогущего Бога; да благо-
словит их власть блаженных князей апосто-
лов Петра и Павла, и да разрешит от уз вся-
кого греха. Аминь».
Из декретов Папы Николая II.
У Pertz. Monum. Leg. II, 2. 176–180.
Отберт
ЖИЗНЬ ИМПЕРАТОРА
ГЕНРИХА IV. 1056–1106 гг.
(в 1106 г.)
1. «Кто даст главе моей воду и очам моим
источник слез» (Иерем., 9, 1), чтобы оплакать
не падение покоренного города, не плен ка-
кого-нибудь народа, не потерю моего достоя-
ния, но смерть Генриха (IV), великого импе-
ратора, который был моей надеждой и един-
ственным утешением, который – но зачем
говорить только о себе – был гордостью Рима,
украшением государства, светом мира! Что
приятного может обещать мне жизнь в буду-
щем? Проведу ли я один день, один час без
слез? Могу ли я его вспомнить, мой возлюб-
ленный
1
, в своих беседах с тобой, не сетуя о
нем? И теперь, когда я пишу эти строки под
диктовку скорби своей, слезы катятся из глаз
моих, орошают тетрадь мою и смывают то,
что начертано рукой.
Но, может быть, ты будешь порицать
порывы моей горести: может быть, ты по-
желаешь, чтобы я прекратил свои вопли;
ибо они могут поразить слух иных, кото-
рые радуются смерти императора. Твой со-
вет хорош; я сознаюсь в том. Но я не могу
скрыть своего горя, я не могу не обнару-
жить своей печали, хотя бы устремилась на
меня вся ярость врагов, хотя бы они грози-
ли разорвать меня на части. Скорбь не зна-
ЕПИСКОП ОТБЕРТ (OTBERTUS EP. LEODIENSIS, то есть ЛЮТТИХСКИЙ). От
1091 г. и до своей смерти в 1119 г. был самым ревностным и непоколебимым привер-
женцем Генриха IV. Как следует из слов автора, он сам считал свое произведение весь-
ма запрещенным и опасным для него в правление Генриха V, восставшего против отца,
и потому просил своего друга, которому посвящался труд, скрыть его имя. Вследст-
вие того имя автора осталось действительно неизвестным, и только в начале XVII сто-
летия ученый того времени Гольдаст предположил, что автором «Истории жизни Ген-
риха, императора» был его друг, епископ Люттихский, Отберт. Но Пертц полагал, что
автор должен был жить в Майнце или его окрестностях. Кому бы ни принадлежал этот
труд, во всяком случае, он остается одним из самых замечательных памятников исто-
рической средневековой литературы; по свидетельству знатоков, язык его напомина-
ет собой лучшую эпоху классической литературы; обзор правления Генриха IV сделан
мастерски, ничего подобного в хрониках того временине существовало. Обращает на
себя внимание нравственное значение писателя, имевшего гражданское мужество от-
стать от клерикальной партии и писать с похвалой о павшем величии в виду его торже-
ствующих врагов.
Издания: Pertz. Monum. XII, 268–283. Переводы: немецк. Jaffè (Berl. 1858), в
Geschichtsschr. d. d. Vorzeit. Lief. 37. Критика: Wattenbаch. Deutschlands Geschichtsquel.
260 с.
1
Так автор обращается к неизвестному нам лицу,
которому он посвятил свое сочинение.

558
От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)
ет страха, скорбь не рассуждает о том, что
ее ждет месть.
Но не я один оплакиваю кончину импе-
ратора; Рим плачет о нем, вся Римская им-
перия опечалена, и, кроме завистливых вра-
гов его власти и его жизни, скорбит всякий –
и бедный, и богатый. И не личные отноше-
ния рождают мою печаль; любовь застави-
ла меня стенать о всеобщем несчастье. Со
смертью императора не стало на земле
справедливости, отлетел мир, и место вер-
ности заняло вероломство. Умолк хор пев-
цов, славословивших Всевышнего; оскуде-
ло богослужебное величие; голос счастья и
ликования не слышен теперь в обиталищах
праведных, потому что нет больше Генри-
ха, который все это основал. Соборы лиши-
лись своего покровителя, монастыри свое-
го отца; какое расположение питал к ним
император, как много содействовал их сла-
ве, они узнали лишь тогда, когда больше не
было с ними почившего. Особенно монас-
тыри имеют все причины скорбеть, потому
что вместе с императором погребен и их
блеск.
Но, Майнц! Какого украшения ты ли-
шился, когда отходил от мира сего этот зиж-
дитель, столь необходимый тебе для восста-
новления разрушенного собора?!
1
. Если б
он довел до конца начатую им постройку,
то, конечно, новый собор мог бы соперни-
чать с тем славным собором Шпейерским,
который построен от основания до верши-
ны самим Генрихом, и по чудному величию
и художественности исполнения более до-
стоин удивления и славы, нежели все пост-
ройки прежних королей. Как роскошно ук-
рашен этот собор золотом, серебром, дра-
гоценными каменьями и шелковыми
ризами, едва ли это может вообразить тот,
кто не имел счастья видеть его лично.
И вы, о, бедные люди, имеете основа-
тельное побуждение к своей печали; пото-
му что только теперь вы в первый раз обед-
нели, когда вы лишились утешителя своей
бедности! Он питал вас, мыл своими рука-
ми, покрывал вашу наготу. Не у ворот, но
за его столом возлежал Лазарь, и питался
не крупицами, а царскими яствами. За сто-
лом император не гнушался безобразием и
зловонием гноеточивых, тогда как самые
слуги морщились и зажимали себе нос. В
опочивальне Генриха лежали слепые, хро-
мые и всякого рода болящие; сам импера-
тор разувал их, укладывал спать; ночью
вставал и покрывал их, не опасаясь прика-
саться и к таким, которые, по самому свой-
ству болезни, марали свою постель. Когда
Генрих путешествовал, бедные встречали
его, сопровождали и следовали за ним, и
хотя он поручал их попечению своих при-
ближенных, но заботился и сам, как если
бы они никому не были поручены.
В его поместьях также давалось вспомо-
жение бедным; Генрих заботился знать о чис-
ле их и смерти каждого, как для того, чтобы
помянуть покойного, так и для того, чтобы
иметь уверенность в его замещении. Когда
неурожайный год приносил голод, король да-
вал содержание многим тысячам народа, в
силу божественного предписания: «Приоб-
ретайте себе друзей богатством неправед-
ным, чтобы они, когда обнищаете, приняли
вас в вечные обители» (Лука, XVI, 9).
Какую глубокую скорбь должны теперь
ощущать бедствующие, вспоминая, как они
пользовались некогда исчисленными мной
благодеяниями и многими другими, сверх
тех, которые названы нами; теперь же они
не могут больше ими пользоваться! Кто
предложит им свои любвеобильные заботы
о них? Кто захочет знать, где лежит боль-
ной и какой пищи он требует? Кто посвя-
тит себя так делам милосердия, как импе-
ратор Генрих? О, что это был за человек,
как безгранично его благочестие и смирен-
номудрие! Он обладал светом, бедные об-
ладали им; ему служил мир, а он – бедным.
Мы сказали прежде всего о сострада-
тельности Генриха к бедным, которой он не
мог укрыть от людей, не потому, чтобы это
была самая достойная его черта, но пото-
му, что это одно было доступно нашему
наблюдению; а кто знает, чем он еще слу-
жил Богу? Также и о других, украшавших
его достоинствах, мы скажем только немно-
гое, потому что всего сказать не в состоя-
нии. Но пусть не удивляется никто, если я,
оплакивая смерть императора, вспоминаю
1
Собор в Майнце сгорел еще в 1081 г.

559
Век Григория VII Гильдебранда и начало борьбы пап с императорами
и о веселых минутах его жизни: кто тоску-
ет об отошедшем друге, тот невольно вспо-
минает всю его прошедшую жизнь, всякое
его дело и поступок, чтобы еще более рас-
палить свое горе. Я охотно пишу о нем и с
наслаждением предаюсь весь своей скорби,
оплакивая почившего, который при жизни
был моей радостью.
Генрих являлся перед другими то импе-
ратором, то простым воином, и в одном
выражал все свое достоинство, в другом –
смирение. Он был так проницателен и мудр,
что когда князья недоумевали при каком-
нибудь судебном случае или в рассуждении
того или другого государственного дела, он
тотчас распутывал узел и, как бы черпая из
самого источника мудрости, объяснял, что
справедливо и полезно. Генрих вниматель-
но слушал чужие речи, но сам говорил мало
и, только выждав мнения других, высказы-
вал и свое. Когда он вперял свои взоры в
чье-нибудь лицо, то проникал в сокровен-
нейшие движения его души и видел, как бы
глазами рыси, у кого на сердце к нему лю-
бовь, у кого – ненависть. Замечательно еще
то, что в толпе князей он видимо выдавался
над всеми и казался выше, а в грозных чер-
тах лица проглядывало какое-то достоинст-
во, поражавшее взгляды присутствовавших,
как молнией, между тем как дома, в своем
близком кружке, он не отличался от других
по виду и сиял кротостью.
Не только немецкие князья боялись Ген-
риха, но и на государей Востока и Запада
одно имя его производило такой трепет, что
они посылали ему дань прежде, нежели он
побеждал их. Даже король Греческий, желая
скрыть свой страх, искал его дружбы; и из
опасения, чтобы Генрих не сделался его вра-
гом, предупреждал его подарками. Об этом
свидетельствует золотой жертвенник Шпей-
ерского собора, вызывавший удивление как
по искусству работы, так и по массивности.
Греческий король поднес этот дар, достой-
ный и подносившего, и принимавшего, им-
ператору Генриху, услышав о необыкновен-
ной любви и привязанности императора к
Шпейерскому собору. Также значительно
увеличивал сокровищницу Генриха король
Африканский (то есть Египетский султан);
могущество Генриха приводило его в ужас.
Генрих угнетал только тех, которые уг-
нетали бедных; хищникам давал достойное
возмездие, а мятежников, сопротивлявших-
ся его власти, наказывал так, что послед-
ствия его царственного наказания испыты-
ваются и доселе их потомством. Жизнь и
правление Генриха полезны были для бу-
дущего времени тем, что научили людей до-
рожить миром и не истощать государство
войной.
На этом я и желал бы прервать речь,
ибо теперь приходится коснуться раздоров,
коварства, злодеяний, о которых писать
правду опасно, а лгать преступно. С одной
стороны, волк, с другой – собака (Гораций.
Сат., II, 2, 64). Что же тут делать? Гово-
рить мне или молчать? Рука начинает и ко-
леблется, пишет и останавливается, чертит
и вымарывает, и почти не знаю, чего хочу.
Однако ж бесславно оставлять неокончен-
ным начатое, нарисовать голову без туло-
вища. Итак, буду продолжать, как начал,
мужественно и бестрепетно. Мне извест-
на твоя честность; и я уверен, что ты
Император Генрих IV.
Миниатюра (начало XII в.)
560
От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)
никому не покажешь моего труда, а если
случайно его найдут, то не выдашь имени
автора.
2. Когда император Генрих, о котором
идет теперь речь, наследовал (1056 г.), еще
дитятей, своему преславному отцу, импе-
ратору Генриху Третьему – а отец умер
именно во время его первого детства, – го-
сударство находилось в том же состоянии,
как оставил его прежний император: войны
не нарушали мира, военные крики не воз-
мущали спокойствия, разбой не свирепст-
вовал и верность была непоколебима; прав-
да имела силу и власть – право. Такому сча-
стливому состоянию государства весьма
много содействовала светлейшая императ-
рица Агнеса, женщина мужественного ха-
рактера, управлявшая кормилом государст-
ва совокупно с сыном.
Но детский возраст мало внушает стра-
ха, а с ослаблением страха всегда возрас-
тает дерзость; потому юность короля уви-
дела себя окруженной людьми преступных
намерений. Каждый старался сравняться с
более сильным или даже превзойти его;
многие увеличивали свою силу злодеяния-
ми, и справедливость, которая имеет так
мало значения в правление дитяти, потеря-
ла свой вес. Чтобы быть свободнее в своих
действиях, прежде всего похитили ребенка
у матери (1062 г.), которая устрашала их
своим здравым умом и строгими нравами.
Они поступали так под тем предлогом, что
неприлично женщине управлять государ-
ством, хотя о многих королевах рассказы-
вают, что они управляли государством с
благоразумием, свойственным мужчине.
Когда же юный король, отнятый у матери,
попал для воспитания к князьям, тогда он
должен был делать то, что ему указывали;
он возвышал и свергал, кого они хотели, и
справедливо можно сказать, что не столько
они были его слугами, сколько он – их слу-
гой. Совещаясь о делах государства, они
имели в виду не государственные, но свои
интересы, и во всех делах руководились сво-
ими выгодами. Но хуже всего было то, что
они давали полную свободу его юношеским
увлечениям, вместо того, чтобы хранить
его, как за печатью. Таким средством они
добывали себе то, чего искали.
Между тем Генрих развился до такой
степени, что мог, наконец, различать чест-
ное от постыдного и полезное от вредного.
Сделавшись самостоятельным, он осудил
многое из своего прошлого и исправил то,
что было возможно. Начал преследовать
вражду, насилие, хищничество; ревностно
стремился к водворению мира и справедли-
вости, к восстановлению нарушенных зако-
нов, к обузданию распространившегося раз-
вращения. Упорных злодеев, которых
нельзя было удержать одним законом, об-
ращал он к порядку мерами строгости; но
поступал в этом случае вполне законно и
справедливо и в то же время милостиво.
Но враги его называли это несправедли-
востью и беззаконием, и недовольные теми
пределами, какими их ограничивал закон, и
той уздой, которую наложил на них король,
готовые на всякое преступное дело, они
составили план или уничтожить императо-
ра, или свергнуть его с престола, не рас-
суждая о том, что они обязаны верностью
государю, миром – согражданам, справед-
ливостью – государству.
3. Саксонцы – народ грубый, суровый, во-
инственный и дерзкий – тогда напали на им-
ператора (1073 г.), относя свое безумное
дело к славным деяниям. Король сознавал
свою погибель, которую ожидает малочис-
ленность в борьбе с массами, считал свою
жизнь выше славы, спасение выше безумной
отваги и по необходимости бежал. Когда
саксонцы потерпели неудачу в своем пред-
приятии, то они вырыли (1074 г.) – какая бес-
человечность, какая низкая месть! – из
земли тело сына короля (Генрих не был еще
императором). Раздраженный этим двойным
оскорблением, Генрих собрал войско против
саксонцев, дал им сражение и победил
(1075 г.). Но победил он войско, выставлен-
ное против него, а не упорство бунтовщи-
ков. И хотя в сражении он их опрокинул, об-
ратил в бегство и преследовал бегущих, хотя
опустошил их владения, разрушил крепос-
ти и вообще располагал ими, как победитель,
но саксонцы не хотели подчиниться...
Они видели, что возмущением можно
только раздражить короля, но не победить,
что восстание огорчит его, но не переломит,
ибо войска его неодолимы. А потому, что-
