Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты
Подождите немного. Документ загружается.


гося на "Дон Кихота" Сервантеса, написанного "языком нейтральным, для современного ему
читателя исторически и национально не окрашенным, для того времени совершенно лишенным
архаичности. Логично и переводить его в целом неокрашенным чистым языком" [Левый, 1974, 128].
Дело в том, что, когда переводчик переводит классическое произведение намеренно
архаизированным языком, архаичный язык становится элементом художественной формы,
приобретая содержательность, чуждую авторскому замыслу.
Попытка передать исторический колорит подлинника иногда приводит к привнесению
чуждых исходной культуре ассоциаций. Так, переводя "Озорные рассказы" (Contes drolatiques)
Бальзака, Ф. Соллогуб передал используемые автором в целях исторической стилизации
французские архаизмы их славянскими эквивалентами (зело, лепый и т.д.), которые ассоциируются в
сознании читателя не с французской, а с русской стариной [Соболев, 1950].
В интересной книге "Непереводимое в переводе" болгарские переводчики и теоретики
художественного перевода С. Влахов и С. Флорин подвергают тонкому анализу переводческие ошибки,
связанные с неверной передачей национального и исторического колорита. Эти ошибки
проявляются в "аналоцизмах" и анахронизмах — реалиях, несовместимых с местной и
временной обстановкой оригинального произведения. Поучительны приводимые ими примеры.
Например, в переводе на болгарский язык название рассказа Чехова "Свирель" передано как
"Кавал" (болгарский народный инструмент). Так в текст чеховского рассказа вводится яркая
болгарская реалия. В болгарском переводе романа — биографии Шекспира (К. Haemmerling. Der
Mann, der Shakespeare) несколько раз употребляется слово гильотина (например, "Эссекс медленно
поднялся по ступенькам к гильотине"), хотя Гийотен, чьим именем было названо это орудие
казни, жил чуть ли не 200 лет спустя после описываемых в романе событий [Влахов, Флорин,
1980, 116—123].
Роль переводчика в процессе вторичной коммуникации не сводится к переадресовке текста
другому реципиенту. Одновременно он выступает и в роли выразителя коммуникативной интенции.
Но можно ли считать, что коммуникативная интенция отправителя первичного текста всегда
абсолютно тождественна коммуникативной интенции переводчика?
Сохраняя художественное своеобразие и историческую достоверность подлинника, переводчик,
по словам И.А. Кашкина, не может отказаться от своего права "в просвещении стать с веком
наравне", права прочесть подлинник глазами нашего современника, права на современное
отношение к образу. При этом он не может не выбирать то основное и прогрессивное, что делает
классическое произведение значительным и актуальным не только для своего времени, что
оправдывает обращение к нему переводчика. "Реалистический перевод, — писал он, — предполагает
троякую, но единую по" существу верность: верность подлиннику, верность действительности,
верность читателю" [Кашкин, 1977,482].
Прочтение оригинала с позиций реципиента, выделение в нем того,
59
что, по мнению переводчика, наиболее актуально для современного читателя, ориентация
текста на его иноязычного реципиента — все это наслаивается на изначальную коммуникативную
интенцию отправителя и модифицирует ее в процессе перевода. Отсюда следует, что цель
перевода в принципе может быть не вполне тождественной цели оригинала.
Ярким примером такого отношения к оригиналу служат переводы С. Маршака, который,
по словам Ю.Д. Левина, при всей внутренней близости Бернсу оставался верным собственному
поэтическому темпераменту и нередко "высветлил" бернсовские образы и эмоции, делал их более
четкими и определенными, смягчал и "облагораживал" резкость и грубость Бернса [Левин, 1982,556].
Ситуация еще более усложняется в тех случаях, когда один и тот же текст переводится с
разными целями и для разной аудитории. Ярким примером могут служить два перевода "Отелло" —
Б. Пастернака и М. Морозова. Перевод Пастернака предназначен для чтения и для театра. Он
адресован читателям и зрителям и призван произвести определенное эмоциональное и эстетическое
воздействие. Прозаический перевод М. Морозова предназначен для актеров и режиссеров. Его
главная задача состоит в том, чтобы с максимальной точностью и полнотой донести до читателя
смысловое содержание шекспировской трагедии, что не всегда возможно в поэтическом переводе. Ср.
заключительные строки трагедии в переводе М. Морозова:
О Spartan dog!
More feil ,than anguish, hunger or the sea, Look on the tragic loading of the bed; This is thy work; Ihe object poisons
sight; Let it be hid. Gratiano, keep the house, And seize upon the fortunes of the Moor, For they succeed on you. To you, lord
governor, Remains the censure of this hellish villain, The time, the place, the torture; O! enforce it Myself will straight aboard,
and to the state This heavy act with heavy heart relate.
О, спартанский пес, более свирепый, чем страдание, голод и море! Взгляни на трагический груз этой
постели: это твоя работа. Вид этого отравляет зрение, пусть это будет скрыто. Грациано, храните дом и примите все
состояние мавра, ибо оно переходит к вам по наследству. Вам же, господин правитель, остается вынести приговор этому
адскому злодею и назначить время, место и самый род мучительной казни. О, осуществите ее со всей строгостью! Я же
немедленно отправлюсь в Венецию и с тяжким сердцем донесу дожу и сенату об этом тяжком событии—ИВ переводе
Б. Пастернака: Спартанская собака,
Что буря, мор и голод пред тобой?
Взгляни на страшный груз постели этой.
Твоя работа. Силы нет смотреть.
Укройте их. Займите дом, Грацьяно,
Вступите во владенье всем добром,

Оставшимся от мавра. Вы — наследник.
Вам, господин правитель, отдаю
Судить злодея. Выберите кару
Назначьте день и совершите казнь.
А я про эту горькую утрату
С тяжелым сердцем доложу Сенату.
60
В данном случае оценка каждого перевода должна исходить из той цели, которую
поставил перед собой переводчик, из его коммуникативной интенции. Перевод М. Морозова
явно полнее отражает смысловое содержание подлинника, а перевод Б. Пастернака — его
экспрессивную и художественно-эстетическую сторону. Прав Л.Н. Соболев, отмечая, что судить о
достоинствах этих переводов следует по разным критериям, разница между которыми «вызвана
тем, что один переводчик, Морозов, поставил себе целью дать в переводе научно обоснованную
интерпретацию „Отелло" на русском языке, а другой, Пастернак, дал художественный перевод
„Отелло"» [Соболев, 1950,144—145]. Очевидно, было бы неверно считать один из этих текстов
переводом, а другой — непереводом. Перед нами два перевода, отвечающие разным
коммуникативным установкам, акцентирующие различные стороны оригинала.
Сказанное выше о роли языковых и внеязыковых детерминантов процесса перевода
самым непосредственным образом связано с так называемыми парадоксами перевода, которых мы
частично касались в гл. I в разделе "Теория перевода и социолингвистика" в связи с социальной
нормой перевода. Посмотрим, как эти "парадоксы" детерминируют перевод. Дело в том, что
многие из детерминантов перевода действуют не в одном и том же, а в противоположном
направлении.
Начнем с языковых компонентов этого процесса. С ними связан первый "парадокс" Т.
Сейвори: а) перевод должен передавать слова оригинала и б) перевод должен передавать мысли
оригинала. Установка на дословную точность не всегда совместима с установкой на точность
смысловую. Так, в приведенном выше отрывке из "Отелло" содержится фраза: the object poisons
sight. Стремящийся к дословной точности М. Морозов перевел ее как "Вид этого отравляет
зрение". Смысл этого предложения не вполне ясен: ведь отравить можно удовольствие,
торжество, жизнь, поскольку отравить в переносном смысле означает 'испортить (нечто приятное),
сделать невыносимым'. Думается, что пастернаковское "силы нет смотреть" ближе к смыслу
оригинала, хотя и потребовало переформулировки фразы, что, очевидно, шло бы вразрез с
установками М. Морозова.
Следующий парадокс: а) перевод должен читаться как оригинал и б) перевод должен
читаться как перевод — связан с двойственной сущностью перевода, с его "двухполярностью"
(переводчик, принимая решение, постоянно находится между двумя языковыми и культурными
полюсами). Требование "перевод должен читаться как оригинал" в полном объеме едва ли
выполнимо, так как влечет за собой полную "натурализацию" текста перевода, т.е. его полную
адаптацию к нормам другой культуры. Но текст перевода "бикультурен" и, адаптируясь к
культуре-рецептору, никогда полностью не порывает с исходной культурой. В противном
случае существует опасность русификации английского подлинника или англизации русского. В
этом случае, как и во многих других, решение переводчика носит компромиссный характер.
Не существует однозначного решения и другого парадокса: а) отра-
61
жать стиль оригинала и б) отражать стиль переводчика. И здесь реальная стратегия перевода
часто основывается на компромиссе. В идеале переводчик, выступающий в роли получателя
исходного текста и отправителя текста перевода, "входит в образ автора" и полностью
перевоплощается в него. Однако такое перевоплощение осуществимо лишь в идеальной схеме
перевода. На деле же переводчик, подобно актеру, перевоплощающемуся в действующее лицо
драматического произведения, не утрачивает и своих личностных характеристик. Чем выше
удельный вес творческого начала в процессе перевода, тем ярче сквозь текст перевода проступает
личность самого переводчика, его социальные установки, ценностная художественно-эстетическая
ориентация. "Во всяком мастерстве, в том числе и мастерстве перевода, — писал в свое время К. И.
Чуковский, — неминуемо отражается мастер" [Чуковский, 1936, 41]. Особенно рельефно личность
переводчика, его индивидуальный стиль проявляются в поэтическом переводе. В этом легко
убедиться, сравнив, скажем, оригинал баллады Р Бернса "Джон Ячменное Зерно" с переводами Э.
Багрицкого и С. Маршака:
There was three kings mto the east,
Three kmgs both great and high.
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die.
They took a plough and plough'd him down,
Put clods upon his head,
And they hae sworn a solemn oath
John Barlycorn was dead.
Три короля из трех сторон
Решили заодно
Ты должен сгинуть, юный Джон

Ячменное Зерно!
Погибни, Джон, в дыму, в пыли,
Твоя судьба темна.
И вот взрывают короли
Могилу для зерна
перевод Э Багрицкого
Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно
Велели выкопать сохой
Могилу короли,
Чтоб славный Джон, боец лихой,
Не вышел из земли
перевод С. Маршака
Нет никакого сомнения в том, что как в интерпретации оригинала, так и в его воссоздании
оба поэта стремились передать и смысловое содержание подлинника, и характерную интонацию
бернсовского стиха. Однако в первом переводе легко угадывается творческий почерк Э.
Багрицкого, во втором—С. Маршака [Швейцер, 1985,20].
Взаимоисключающие требования, согласно которым перевод должен читаться как
современный оригиналу и в то же время как современный переводчику, уже рассматривались нами
выше в связи с воп-
62
росом о временной дистанции, разделяющей первичную и вторичную коммуникации.
В число "парадоксов перевода" входят также два противоречащих друг другу канона,
согласно которым: а) перевод вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить от него и б)
перевод не вправе ничего ни прибавить, ни убавить. Ниже мы остановимся подробнее на этом
парадоксе в связи с вопросом о вольном переводе. Сейчас же достаточно указать на то, что эти
каноны, как и остальные, "ужесточают" правила перевода, носящие по существу нежесткий
характер.
Как писал И. Левый, переводчику следует, так же как театральному декоратору, считаться с
перспективой: у его читателя иной ценз знаний и эстетического опыта, чем у читателя оригинала, и
потому в механическом воспроизведении подлинника он многого бы не понял [Левый, 1974, 93]. Эта
иная перспектива, связанная с многомерностью процесса перевода, с его функционированием в
двух коммуникативных ситуациях, вызывает необходимость в известных добавлениях и
опущениях, помогающих прояснить непонятное и снять избыточное для иноязычного получателя
[Швейцер, 1973,245—247].
И наконец, последний парадокс: а) стихи следует переводить прозой и б) стихи следует
переводить стихами — нужно рассматривать в свете переводческих норм и литературных традиций,
существующих в тех или иных культурных ареалах. Так, первое требование соответствует
переводческой эстетике французов, у которых, как отмечалось выше, прозаические переводы
стихов получили широкое распространение. У нас и в ряде других европейских стран прозаические
переводы стихов существуют как исключение (см. названный выше прозаический перевод "Стелло"
М. Морозова).
Этим не исчерпывается список "парадоксов перевода". Так, выше были названы
противоречия между коммуникативной интенцией отправителя исходного текста и коммуникативной
интенцией переводчика, между ситуацией первичной коммуникации, отраженной в исходном
тексте, и ситуацией вторичной коммуникации, получающей отражение в тексте перевода, между
двумя культурами, и в частности между двумя литературными традициями, между установкой
первичного текста на первичного получателя и установкой перевода на получателя перевода. Эти
противоречия преодолеваются переводчиком в процессе выработки стратегии перевода и ее
реализации.
Из сказанного следует, что перевод как процесс выбора, детерминированный
множеством переменных, порой имеющих противоположный эффект, не может иметь
однозначного исхода и не может быть жестко детерминированным. Степень детерминированности
действий переводчика является переменной величиной, колеблющейся в значительных пределах
от минимума (перевод "информативных текстов" — в терминологии К. Раис) до максимума
(перевод "экспрессивных текстов"—в той же терминологии).
Сказанное выше побуждает нас поставить общий вопрос о характере связей между
детерминантами перевода и конкретными действиями переводчика. В этой связи следует вспомнить
противопоставление "четко определенных" (well-defined) и "нечетко определенных"
63
(ill-defined) систем, заимствованное известным американским лингвистом Ч.
Хоккетом из математики и использованное им в полемике с Н. Хомским [Hockett, 1970, 44—55].
Ч. Хоккет исходил при этом из того, что если существует алгоритм для осуществления данной
задачи, то для ее выполнения (по крайней мере в принципе) может быть запрограммирован
компьютер. Подобный компьютер является детерминистским, поскольку все его будущее
полностью и точно определяется его состоянием в данный момент.
В качестве примера детерминистской (четко определенной) системы Хоккет приводит игру в

шахматы. Правила этой игры достаточно точны. Они четко определяют, во-первых, начальное
состояние (распределение фигур на доске); во-вторых, допустимые последующие состояния (т.е.
допустимые ходы — переходы в другие состояния); в-третьих, конечные состояния. В принципе
шахматы исчислимы и могут считаться четко определенной системой.
С другой стороны, американский футбол является нечетко определенной системой.
У шахмат, как и у футбола, есть эксплицитные правила, но они не определены столь же
четко (например, не всегда представляется возможным провести четкую грань между
дозволенными и недозволенными приемами — это оставляется на усмотрение рефери). Возможные
исходы из данного состояния образуют континуум. Иными словами, перед нами — нечетко
определенная система.
Деятельность переводчика сравнивалась с решениями игрока [Levy, 1967]. Идеи И. Левого
получают дальнейшее развитие у Д.Л. Горле, берущей за основу предложенную им модель
"игрового дерева", ветви которого символизируют серию решений (выборов), ведущих к
оптимальному результату. По мнению Горле, перевод — это игра, стратегия которой направлена
на поиск одного из возможных решений в соответствии с принципом "минимакс" (минимизации потерь
и максимизации выигрыша). Перевод определяется как эвристическая игра с одним участником,
осуществляемая путем проб и ошибок и связанная с порождением ходов на основе
ориентировочных решений частных , и глобальных проблем с учетом их взаимосвязи.
Семиотическая модель перевода регламентируется правилами и в то же время изменяет и создает их.
Это придает переводу характер "калейдоскопической непрекращающейся игры творческих
способностей" [Gorlee, 1986, 101— 103]. Решение переводчика принимается на основе
определенной конфигурации детерминантов, перечисленных выше. Но "правила игры" не поддаются
достаточно четкой и однозначной формулировке. Более того, как отмечалось выше, далеко не всегда
поддаются четкому и однозначному определению и грани допустимого в переводе. Сложность и
противоречивость стоящей перед переводчиком задачи делают неопределенным число
возможных исходов из каждого "состояния" в этом процессе. Отсюда следует, что если понятие
системы и может быть в известном смысле распространено на ту совокупность отношений,
которые обнаруживают различные компоненты процесса перевода, то речь, безусловно, идет о "нечетко
определенной" системе.
Перевод как процесс решения складывается из двух основных
64
этапов: 1) из выработки стратегии перевода (в терминах психолингвистики ее
можно назвать программой переводческих действий) и 2) из определения конкретного языкового
воплощения этой стратегии (сюда относятся различные конкретные приемы — "переводческие
трансформации", составляющие технологию перевода). На обоих этапах решение принимается с
учетом данной конфигурации языковых и внеязыковых детерминантов перевода в их взаимосвязи.
Процесс перевода складывается из серии выборов. На первом этапе переводчик стоит перед
выбором стратегии перевода. Так, например, предпочтение может быть отдано текстуально
точному, приближающемуся к буквальному, переводу или, напротив, переводу, смело
отходящему от формальной структуры оригинала, приближающемуся к вольному. В этом
выборе решающую роль может сыграть жанр текста (ср., например, перевод дипломатического
документа и поэтический перевод), цель перевода (ср., например, два перевода "Отелло" —
прозаический перевод М. Морозова и поэтический перевод Б. Пастернака) и социальная норма
перевода, характерная для той или иной эпохи. В качестве примеров сознательной установки на
дословность перевода можно назвать некоторые переводы Библии на греческий и латинский
языки, а также на европейские языки эпохи средневековья, средневековые переводы произведений
Аристотеля. Эпоха классицизма ознаменовалась установкой на вольный перевод, полностью
подчиняющий подлинник нормам этой эпохи. Представление об эстетическом идеале
классицизма лежало в основе попыток переводчиков этой эпохи отредактировать подлинник,
подчинить его собственным канонам. Ср. характерное высказывание Флориана по поводу
собственного перевода "Дон Кихота" «Рабская верность есть порок... В „Дон Кихоте" встречаются
излишки, черты худого вкуса — для чего их не выбросить?» (перевод В.А. Жуковского [цит. по:
Федоров, 1983, 28]).
В выработку стратегии перевода (в особенности художественного) входит и принятие
решения относительно тех аспектов оригинала, которые должны быть в первую очередь
отражены в переводе. Выше отмечалось, что исчерпывающая и в равной мере адекватная передача
всех аспектов оригинала не всегда оказывается возможной. Некоторые потери в переводе порой
неизбежны. Поэтому переводчик должен заранее установить шкалу приоритетов. Так, для
стихотворных переводов Маршака характерен отказ от текстуальной смысловой точности во имя
адекватной передачи художественно-эстетической стороны подлинника. "Расхождения с оригиналом,
— вообще неизбежные в стихотворном переводе, особенно с английского на русский, — можно
обнаружить у него чуть ли не в каждой строке. Но внимательный анализ показывает, что эти
частные отступления позволяют верно воссоздать, согласно с законами русской речи, поэтическое
целое, и не только его вербальное содержание, но его стиль, образную систему,
эмоциональную настроенность, простоту и драматизм, движение стиха и музыкальность" [Левин,
1982, 554—555]. Так переводчик создает определенную иерархию ценностей, позволяющую
выделить те черты оригинала, которые представляются ведущими.

5.3ак.311
65
Решение о стратегии перевода включает еще один выбор. В цитированной выше книге
И. Левый противопоставляет друг другу два вида перевода: "иллюзионистский" и
"антииллюзионистский". Подобно тому как в "иллюзионистском" театре с помощью
декораций, исторических костюмов и т.п. создается иллюзия действительности, в
"иллюзионистском" переводе у читателя создается ощущение, что перед ним — подлинник. Что
касается антииллюзиониста в театре, то он смело подчеркивает, что предлагает публике лишь
некоторое подобие действительности: актер снимает маску, показывает на дерево, а говорит, что
перед ним лес. Переводчик-антииллюзионист может, по словам И. Левого, разрушить иллюзию,
раскрыв свое мировоззренческое кредо, отказавшись от имитации оригинала и комментируя его
актуальными намеками, обращенными к читателю.
Думается, что "антииллюзионистский" перевод как антипод перевода "иллюзионистского"
явно выходит за рамки того, что обычно понимается под переводом. В самом деле, ведь "имитация
оригинала" — это и есть сущность перевода, репрезентирующего оригинал в другом
лингвокультурном контексте. Это признает и сам И. Левый, когда отмечает, что
"антииллюзионистский" перевод существует лишь в редких случаях, да и то в основном в жанре
пародии. Это не случайно, поскольку перевод по своему предназначению репрезентативен — он
призван "верно передать" подлинник.
Однако думается, что в оппозиции "иллюзионистский— антииллюзионистский" перевод
есть рациональное зерно. Ведь фактически И. Левый метафорически переносит на перевод
противопоставление двух театров — театра, натуралистически воссоздающего детали быта, и театра
сценических условностей. Думается, что аналогами этих двух театров в переводе скорее являются,
с одной стороны, перевод, скрупулезно воспроизводящий экзотические детали местного колорита
и колорита эпохи, а с другой — перевод, отказывающийся от этого в пользу глубинного
проникновения в национальную и историческую специфику текста. В нашу задачу не входит
критическая оценка этих двух переводческих тенденций. Важно лишь отметить, что выбор одного
из этих подходов к передаче временного и национального своеобразия текста является одним из
существенных элементов стратегии перевода.
В соответствии с выработанными на стадии программирования принципиальными
установками определяются конкретные способы реализации коммуникативной интенции с учетом
языковых и внеязыковых детерминантов перевода. И снова переводчик стоит перед серией выборов,
отвечающих определенным критериям, обусловленным общей стратегией перевода. На конкретных
языковых способах реализации стратегии перевода мы остановимся ниже, в гл. IV и V,
посвященных семантическим и прагматическим аспектам перевода.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что языковые и внеязыковые
детерминанты перевода образуют ряд взаимосвязанных цепочек фильтров (селекторов),
формирующих окончательный вариант перевода. Этот процесс можно представить в виде схемы,
отражаю-
66
щей сам принцип выбора и взаимообусловленность детерминантов, но, разумеется, не
реальную последовательность шагов.
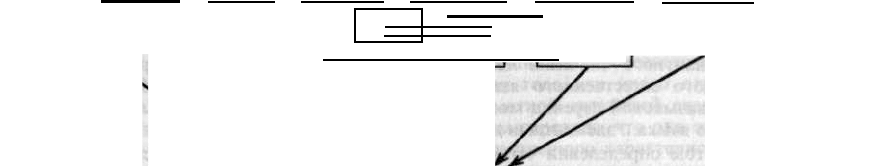
Система языка
! 1орма языка
Литературная традиция
Предметная ситуация
Текст (функциональные
Национальный коло
Дистанция времени
Норма перевода

Первичная коммуникативная ситуация
Вторичная коммуникативная ситуация

Схема S
На схеме 5 хорошо видно центральное положение текста в процессе перевода. Текст
является объектом приложения действующих сил, исходящих от всех детерминантов перевода. В
схеме он выступает в двух ипостасях — как исходный текст в первичной коммуникативной
ситуации и как конечный текст во вторичной. Одни и те же фильтры участвуют в интерпретации
исходного и формировании конечного контекста: система языка, норма языка, норма перевода,
литературная традиция, национальный колорит, дистанция времени, первичная коммуникативная
ситуация, вторичная коммуникативная ситуация и предметная ситуация. Будучи объектом
воздействия первичной и вторичной коммуникативных ситуаций, текст в то же время является
одним из факторов, детерминирующих эти ситуации. Некоторые детерминанты обнаруживают
непосредственные связи друг с другом (например, система и норма языка). Другие связаны между
собой опосредованно, через текст (например, национальный колорит и дистанция времени, с одной
стороны, и первичная и вторичная коммуникативные ситуации — с другой). Из схемы отнюдь не
следует, что все указанные факторы получают эксплицитное выражение в тексте. Как
отмечалось выше, в переводе важное место принадлежит подтексту, пресуппозициям и
импликациям. Однако все они в конечном счете выводятся из текста с помощью фоновых знаний
интерпретатора. Таким образом, именно через текст осуществляется взаимосвязь языковых и
внеязыковых факторов, детерминирующих перевод.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА
Рассмотрим некоторые определения перевода, встречающиеся в литературе. Их
эволюция, на наш взгляд, весьма поучительна — она отражает в известной мере логику развития
самого переводоведения, столкновения различных взглядов на сущность перевода. Так, в одном из
ранних определений мы читаем: "... перевод
67
может быть определен как преобразование знаков или репрезентаций в другие знаки или
репрезентации. Если оригиналы выражают какое-либо значение, то мы обычно требуем, чтобы их
отображение выражало то же самое значение или (что более реалистично) чтобы оно по
возможности выражало то же значение. Сохранение инвариантного значения является центральной
проблемой перевода с одного естественного языка на другой..." [Oettinger, 1960,104].
"Межъязыковой перевод может быть определен как замена элементов одного языка... элементами
другого" [там же, 109].
В этом определении четко прослеживается узкосемиотический подход к переводу. Все
аспекты этого многогранного и многомерного процесса сводятся к замене одних знаков
другими. В качестве необходимого условия этой замены выдвигается семантическая эквивалентность.
Элементарные замены на уровне знаков практикуются в переводе главным образом при
использовании транслитерации (например, при передаче знаков русского алфавита знаками
латинского: см. используемую при переводе научных текстов систему транслитерации,
ориентированную на чешский алфавит и построенную на однозначных соответствиях типа Жуков —
Zukov, Щукин — Scjukin, Шатура — Satura), а также при переводе отдельных единиц, имеющих
однозначные соответствия в другом языке, например терминов типа "specific gravity" — "удельный
вес", "водород" — "hydrogen", "цепная реакция" — "chain reaction".
Прав В. Коллер, который, подвергая критике определение А. Эттингера, отмечает, что
"установление соответствий между речевыми цепочками естественных языков значительно сложнее,
чем установление соответствий между единицами латинского алфавита и кириллицы при
транслитерации", и приходит к заключению о том, что "предложенное Эттингером статическое
определение перевода, в котором отсутствуют такие факторы, как текст и получатель, отражает
энтузиазм выдвигавшихся в 50—60-е годы проектов автоматического переюда, в которых
недооценивалась проблема нахождения соответствий между единицами ИЯ и ПЯ" [Koller, 1983,109].
Если для А. Эттингера центральной проблемой перевода является проблема знаковых
соответствий, то в определении У. Уинтера основное внимание обращается на другую сторону
перевода "Перевести, — пишет он, — значит заменить формулировку интерпретации сегмента
окружающего нас мира другой, по возможности эквивалентной, формулировкой. Мы говорим о
переводе даже в рамках единого языка, например, когда к нам обращаются с просьбой простым и
ясным языком изложить то понятное лишь немногим утверждение, которое мы только что
сделали. Однако такое употребление этого термина носит весьма ограниченный характер, хотя все
основные характеристики данного процесса присутствуют и в этом случае. Как правило, мы вводим
в наше определение дальнейшее уточнение, согласно которому перевод влечет за собой
замену интерпретации на одном языке интерпретацией на другом" [Winter, 1961,68].
Несомненным достоинством этого определения является то, что в
68

отличие от определения А. Эттингера, ограниченного рамками языка
и
межъязыковых
отношений, оно включает в рассмотрение один из важных факторов, детерминирующих процесс
перевода,—то, что мы выше назвали предметной ситуацией. Последняя занимает центральное место
в определении У. Уинтера. По сути дела, понятие перевода распространяется на все случаи различного
словесного выражения при одной и той же интерпретации того или иного отрезка
действительности. Соотнесенность с предметной ситуацией оказывается при этом настолько
важным признаком перевода, что она отодвигает на задний план даже такую его существенную
характеристику, как принадлежность к классу явлений, входящих в понятие межъязыковой
коммуникации (см. выше). И хотя определение Уинтера дополняется уточнением относительно
межъязыкового характера перевода, самому автору этот признак не представляется
существенным, поскольку все основные признаки данного явления присутствуют и во
"внутриязыковом переводе".
Напомним, что понятие "внутриязыковой перевод" было впервые введено в научный
обиход Р. Якобсоном, в статье о лингвистических аспектах перевода, впервые опубликованной в
1959 г. В этой статье, исходя из семиотического понимания перевода как интерпретации
вербального знака путем его транспозиции в другую систему знаков, Р. Якобсон различает три
вида перевода: 1) внутриязыковой перевод, или переименование, — интерпретацию вербальных
знаков с помощью других знаков того же языка; 2) межъязыковой перевод, или собственно перевод,
— интерпретацию вербальных знаков посредством какого-либо иного языка и 3) межсемиотический
перевод, или трансмутацию, — интерпретацию вербальных знаков посредством невербальных
знаковых систем [Якобсон, 1985,362].
Разумеется, такого рода подход к переводу вполне возможен и оправдан в рамках
единой семиотической концепции, ориентированной на интерпретацию значений. Что же касается
теории, направленной на выявление сущностных характеристик перевода и выяснение его
онтологической картины, то думается, что межъязыковой и межкультурный статус перевода,
детерминирующий, как было показано выше, его механизм, входит в число его важнейших
различительных черт, подлежащих отражению в его определении.
В определении Уинтера многое остается неясным. Так, непонятно, что именно
подразумевается под эквивалентной формулировкой интерпретации внеязыковой действительности.
Более того, создается впечатление, что в переводе может варьироваться только формулировка (по-
видимому, словесное выражение?), тогда как интерпретация остается той же. Но если под
интерпретацией сегмента действительности подразумевается его отражение в семантической
структуре высказывания, то можно ли тогда считать тождественными такие случаи, как, скажем,
англ, upside down и рус. вверх ногами, где один и тот же сегмент описывается с помощью различных
признаков?
Определение перевода в работе Дж. Кэтфорда отражает дальнейшее продвижение научного
поиска в области изучения перевода. Перевод определяется Кэтфордом как "языковая операция, при
кото-
69
рой происходит замена текста на одном языке текстом на другом" [Catford, 1965, 1].
Далее это определение уточняется следующим образом: "... перевод можно определить как замену
текстового материала на одном языке (ИЯ) эквивалентным текстовым материалом на другом"
[там же, 20—21]. Отсюда делается вывод о том, что центральной проблемой перевода является
выяснение характера и условий переводческой эквивалентности.
Основное достоинство этого определения заключается в том, что оно отражает (по
крайней мере частично) дифференциальный признак перевода, отличающий его от других видов
межъязыковой коммуникации, а именно создание текста, заменяющего оригинал. Однако, как будет
показано в следующей главе, у Кэтфорда отсутствует четкое представление о природе текста,
и поэтому приведенное определение в значительной мере остается чисто декларативным. На деле в его
работе речь идет не о динамике создания нового текста, а в основном о традиционных корреляциях
от знака к знаку и от единицы к единице.
Вместе с тем определение Кэтфорда существенно отличается от предложенной нами выше
формулировки классифицирующего признака перевода как межъязыковой коммуникации. В самом
деле, ведь в нашей формулировке речь шла не просто о замене данного текста текстом на другом
языке, а о создании текста, репрезентирующего или замещающего его в другом языковом и
культурном окружении. Таким образом, специфика перевода как процесса, пересекающего не
только границы языков, но и границы культур, не получает адекватного отражения в определении
Кэтфорда.
Создается впечатление, что Кэтфорд, определяющий перевод как чисто языковую
операцию, стоит на узколингвистических позициях и полностью исключает из рассмотрения
внеязыковые аспекты перевода. Однако на самом деле это не совсем так. В уточненном
определении Кэтфорда речь идет о замене исходного текстового материала эквивалентным
текстовым материалом на другом языке, а понятие эквивалентности, согласно Кэтфорду,
предполагает выход за пределы языка, поскольку оно трактуется как взаимозаменяемость в
данной ситуации [там же, 49]. На этом вопросе мы остановимся подробнее в следующей главе в
связи с проблемой эквивалентности и ее уровней. Здесь же мы ограничимся ссылкой на то, что
под ситуацией Кэтфорд подразумевает фактически предметную (референциальную) ситуацию,

отражаемую в тексте, но не коммуникативную ситуацию перевода, которая остается "за кадром".
Таким образом, и это определение следует признать неполным.
С иных позиций подходят к определению перевода Ю. Найда и Ч. Табер. Согласно их
определению "перевод заключается в воспроизведении на языке-рецепторе наиболее близкого
естественного эквивалента исходного сообщения, во-первых, с точки зрения значения, а во-вторых, с
точки зрения стиля" [Nida, Taber, 1969, 12]. "Воспроизведение сообщения" трактуется авторами как
передача смысла высказывания, которая часто влечет за собой ряд грамматических и
лексических адаптации (например, при передаче идиомати-
70
ческих выражений). Отсюда вытекает требование эквивалентности, противопоставляемой
формальному тождеству. Так, например, греч. egeneto 'случилось' часто используется как
маркер перехода, отмечающий начало нового смыслового фрагмента текста. Поэтому в
переводе он либо вовсе не передается, либо передается с помощью аналогичных маркеров and
then, now, later.
Понятие естественного эквивалента фактически подразумевает соответствие
воспроизведенного текста нормам языка перевода. Требование естественности означает
необходимость избегать "переводизмов (translationese), т.е. формальной близости, несовместимой
со смысловой точностью и передачей эмоционального воздействия текста. Наконец, требование
наибольшей близости эквивалента требует сочетания "естественности" (т.е. учета норм языка-
рецептора) с близостью к подлиннику.
В определении Ю. Найды верно отражены некоторые требования, предъявляемые к
переводу: точное воспроизведение смысла текста, отказ от буквализмов, соответствие
нормам языка перевода, необходимость близости к подлиннику, примат содержания над
формой, передача стиля оригинала. Вместе с тем думается, что перечень требований сам по себе
еще не раскрывает сущности перевода и не определяет его места среди других родственных
явлений. Определение перевода через предъявляемые к нему требования представляется
затруднительным еще и потому, что эти требования, как было показано выше, нередко носят
противоречивый характер (ср. "парадоксы перевода") и часто зависят от жанра переводимого
текста, от коммуникативной ситуации и норм перевода.
Дальнейшее развитие связей между теорией перевода и лингвистикой текста находит свое
отражение в развернутом определении перевода у В. Вильса: "Перевод — это процесс обработки
и вербализации текста, ведущий от текста на исходном языке к эквивалентному — по мере
возможности — тексту на языке перевода и предполагающий содержательное и
стилистическое осмысление оригинала. Перевод является внутренне расчлененным процессом,
охватывающим две основные фазы: фазу осмысления, во время которой переводчик
анализирует исходный текст с учетом его смысловой и стилистической интенции, и фазу
языковой реконструкции, во время которой переводчик воспроизводит подвергнутый
смысловому и стилистическому анализу исходный текст с оптимальным учетом требований
коммуникативной эквивалентности" [Wills, 1977,72].
В определении В. Вильса мы находим справедливое указание на двухэтапный характер
перевода. В отличие от других авторов Вильс не сводит перевод лишь к созданию конечного
текста. Для него этап осмысления оригинала (причем осмысления, как мы уже отмечали выше,
ориентированного на межъязыковую коммуникацию) является органической частью процесса
перевода. В этом определении должное внимание уделяется семантике и стилистике текста, их
адекватному отражению в процессе формирования конечного текста на языке перевода.
Вместе с тем в нем отсутствуют важные внеязыковые компоненты перевода (соотношение двух
культур, двух
71
коммуникативных ситуаций и др.). Едва ли можно безоговорочно согласиться с В.
Вильсом, когда он сводит вторую фазу перевода к воссозданию оригинала на языке подлинника.
Ведь на самом деле, как мы уже отмечали выше, речь идет о создании нового текста,
репрезентирующего оригинал и в то же время транспонированного в другую культуру и в другую
коммуникативную ситуацию.
От приведенных выше определений выгодно отличается определение О. Каде. В нем, так
же как и в приведенном выше определении Г. Йегера [Jager, 1975], выявляются различительные
черты, отличающие перевод от других видов опосредованной коммуникации^или "языкового
посредничества" (Sprachmittlung). Так же как и Г. Йегер, О. Каде различает два вида
опосредованной коммуникации — эквивалентную и гетеровалентную HJC первой относит
собственно перевод. Однако в отличие от Г. Йегера он включает в определение понятие
коммуникативной ситуации в связи со второй фазой процесса перевода.
Двухфазность процесса перевода лежит в основе выдвигаемой О. Каде концепции,
поскольку именно в ней кроются причины тех изменений, которые наблюдаются в конечном
тексте по сравнению с исходным текстом. Дело в том, что коммуникативная ситуация первой и
второй фаз опосредованной двуязычной коммуникации (в нашей терминологии — первичная и
вторичная коммуникативные ситуации) никогда не бывает тождественной. На
коммуникативные факторы, обусловливающие формирование исходного текста во время
первой фазы, наслаиваются новые факторы, связанные с включением в коммуникативный
