Шахматова Е.В. Искания европейской режиссуры и традиции Востока
Подождите немного. Документ загружается.

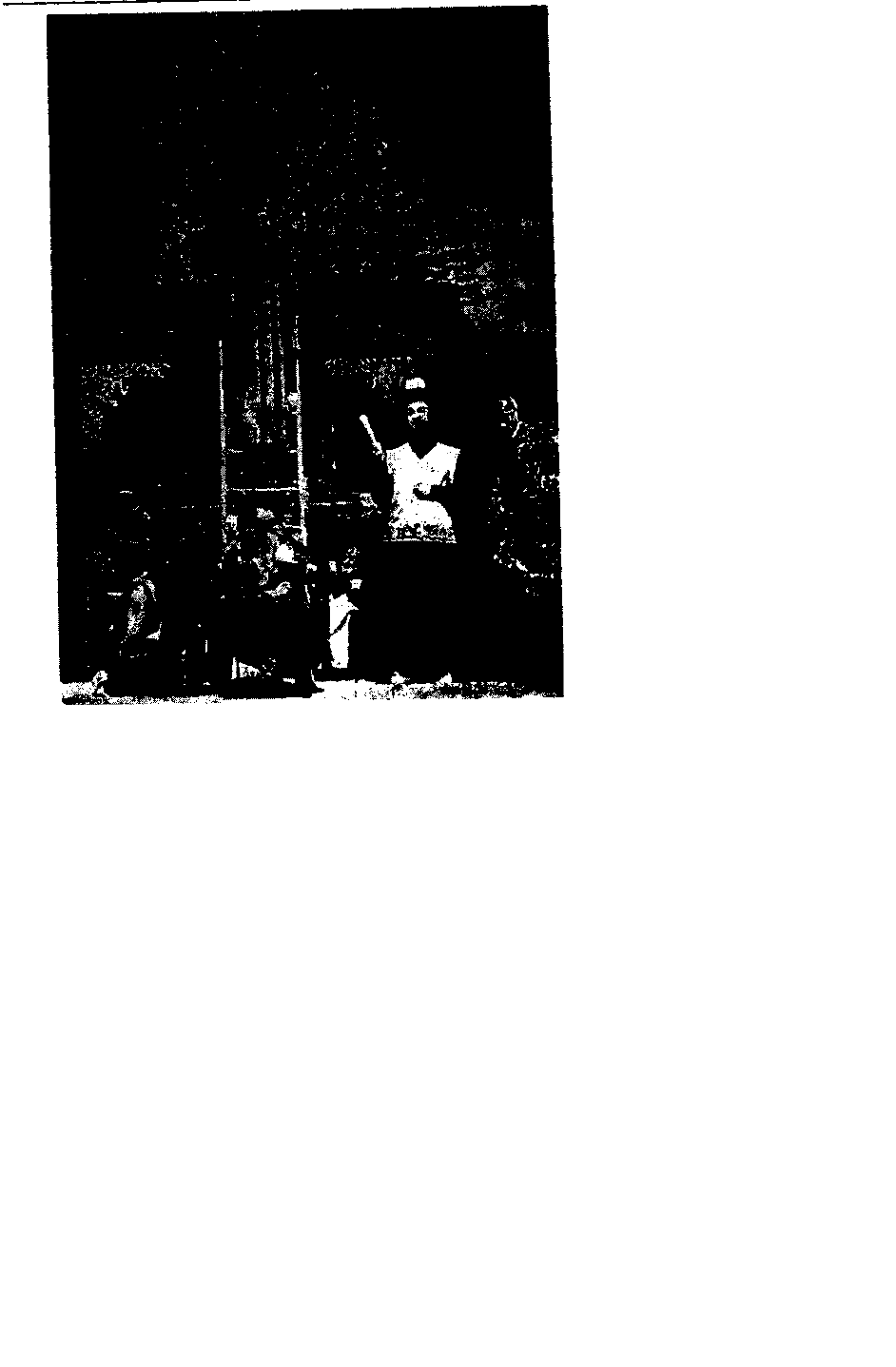
Сцена из спектакля "Желтая кофта".
другую, обозначали этим переход в другую, более уединённую комнату. Гирлянда цветов, брошенная на
сцену, превращала подмостки в пышно цветущий сад. Мир героев был соединён с миром богов простым
способом: стоило бутафору приставить золотую лесенку — и переправа с грешной земли на небеса была
готова. Приёмы условной игры в китайском традиционном театре щедро использовались Таировым в
118
этом спектакле. Достаточно герою было перебросить ногу, делая вид, что он слезает с лошади, .или
водрузить "до самого неба" башню из стульев, чтобы повидаться со своей возлюбленной, и зритель
понимал: стиль спектакля полностью противоположен буквальному копированию жизни в
натуралистическом театре. "Эти приёмы, — писал П.Марков, — которые с течением времени стали для нас
хрестоматийными, тогда не только поражали своим необычным экзотизмом, но и вводили в особый
театральный мир. Актёры выполняли задания режисёра с нескрываемым удовольствием." [18]
Специфика китайского условного театрального языка действительно была для современников открытием.
Европейцы, бывающие в Китае, обращали внимание прежде всего на "варварство" театральных зрелищ,
считая условность признаком отсталости азиатов по сравнению с европейской цивилизацией. Описывая
свои впечатления от китайского представления, известный австрийский путешественник и писатель Эрнст
фон Гессе-Вартег, пытался представить это зрелище как нагромождение нелепостей. "Я припоминаю, —
писал он, — как одна актриса, то есть одетый в женское платье актёр, едва вскарабкалась на пирамиду из
стульев и сундуков, которая должна была изображать гору, причем жесты и мимика актрисы имели в виду
пояснить зрителям, что она прокладывает себе путь через лес. В другой раз шестеро молодцов улеглись друг
на друга посреди сцены. Затем из дверей выскочили две партии воинов в фантастических костюмах: одна
партия откатила лежащих молодцов в сторону, и после того обе партии вступили в рукопашную.
Переводчик объяснил мне, что первые шестеро молодцов изображали крепостную стену. Еще однажды я
увидел, как актёр, изображавший воина, прогаллопиро-вал через сцену, как бы сидя верхом на лошади, и
затем сделал вид как будто передал кому-то письмо. Оказалось, что воин изображал гонца, посланного
одним из действующих лиц в Монголию. Для вящего вразумления публики, гонец, остановившись в углу
сцены, сам рассказал, что вот-де прибыл в Монголию и исполняет свою миссию." [19]
"Жёлтая кофта" Таирова сделала немало, приблизив русского зрителя к абсолютно новому пониманию
театральной условности. Принципы китайского примитива были в корне отличны от условного театра
русских символистов. Как уже было сказано, Таиров особо ценил в искусстве Востока "органическое

сочетание реализма и условности." Именно это качество "Жёлтой кофты" резко отличало её от
символистского репертуара и позволило зрителям оценить мудрость китайской сказки, выраженную со всей
живостью и непосредственностью детской фантазии. Спектакль Свободного театра, ставший значительным
событием в культурной жизни Москвы, убедил Таирова в плодотворности поисков в данном направлении, и
119
через год, 12 декабря 1914 г. успех премьеры "Сакунтала" Калидасы открыл не только Камерный театр, но и
новую страницу в освоении Востока европейской режиссурой.
Критика отметила, что это спектакль оказался "самым интересным событием московского театрального
сезона — не столько по достижениям, сколько по смелости поставленных задач и намеченных путей сце-
нической работы." [20]
Таиров в поисках материалов к постановке отправился летом 1914 г. в Париж, где часами просиживал в
индусских залах Musee Guimet, затем в Лондон в Британский и специальный Индусский музей. Он изучил
многие труды, которые стали к этому времени появляться в Европе, а также проштудировал
фундаментальное исследование С.Леви "Le Theatre indien", где подробно излагались традиции индийского
театрального представления и классической поэтики на основе "Натьяшастры". В России "Сакунтала" ведёт
свою историю с 1792 г., когда Н.М.Карамзин опубликовал из неё отдельные сцены. В 1868 г. пьеса
появилась целиком, а в 1879 г. А.Путятой был осуществлён первый научный перевод.
Новый перевод Таирову предложил К. Бальмонт, недавно вернувшийся из длительного кругосветного
путешествия. Поэт, искавший вдохновения в легендах, песнях и верованиях первобытных народов,
совершивший паломничество в Южную Африку, Мексику, Новую Зеландию, Индию и Цейлон, известный
своими переводами Верлена и Бодлера, в "Сакунтале" следовал классической форме и не делал попыток
превратить пьесу Калидасы в символистское произведение. Оформление спектакля Таиров доверил Павлу
Кузнецову, чьи степные работы появились незадолго до того, как выкристаллизовалась таировская идея
"Сакунта-лы", на выставке художников "Мира искусств". О Востоке в творчестве П.Кузнецова остроумно
выразился А.Эфрос, заметив, что художник шел туда "через Париж. Это был западный путь на Восток.
Впрочем, можно считать его самым коротким и прямым, так как в искусстве путь через Париж всегда самый
прямой и короткий." [21] Эти слова можно отнести и к самому Таирову, привёзшему из Парижа готовую
экспликацию своего будущего спектакля, да и новый вариант перевода Бальмонт писал в Париже, где
состоялась встреча поэта с режиссёром.
Спустя десятилетие после премьеры "Сакунталы" критика писала о принципиальности таировских поисков:
"На сереньком фоне театрального безвременья первые работы Таирова казались какими-то удивительно
смелыми дерзаниями, каким-то новым творческим взлётом, какими-то смутно вырисовывающимися вехами,
по которым должно будет пойти застывшее искусство театра." [22]
120
Калидаса, "Сакунтала". Эскиз декорации худ. П.Кузнецова.
В оформлении спектакля, как и в "Жёлтой кофте" был использован принцип условности, но этот раз
присущей индийскому театру. Таиров отверг первые эскизы, предложенные Павлом Кузнецовым и раз-
решенные им в чисто живописном плане и процитировал ему строки из книги Леви: Сцена в глубине
заканчивалась занавеской из тонкой материи. Её цвет должен гармонировать с основным ЧУВСТВОМ ПЬРГК,
(подчеркнуто Таировым — Е.Ш.): белый — для спектакля эротического, желтый —^героического, тёмный
— патетического, пёстрый — для комедии, черный — для трагедии, для ужаса — тёмный, для страсти —
красный и черный для чудесного." [23]

"Взяв эти строки за исход, — писал Таиров, — мы и разработали весь декоративный план постановки,
конечно, предоставив себе полную творческую свободу и отнюдь не ставя себе реконструктивных задач.
[24]
Действие "Сакунталы" разворачивалось на фоне меняющегося в соответствии с настроением задника,
причем цветовую гамму спектакля он строил в соответствии с привычным восприятием. Так лес
обозначался зеленым задником, в то время как в индийской системе восприятия зе-
121
лёному цвету соответствует эротическое настроение. Замечание Таирова о том, что в древней Индии
"спектакли давались во дворцах, в храмах перед статуей того божества, которое хотели почтить" [25] —
стало определяющим в декоративном оформлении. П.Кузнецов так организовал сценическое пространство,
что события "Сакунталы" казались происходящими в одном из древнеиндийских храмов. Действие было
заключено, как в раму, в портал традиционного храма, по обеим сторонам которого вздыбились две
гигантские пятиметровые серо-голубые лошади. Другая пара коней отмечала глубину сцены. "Застывший
порыв этих коней, — пишет А.Русакова, — а еще более — их грациозность по сравнению с фигурами
актёров и утонченной орнаментикой садов Сакунталы и Душианты создавали отвечавший духу драмы
контраст между масштабом небесных сил, движущих судьбой и чувствами героев, и их поступками,
подверженным случайностям." [26]
Чтобы настроить зрителей на восприятие индийского мифа, Таиров последовал совету "Натьяшастры"
начинать театральный спектакль с молитвы, испрашивающей божественного благословения и устраняющей
препятствия, чинимые злыми демонами. Конечно, подобная регламентация древнеиндийской театральной
энциклопедии была им переосмыслена в духе новейших театральных исканий. Пролог, открывающий
"Сакун-талу" содержал в себе больше мистериального начала и возрождал в публике исторически знакомые
ассоциации. Принципиальное отличие пролога от остального спектакля непосредственно прослеживается в
оформлении. В эскизе П.Кузнецова к прологу сохранён принцип перспективы, присущей европейской
живописи и театру, пространство трёхмерно, уходящие ввысь готические своды храма, алтарь — все эти
черты, не свойственные архитектуре древнеиндийского храма, сближают первую картину спектакля со
средневековыми церковными действами.
В решении пролога как нельзя лучше виден тот компромисс между европейским и восточным взглядом на
природу театрального искусства, который в силу естественных причин присутствовал во всех
экспериментах подобного рода. Это был момент примирения двух видений мира, двух разных культур, и
помимо этого — момент примирения эстетических взглядов режиссёра, прошедшего школу восточной
условности в "Жёлтой кофте", и художника, для которого эта работа была первым опытом в театре. Общий
стиль был всё-таки найден, и "Сакунтала" поразила современников неслыханной эмоциональностью
постановки. "Казалось, — писал Н.Берковский, — что растения, животные и человеческая цивилизация
находятся в постоянном внутреннем обмене, составляют одну плоть и одну душу. Вещи сделанные, вещи
цивилизации, и вещи несделанные, живая природа, сливались на сцене друг с другом в одну сплошную
жизнь,
122
Эскизы П.Кузнецова к "Сакунтале". Костюм отшельника (слева), костюм Сакунталы (в центре), костюм
Душианты (справа).
пафос которой и был пафосом индийской драмы. Двуколка царя Души-анты как бы продолжалась в тех двух
конях, которые мчали её, широко занеся свои передние ноги. Ездок, сидящий в колеснице, кони, подковы на
конях — всё это было охвачено общим движением, краски чередовались, перекликались друг с другом." [27]
Сцена в "мировом пространстве", когда Душианта на золотой колеснице, запряженной шестёркой огненных

лошадей мчался в пурпурных облаках в небесную пустынь в поисках забытой им некогда возлюбленной
Сакунталы была одной из самых запоминающихся. Рецензенты отмечали, что "здесь зато уже не кажутся
"условными" и "театральными" разные мелочи, здесь, где всё условно и театрально, где вас с самого начала как
бы заводят на ключ условности и стиля, условливаются с вами играть и рассказывать сказки как можно
удивительней, как можно таинственней или смешней. Здесь... где царь Душианта скачет на деревянных конях, нет
правды фотографической, но зато открывается другая правда, художественная, безгранично важнее, шире той,
другой." [28]
Пьеса Калидасы, написанная в пору становления индусской драматургии [29], и по своим мотивам, и по
отношениям между героями, и
123
главным образом, по своему жизнеутверждающему миросозерцанию, явилась полным контрастом
умонастроениям публики. Она демонстрировала со всей яркостью не поблекших от времени красок мир
первооснов человеческого бытия. Таирову хотелось, чтобы всё в спектакле, которым открылся Камерный
театр, было необычно, чтобы "вместо модной... на сценах театров "женщины-вамп" предстала
"целомудренная девушка-отшельница, живущая в общении с природой, с животными, птицами", чтобы
"вместо привычных... театральных костюмов" зрители увидели "полуобнаженные тела актёров,
раскрашенные в разные цвета — от лимонного и персикового до черного, в зависимости от положения
героев." [30]
Принцип обнажения тела, который, по мнению Таирова, позволил исключительно удачно разрешить
проблему костюмов, не стесняющих жест актёра и гармонически сливающихся с телом, был, очевидно,
подсказан ему опытами современного балета в области греческой архаики, но никак не индийской
традицией, где сложный костюм и грим сценических персонажей являются неотъемлемой частью
представления. Скорее всего свободное импровизационное искусство Айседоры Дункан навело его на
мысль упразднить костюмы, чем строгая регламентация Востока, по одежде определяющего возраст,
характер и социальное положение персонажа. В данном моменте трудно согласиться с американской
исследовательницей творчества Таирова М.Э.Квин-Леви, утверждающей, что принцип обнаженного тела
Таиров целиком взял у индийского театра [31], что касается "раскрашенного тела" — влияние
"Натьяшастры" бесспорно.
Не задаваясь реконструкторскими задачами, Таиров стремился выразить в своём спектакле стиль по-детски
наивной игры, заключающей в себе глубокую философскую мудрость. Обнаженное тело, дающее испол-
нителям громадные возможности выражения, вместе с тем поставило новые трудности. "Сразу стало
очевидным, — писал Таиров, — что если в большинстве своём актёры с грехом пополам умеют носить
современный костюм, то своего собственного тела они "носить" не умеют совсем." [32]
Если в "Жёлтой кофте" Таиров заказывал у лучшего модельера настоящие китайские костюмы, то здесь
подлинность индийской драмы, которая по словам Р.Тагора "поднимает любовь из сферы физической кра-
соты в вечное небо красоты нравственной" [33], была передана с упором на раскрытие её внутренней
сущности. "Понадобилась огромная работа — отмечал Таиров, — чтобы актёры полюбили своё тело и
научились носить его с тем свободным целомудрием, при котором глаз зрителя, как это было на спектаклях
"Сакунталы" уже не останавливается на наготе, а принимает её как своеобразный, радующий его
театральный костюм." [34]
124
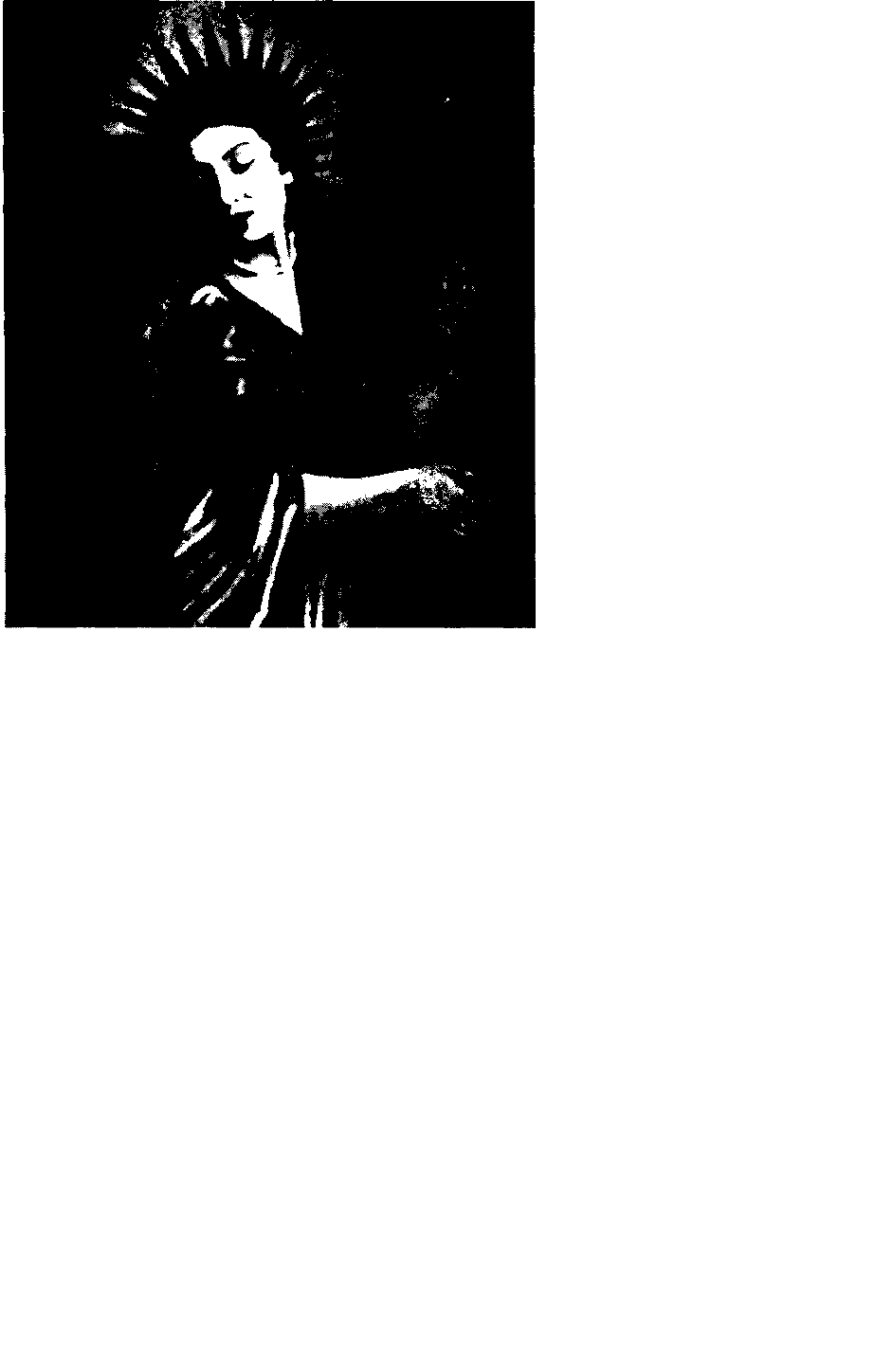
Сакунтала — Алиса Коонен
И критика признала несомненной заслугой Таирова подобное упрощение костюма, при котором вид
обнаженного тела на сцене не вызывал чувства протеста, как не вызывают его античные статуи.
"Сакунтала", — писал Як. Львов, — свежая, мудрая и глубокая в кажущейся наивности вещь. В ней есть
какое-то целомудрие, чистота." [35]
Приёмы наивно-примитивного театра, требующие детской безусловной веры в предлагаемые обстоятельства
и от актёров и от зрителей, использовались в спектакле в полной мере. Не только деревянные кони
Душианты, но и павлин, лани, газели Сакунталы — дочери отшель-
125
ника, и её прекрасный сад, населённый деревьями манго, лианами и диковинными цветами — были
полноправными действующими лицами. Игрушечная бутафория силой полной актёрской веры в её
реальность наделялась самостоятельной жизнью. Чувства и поступки героев сопровождались немедленной
реакцией природы. Когда Сакунтала прощалась с родным домом, отправляясь в путь неизведанный, её сад,
предчувствуя предстоящие ей страдания, омрачался, а животные грустили. Очевидец премьеры писал:
"Дыхание мудрого пантеизма, органическое слияние человека с живой природой ощущаешь здесь не в виде
философской тенденции, а в поэтическом прозрении." [36] Реакция природы создавалась в спектакле не
только игрой природы и поэтическим текстом пьесы, но и полыхающими цветовыми задниками, и музыкой
В.Поля [37], инструментирующей подлинные индусские напевы. Близкие сопровождали Са-кунталу до
"первой воды", ритмически под музыку обходя вокруг одного и того же жертвенника несколько раз — и это
означало, что они прошли путь в несколько вёрст. Прощание Сакунталы с домашним очагом и сборы в путь
неизвестный, которым никогда не ходила "разворачивались в спектакле в мистерию панихиды. "И весь
символический смысл великой поэмы Калидасы, — писал Т.Ардов, — открывается вам сразу и Сакунтала
начинает жить у вас в сердце." [38] Ритуальный смысл приобретали все действия главной героини и её
подруг. Расстананис Сакунталы с прежней жизнью воспринималось как обобщенная картина прощания
человека с жизнью вообще.
Цветовое сопровождение придавало сценической атмосфере необычный колорит: "задники казались как бы
призрачным движущимся спетом, фактуры не чувствовалось, а кустарники, цветы, деревья с какими-то
удивительными, сказочными ветвями поражали необыкновенной трепетной красотой." [39]
Изучая театр Востока, Таиров писал: "Я отнюдь не предлагаю нашим художникам рецептов древней Индии,
я хочу только, чтобы мы не прошли мимо таящейся там истины, свободно преломив её сквозь наше чувство
далеко ушедшей вперёд театральной и художественной культуры." [40] Цветовой аккомпанемент к
действию, помогающий создать на сцене ощущение гармонии между эмоциями действующих лиц и всей ат-
мосферой спектакля, Таиров, начиная с "Сакунталы", использовал в своей режиссёрской практике. Так в
"Федре" движение парусов и изменение их формы и цвета выражало тревогу героини, её смятение, её

катастрофу. Красный плащ тянулся сзади пелопонесской царицы, как кровавый след, неотступно следовал
за нею, словно неумолимый рок, предопределял её судьбу. В "Саломее" серебристые и черные полотна
разной конфигурации служили фоном неистовым страстям, кипящим во дворце Ирода.
126
Как отмечает историк Камерного театра К. Державин: "Своим движением они подчеркивали моменты
эмоциональных переломов действия и сообщали сценической атмосфере известную динамическую и
цветовую насыщенность в сложной пластической и звуковой партитуре спектакля." [41]
Ощущение близящейся катастрофы, постоянное присутствие зловещей птицы смерти, взмахи крыльев
которой слышались иудейскому царю, Таиров вместе с художницей Экстер делал незримое видимым: со
смертью стремительно вверх уходила серебряная полоса и луна наливалась кровью.
Китайские стяги в арлекинаде "Принцесса Брамбилла" образовывали необходимый фон действию и при
помощи немногих аксессуаров позволяли производить комбинированные трюки. Внутреннее перерождение
героев передавалось вовне яркой театральной формой. Эмоция обозначалась "теми лёгкими стягами,
которые держат актёры, принимающие участие в общей карнавальной игре". [42]
В "Ромео и Джульетте" лимонно-жёлтая завеса с диагональной зелёной полосой, протянутая между
предполагаемыми домами, играла немаловажную роль в красочной акцентировке спектакля и перемене мест
действия. В оформлении чувствовались "отзвуки цветовых фонов "Са-кунталы". Комната Джульетты
определялась мягким фиолетовым занавесом, сцена бала шла на фоне нарядного оранжевого паруса, а в
трагическом финале запоминался терпкий малиновый цвет заключительной завесы". [43]
Так традиции древнего индийского театра входили опосредованно в практику современной режиссуры, и
это касалось не только цветового сопровождения действия, но и особого отношения к костюму на сцене.
Костюм в восточном театре, словно редкостный цветок, приковывал на пустом пространстве взгляд зрителя
многочисленными украшениями и яркими красками. В спектаклях Таирова при всей скромности убранства
сцены костюмы были выполнены художниками театра до мельчайших деталей. На абстрактном цветном
фоне костюм нёс в себе наибольшую информацию, конкретной деталью он соединял события пьесы с ис-
торическим временем и местом действия. Костюм у Таирова стал одним из важных средств раскрытия
психологического и эмоционального состояния образа. Подчеркивая перемену, происшедшую в характере
персонажа, костюм мог прямо на сцене трансформироваться, как это было в "Саломее". Данный приём,
свойственный высокой постановочной технике японского театра Кабуки, был увиден Таировым на
гастролях труппы Итикава Садандзи. В пьесе "Наруками" белоснежное платье настоятеля монастыря,
символизирующее его душевное спокойствие и самоуглублён-
127
ность, вдруг в один из напряженных моментов действия покрывалось языками пламени. И было очевидно,
что губительный огонь страсти уже бушует в душе буддийского монаха.
Таиров был уверен, что "костюм — это вторая оболочка актёра, это нечто неотделимое от его существа, это
видимая личина его сценического образа, которая должна так целостно сливаться с ним, чтобы как из песни
слова, нельзя было выкинуть или заменить в ней ни одного штриха без одновременного искажения всего
образа." [44]
Костюмы "Сакунталы", а вернее лишь намёк на них, призваны были Таировым "сделать всё тело, всю
фигуру актёра более красноречивой и звучащей, придать ей стройность, лёгкость, либо неповоротливость и
тяжесть, сообразно творимому им сценическому образу." [45]
Простота общего решения спектакля была, пожалуй, его главной чертой, отмеченной всеми рецензентами.
"Примитивность декоративных средств, граничащая с современной условностью была проведена с начала
спектакля до конца" [46], — писал С.Игнатов.
"Сакунтала" — первый спектакль Камерного театра поставил множество новых проблем в области
актёрской техники. Актёры робко пользовались той полной свободой выражения, которую им предоставил
Таиров. Критика, как и в случае с "Жёлтой кофтой", диаметрально оценивающая достоинства и недостатки
спектакля, была едина в своём мнении относительно слабого уровня исполнения. "Вместо монументальной
архитектуры движения, исходящей из большого, "широкого" жеста, пластическая игра ведётся на полутонах
и сбивается на "жизненную правду", на мелкий бытовой жест." [47]
"Исполнение как-то само по себе, а декорации, музыка, счастливые достижения режиссёра, — сами по
себе... Очевидно, не хватает у исполнителей силы, не хватает большого и захватывающего темперамента."
[48]
Таиров сознавал, что для того синтетического театра, какой виделся ему в мечтах, нужен новый актёр,
который "умел бы и петь, и играть, и жонглировать, и фехтовать." [49] В процессе формирования актёра
нового типа, в совершенстве владеющего разнообразнейшими техническими навыками, преодолевающего
ограниченность жанров и амплуа, Таиров особое значение придавал пантомиме. "Разве не она была
родоначальницей театра в дни Диониса, и в культе Кришны, разве не она всегда возникала на долговечном
пути театра, как верный и неизменный признак его грядущего возрождения?" [50] — писал он в своей книге.
Пантомима стала для актёров Камерного театра первоначальной школой овладения техническим
совершенством. "Покрывало Пьеретты" А.Шницлера и Э.Донаньи, "Духов день в Толедо" М.Куз-
128
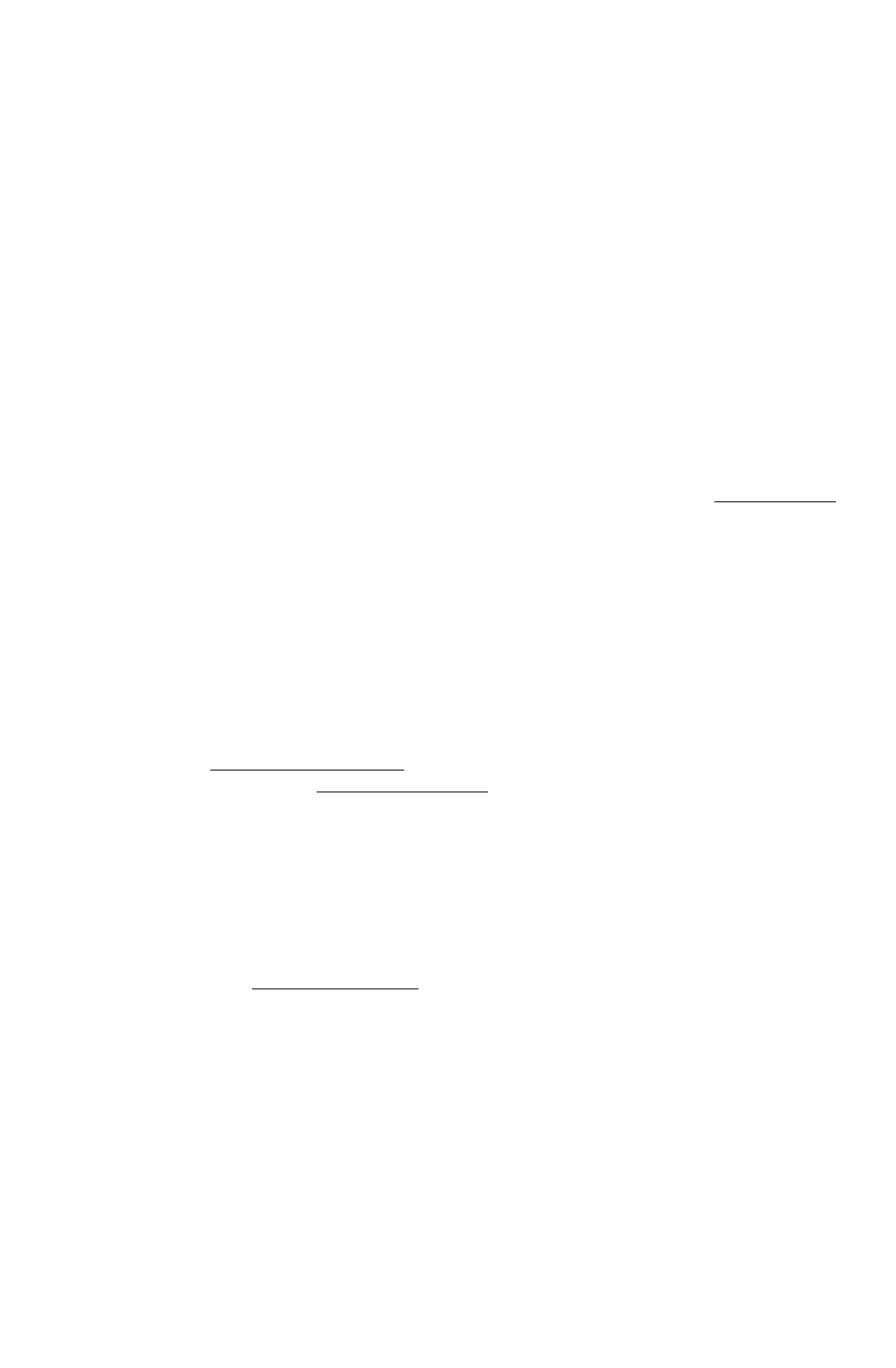
мина, "Ящик с игрушками" К.Дебюсси, "Принцесса Брамбилла" по Гофману помогали им постигнуть
своеобразие пластического развития роли. То, чему в восточных школах обучали сызмала, актёрам Камер-
ного театра нужно было освоить в считанно короткий срок.
Открывшаяся в 1918 г. при театре мастерская-студия должна была ликвидировать отставание актёрского
мастерства от выдвигаемых режиссурой требований. Программа занятий состояла не только из "лекций по
марионеткам с демонстрацией пантомимы", но и из усиленной специальной тренировки, включающей
разносторонние упражнения тела, такие как "акробатика, жонглирование, шведская гимнастика, голос-
постановка-пение, речь", фехтование и даже бокс. Студия, реорганизованная позднее в Высшие
Государственные экспериментальные театральные мастерские (ВГЭкстемас), расширила поле деятельности
Таирова. В плане студийных работ значились и такие дисциплины как "история костюма и умение его
носить, история стилей, история музыки, музыкальный, пластический и словесный ритм, импровизация,
работа на волнение, эмоцию, работа на крик, история и практика грима и т.д." [51]
Таиров не создал разработанной системы актёрской технологии, но в его опытах, как и в экспериментах
Мейерхольда, отчетливо видно стремление поднять уровень актёрского мастерства за счет синтеза достиже-
ний эпох яркой театральной формы. Он изучает импровизацию, которая делает актёров такими же
свободными "как были свободны прекрасные арлекины прекрасной commedia dell'arte." [52] Он
интересуется тем, что может дать "музыкальный, пластический и словесный ритм" традиционных
восточных школ для современного актёра, и как напряженная выразительность "работы на крик" в цирке и
опять-таки в восточном театре мобилизует психотехнику исполнителя. Стремление увидеть сценическое
действие в его первичном виде, когда творческая эмоция ищет выхода вовне через жест, через пластику,
через форму, ощущается на протяжении всей творческой деятельности Таирова. Возражая сторонникам на-
турализма, он писал: "Нет, пантомима — это не представление для глухонемых, где жесты заменяют слова;
пантомима — это представление такого масштаба, такого духовного обнажения, когда слова умирают и
взамен их рождается сценическое действие." [53]
Мысль о молчании как наиболее действенной форме проявления эмоции появилась в театральном обиходе
на рубеже веков вместе с пьесами Метерлинка, где "слова говорят одно", а жизнь человеческого духа
существует по своим собственным законам. В трактате "Сокровище смиренных" Метерлинк пишет: "Мы
говорим только в те часы, когда мы не живём, в те мгновения, — когда мы не хотим замечать своих близких,
когда чувствуем себя вдали от действительности." [54]
129
Таиров, воспринимая идею Метерлинка, своей режиссёрской практикой освобождал её от излишнего
мистицизма, и говоря, что "в моменты максимального напряжения чувства наступает молчание" [55], усма-
тривал в этом зерно творческого подхода к сценическому действию. "Духовное обнажение" рождает
"эмоциональный жест", что даёт, по Таирову, "ключ к обретению подлинной формы, насыщенной
творческим чувством, — эмоциональной ФОРМЫ. "Эмоциональный жест", "эмоциональная форма", —
считает Таиров, — ведь это и есть тот сценический синтез. к которому мы ощупью шли в нашей работе, вне
которого нет исхода современному театру, да и театру вообще." [56]
Сценический синтез, утраченный на европейских подмостках, мог быть восстановлен на основе
сохранённых Востоком традиций. Вслед за Метерлинком, который писал свои первые пьесы для театра
марионеток, отдаёт предпочтение молчаливому и бесстрастному потомку древних богов и Крэг. На своём
пути к синтезу, основанному на высочайшей духовности, он парадоксальным образом отказывается от
эмоций, которые по его мнению могли испортить всё. А Таиров, полемизируя с Крэгом, призывал
"помолиться" о том, чтобы в театр вернулся его подлинный кумир — Актёр или... "Сверхактёр". [57]
Таирову нужен был действующий актёр. Идея марионетки казалась ему лишенной всякого смысла, так как
уделом куклы является "лишь пассивное движение и лишь активной воле невропаста дано претворять это
движение в фантасмагорическую видимость действия... И потому, — считал Таиров, — навеки безответным
должно остаться моление Крэ-га о возвращении в театр Кумира, сверхмарионетки." [58]
Однако, противоречие между Таировым и Крэгом было не столь уж радикально, как это может показаться
на первый взгляд. Обойти проблему самостоятельности актёрского творчества в жестких рамках режиссуры,
столь актуальную для начала XX века, Таиров не мог. И хотя для него актёр — активно действующий
человек, всё-таки его активность естественно ограничивается рамками режиссёрского замысла. Крэг, отка-
зывающий актёрской игре в праве именоваться искусством, имел в виду отсутствие какой бы то ни было
заботы о том, чтобы поставить актёрское мастерство в условия точного расчета. Стихийность переживания
и вдохновения, гениальными проблесками проявляющаяся в лучших представителях актёрского цеха, была
в то же время самой уязвимой профессиональной чертой. Парадоксальное заявление Крэга о
сверхмарионетке лишь заостряло проблему, обнажая её сущность. Впоследствие Таиров, всё-таки не
соглашаясь с крэговской формулировкой до конца, писал: "Отрицая, по существу, посылку Крэга о
сверхмарионетке и противопоставляя ему посылку о сверхактёре, к которому должен стремиться новый те-
130
атр... я тем не менее говорю, что марионеточный театр должен сыграть в развитии театра очень большую
роль, ибо в нём есть много такого элемента, который забыт театром живым, театром, строго ограниченным
от театра марионеток, ибо построение макета, построение костюма, построение движений — всё это может

быть проверено на постановке театра марионеток." [59] Но не только костюм, макет и построение мизансцен
увидел Таиров в театре марионеток, но также — отстранённое исполнение марионеткой своей роли —
принцип, являющийся органической и неотъемлемой частью актёрского мастерства в восточных
театральных школах. Размышляя над двойственной природой актёрского творчества, он аналогично Крэгу и
Мейерхольду, приходит к проблеме взаимоотношений актёра и образа, определяя её понятием
"кинетическое чувство". "Актёр, — записывает он, — должен уметь себя видеть (без зеркала), слышать (без
звука). Поговорка — "не увидишь, как своих ушей" — для актёра не действительна. Должен видеть свои
уши, себя, улыбку, движение, всё, даже с закрытыми глазами, — упражнять это — видеть себя в лесу, на
веранде, в комнате, на горе, в море, на снежной вершине — видеть, а не представлять. Слышать свой голос,
мелодику речи, интонацию, ритм, forte, piano, crescendo и т.д." [60]
Сверх-актёр Таирова должен был идеально овладеть всеми средствами театральной техники и уметь в
нужный момент мобилизовать себя, чтобы достичь максимального эмоционального эффекта. Он должен
был развить в себе шестое чувство, позволяющее ему мгновенно и верно реагировать, забыв о технических
экзерсисах, с лёгкостью акробата преодолеть самые трудные моменты внешнего проявления роли и донести
до зрителей во всей полноте эмоциональное содержание своего образа. Сверх-актёр, пытающийся осознать
внешнее проявление эмоций, должен был это шестое, а по Таирову "кинетическое чувство" —
"контрольную и диспетчерскую инстанцию", которая управляет отбором и степенью проявления
технических средств, развить в себе до автоматизма. Поразительно совпадение этого принципа таировской
эстетики с мейерхольдовским "зеркаленьем". "Это кинетическое чувство, — отмечает К.Державин, —
уподобляется внутреннему зеркалу, в котором актёр видит форму своего движения." [61] Как и
Мейерхольду, Таирову нужен был актёр, умеющий в нужный момент посмотреть на себя со стороны, чтобы
взять на учет выразительность своего тела. Актёр, умеющий выразить психологию через пластический
рисунок, передать "эмоциональным жестом" внутреннее состояние образа.
На пути к синтетическому театру, имеющему в основе "органическое проникновение пантомимы в самую
ткань всего спектакля в целом и каждой роли в отдельности," [62] помимо "эмоционального жеста" Таирову
131
понадобилась "эмоциональная маска". В этом положении без труда прослеживаются уроки восточного
театра, вынесенные Таировым из "Жёлтой кофты" и "Сакунталы". Работа над шедевром санскритской
драмы помогла ему глубже проникнуть в своеобразную поэтику и осознать её принципиальное отличие от
европейских традиций. "Образ для Калида-
С
ы
(
— не беа основания замечает К.Державин, — совокупность
немногих условных черт (маска), которая служит своего рода руслом для самодвижения эмоциональной
стихии." [63]
Вновь касаясь момента, требующего посредника между актёром и образом, Таиров отмечает: "Правда, это
не были маски в буквальном смысле слова, потому что маска давала застывшие эмоции (например, античная
маска). Здесь же в эмоции могло проявляться динамическое начало. Но благодаря тому, что это отливалось в
определённую эмоциональную форму, фиксированную в эмоциональной маске, эмоциональные воз-
можности при наличии этой крупной формы были значительно ограниченными (курсив мой — Е.Ш.)" [64]
Таиров, вначале пытающийся ниспровергнуть теоретические обоснования Крэга, приходит к идее
ограничения актёрских средств и разумного их использования в определённом режиссёрском рисунке. "В
пантомиме, — говорил он, — актёр исходит в своём образе от маски, которая определяет условность и
стилизованность его движений." [65]
Борьба с неуправляемой актёрской эмоцией, разрушающей искусство театра, заявление Крэга о
сверхмарионетке и Таирова о сверхактёре, социальная маска Мейерхольда — всё это было явлением одного
порядка, выдвинутое режиссёрской мыслью начала XX века на передний план театральной теории и
практики.
Идея образа-маски, требующего ограничения эмоций и предельно ясного их выражения, возникла у Таирова
под воздействием поэтики "Сакунталы", созданной в рамках "Натьяшастры". Согласно этому своду правил в
пьесе должно присутствовать четыре канонические эмоции-настроения: любовь (шрингара), отвага (вира),
гнев (раудра) и страх (бха-янака). Театральное представление создаётся путём комбинирования этих
четырёх основных эмоций. О четырёх первичных эмоциях, положенных в основу системы эмоциональных
состояний Камерного театра, сообщает К.Державин. "Любой сценический образ, — пишет он, — мог быть
разложен на простейшие эмоциональные элементы, из которых исходными и первичными полагались
эмоции гнева, страха, радости и страдания. Эти эмоциональные состояния понимались в их извечной,
отвлеченной от условий места и времени форме." [66] Сочетание этих врожденных реакций развивается в
сложную систему эмоциональных состояний. И главной задачей актёра, как считал Таиров, помимо
безупречного овладения внеш-
132
ней техникой, становится умение возбуждать в себе эти четыре основных эмоциональных состояния.
Очевидно почти прямое соответствие таировской системы эмоциональных состояний и теории
традиционного индийского учения об искусстве театра. Исключая неопределённость и многозначность
психологических реакций, Таиров возвращал эмоцию, также, как и цвет, к её локально выраженной
первооснове. Огрубляя эмоцию, лишая её полутонов и оттенков, он добивался звучания первобытных

страстей. Такой подход к психологии давал ключ к драматургии О.Уайльда, О'Нила, Расина. Не трудно
предположить, что и успех "Оптимистической трагедии" Вишневского был во многом основан на
монументальных формах выражения простых и понятных эстетически неискушенному зрителю чувств.
"Сакунтала" сыграла значительную роль в судьбе Таирова. И хотя многое из того, что он пытался сделать в
этом спектакле, в силу разных причин не удалось, хотя замысел был глубже и шире, но, как это часто бывает
в театре, его воплощение оказалось далёким от идеального, — этим спектаклем Таировым и Камерным
театром был намечен путь дальнейшего развития искусства театра.
В творческой биографии Таирова была еще одна попытка обратиться к восточной пьесе. В 1917 г. он
поставил "Голубой ковёр" популярной в то время московской поэтессы Любови Столицы. Можно понять,
что привлекло Таирова к этой стилизации под Восток. Ему хотелось вновь вывести на сцену героев, не
знающих рефлексивности и изломанности психики современной драматургии ("Голубой ковёр" был
поставлен в один год с "Саломеей" О.Уайльда), вновь прикоснуться к живительной силе сценического
примитива. Но схематичность и надуманность сюжета, эксплуатация автором экзотических моментов —
свели на нет все усилия театра.
И хотя в спектакле использовался полюбившийся Таирову принцип пустой сцены, и действенная линия
раскрывалась актёрами, уже хорошо владеющими искусством сценического движения и пантомимы (чего
стоил один танец Мневер-Коонен на голубом ковре!), и художник А.Ми-ганджиан нарисовал ярко-голубой,
словно ясное небо, восточный ковёр и одел героев в пёстрые цветные одежды — критика отметила эту
постановку как случайную в репертуаре Камерного театра. Правда, спектакль пользовался зрительским
успехом и был, без сомнения, более доступным для понимания, чем, скажем, "Жёлтая кофта" или
"Сакунтала", но в нём намечалась тенденция преобразования стиля в моду. Подобное "популя-ризаторство",
конечно, далеко стояло от тех высоких художественных задач, которые выдвигал перед собой Таиров.
Однажды, "в порядке самокритики' , он отметил, что "восточными мотивами" часто вдохновляются наши
133
поэты, художники, композиторы, режиссёры, балетмейстеры... в большинстве случаев — этот лже-восток,
столь же далёк от настоящего, как "развесистая клюква" и пресловутый "стиль рюсс" далёк от подлинного
творчества нашей страны." Г671 Очевидно, потребность в самокритике воз-
-Г* " Г* £. "
никла у Таирова после неудачного опыта с 1 олуоым ковром .
Таиров обратился к традициям восточного театра в самом начале своего творческого пути. Поэтическая
условность восточной драмы и её жизнеутверждающий пафос, высочайшая культура тела, пантомима, от-
точенный жест, экономное использование технических средств и эмоционально насыщенная игра, цветовой
аккомпанемент к действию и внимательное отношение к костюму, уникальность сценического синтеза —
всё это в большей или меньшей степени подспудно присутствовало в дальнейшем творчестве Таирова и
подчас неожиданно выходило на поверхность. Многие лучшие сцены своих последующих спектаклей
Таиров решал специфически театральным языком, как было в "Федре" Расина, в "Ферме" ("Любовь под
вязами") и "Негре" О'Нила, как было, наконец, в "Оптимистической трагедии" Вс. Вишневского, где "самые
сильные места спектакля, — по замечанию О. Литовского, — построены на движении, на пантомиме." [68]
Диалог с Востоком во многом помог Таирову обрести своё собственное творческое кредо. Ему удалось
создать, по словам Франсуа Леже, "театр одновременно восточный и европейский в самом глубоком зна-
чении этих слов." [69] Он строго следовал намеченной им в творчестве линии, и одним из первых поставил
проблему актёрского мастерства, устремляясь к синтетическому театру через воспитание разносторонних
качеств творческой личности в актёре.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глубокий интерес к восточному искусству, возникший в Европе на рубеже XIX—XX веков в литературе и
живописи в дальнейшем распространился и на театр. Если первоначально к поэтической образности
восточного театра обратились символисты и сторонники условного театра, то затем деятели самых
различных эстетических направлений черпали своё вдохновение в неиссякаемой сокровищнице культуры
Востока, использовали достижения восточного театра как со стороны формы, так и со стороны содержания.
Вопрос Жюля Гонкура — "Стремление к реальному в литературе, возрождение искусства XVIII века,
триумф японизма — разве не были они тремя великими течениями в литературе и искусстве второй по-
ловины XIX века?" [1] — время разрешило утвердительно.
Действительно, на рубеже веков ориентализм вошел в европейское искусство, как одно из определяющих
явлений, равно удовлетворяющий и сторонников символизма, и апологетов натурализма. В одном случае в
восточном искусстве видели систему символов, в другом — картину жизни, поразительную по точности
передачи момента. Двойственный характер восточного искусства, основанного на недуальном
мировосприятии, раскрывал перед Европой горизонты многообразия синтетических форм человеческой
деятельности.
Формирующаяся режиссура, стремясь к синтезу в театре, взяла на вооружение приёмы, накопленные
различными культурными конгломератами. Преодолевая кризисную общественную ситуацию,
противоречия культа индивидуализма, европейское искусство сделало попытку вырваться за рамки

европоцентризма. Это были первые шаги навстречу тотальному театру, соединяющему в себе достижения
всех мировых культур, основанному на синтезе искусств в новом понимании этого слова. Эстетика
восточного искусства, сформированная на осознании символа как средства поэтического восприятия
действительности, оказала глубокое влияние на всё искусство XX века.
Крэг, Рейнхардт, Мейерхольд, Таиров были среди первых, кто на рубеже XIX—XX веков предвидел в театре
будущего союз приёмов западно-европейского и восточного театров. Они стремились к созданию такого
театрального стиля, который бы базировался на достижении техники всех эпох. Они восприняли от
восточного театра многое: поэтику пустого пространства и его динамического использования; новую
систему взаимоотношения со зрителем, равноправным творцом создаваемого спектакля; ритмическое
построение спектакля; внеиндивидуалистическое от-
135
ношение актёра к создаваемому образу и бесконечное разнообразие приёмов его игры; условность и
декоративность внешней стороны представления; равноправный синтез искусств в театре, объединившихся,
по определению С.Эйзенштейна в "монистический ансамбль"...
Наиболее полно театральную концепцию восточного театра воспринял и отразил Гордон Крэг.
Первоначальное его увлечение японской гравюрой переросло в осознанное использование принципов
композиции различных видов искусств — графики и сцены. Реформа сценического пространства,
предпринятая Крэгом, несла в себе идею преобразования подмостков в философскую категорию.
Надвременное существование шекспировских героев в трактовке Крэга тесно смыкается с эстетикой вневре-
менного восточного искусства. Теория Сверхмарионетки Крэга имеет глубокие восточные корни. В этой
теории сказались как пессимистическое разочарование Крэга в возможностях современного актёра, так и его
мечта о совершенном во всех отношениях искусстве актёра будущего, способного преодолеть узкие рамки
собственной индивидуальности. Однако, Крэг проблему обобщенности актёрского образа поставил
слишком категорично. Мысли Крэга, казавшиеся в те годы еретическими, уже осуществлялись в полемике и
по-своему Рейнхардтом, Мейерхольдом, Таировым, а позднее были очищены от крайностей и развиты
многими художниками сцены. Принцип мейерхольдовского "самолюбования в процессе игры", "кинети-
ческое чувство" у Таирова, импровизация в духе комедии дель арте у Рейн-хардта, затем — ироническое
отношение к образу у Вахтангова — вот та линия аналитического осознания психологии актёрского
творчества, которая привела к эффекту "отчуждения" Брехта. Раздробление театра на элементы,
предпринятое формирующейся режиссурой на первом этапе аналитического осознания театром своей
синтетической природы, коснулось и сценического образа. Актёр и его роль уже не составляли единого
целого, отождествление было отвергнуто, и мастер сцены с удивлением и радостью ощутил власть над
своим созданием.
Приёмы театра марионеток, возвращение на сцену маски должно было сыграть обновляющую роль в
развитии театра. Театральное искусство на разных этапах своего развития неизменно обращалось к
гротеску, пародии, когда груз омертвелых традиций мешал двигаться вперёд и грозил опасностью потери
самой специфики сценического искусства. И тогда через балаган, через скоморошество, через насмешку и
буффонаду театр возвращался к своим первоосновам — стихийной, условной театральности. На рубеже
веков необычайно возросло внимание к тем эпохам, когда на сцене сильно было гротескное начало.
Интересно отметить, что все, кто восставал против натуралистической блеклости и чистой разговорности в
театре, кто стремился к обогащению средств театральной выразительности, не-
136
избежно на каком-то этапе увлекались итальянской комедией масок. Часто это увлечение сопровождалось и
глубоким интересом к театральным формам восточного театра. По сравнению с комедией дель арте театр
Востока имел одно явное и неоспоримое преимущество — ему удалось сохранить своё искусство в веках
нетронутым безжалостной рукой времени.
"У колыбели театра, в котором возродился дух подлинной театральности, — отмечал Т.Манн, — стояла
пародия." [2] Новое искусство театра XX века рождалось в небольших кабачках и кабаре, в возникающих и
исчезающих студиях и школах. Эксперименты в духе гротеска на восточную тему или на тему итальянской
комедии масок отрабатывали приёмы, методы новой театральности. Гротеск заключает в себе сам процесс
"брожения" в театральном искусстве, когда новое еще не выкристаллизовалось, а старое уже теряет свою
форму. В гротеске всегда взаимодействуют два начала: отрицания, ниспровержения старого и утверждения
нового. Причем новое, возвращаясь к первоосновам театрального искусства, уже несёт в себе опыт
ниспровергнутого. В гротеске видел Мейерхольд основу синтетического театра, в то время как для Крэга
основа синтеза в театре заключалась в движении.
В конце XIX в. многим театральным деятелям казалось, что основной причиной, приведшей театр к
деградации, является сцена-коробка, создающая зрителю иллюзию картин жизни. В реконструкции
театрального здания и сцены виделась панацея от всех бед. Рейнхардт первым из европейских режиссёров
последовательно разрушил границу между сценой и залом, вынеся действие своего спектакля "Сумурун" на
знаменитую в японском театре Кабуки "цветочную тропу". С лёгкой руки Рейнхардта в европейский театр
вошло и другое изобретение театра Кабуки — вращающаяся сцена. В своём стремлении к синтетическому
театру Рейнхардт объединяет две игровые стихии Востока и Запада, что ярче всего проявилось в "Турандот"
