Репина Л.П. (ред.) История и память: историческая культура Европы до начала нового времени
Подождите немного. Документ загружается.


Августина, Иеронима, Беду и других авторитетов в области христианской веры оформлены очень
аккуратно
4
. В свою очередь, младший современник самого Хигдена, анонимный автор Eulogium historiarum
sive temporis, труд которого примерно на половину представляет собой компиляцию «Полихроникона», ни
разу не упоминает имени своего предшественника. Отсутствие преклонения перед трудами современников
объясняет общую для средневековой хронистики тенденцию к явному сокращению количества цитат по
мере приближения автора к изложению современных ему событий.
Мало того, что хронисты указывали не всех своих предшественников, они нередко приводили
вымышленные списки и ссылки. Как правило, это делалось не из личного тщеславия и желания про-
демонстрировать свою ученость, а опять-таки для придания весомости своему тексту. Компилируя труды
предшественников, хронисты копировали приводимые в них ссылки для указания на первоисточники
информации. При этом зачастую историографы не только не имели возможности проверить точность цитат
(не располагая нужными книгами или не зная языка, на котором они были написаны),
41
Примечательно, что сама фраза о необходимости указания источников информации является дословной цитатой из введения
к «Диалогам» Григория
Великого.
42
Беда Достопочтенный. Предисловие к «Церковной истории народа англов» / Пер. В. В. Эрлихмана. СПб., 2001.
45
Хигден старается дать точную ссылку, указывая главы цитируемых произведений, а также отмечая начало и конец цитаты
(Higden R. Polychronicon / Ed. С. Balinston, J.R. Lumby. L.:RS, 1865-1886. 9 vols.).
12- 3240
354
Глава 9
но и не стремились к этому, полностью доверяя авторитетным предшественникам. Подобное отношение к
цитатам неизбежно приводило к эффекту «испорченного телефона»: неточности, ошибки, описки,
допущенные одним автором, неизбежно перекочевывали в сочинения его читателей. Таким образом, сноски
не только не отражали реальной источниковой базы или хотя бы подтверждали правдивость автора текста,
но сами содержали ложную информацию. Современные исследователи нередко заходят в тупик, пытаясь
определить круг источников того или иного автора. Например, Ранульф Хигден часто ссылается на некоего
Геродота, который, судя по цитатам, не имел ничего общего со знаменитым греческим историком.
Существовала даже определенная иерархия среди авторитетных авторов. Чаще всего наибольшим весом
обладали более древние из христианских авторов. В качестве примера можно напомнить хорошо известный
казус Петра Абеляра, который, ссылаясь на авторитет Беды (Bede auctoritatem), сначала признал Дионисия
Ареопагита покровителем Сен-Дени, а затем поменял свое мнение, поскольку обнаружил у Евсевия
Кесарийского и Иеронима противоречие тексту Беды. Свое решение Абеляр аргументировал тем, что
авторитет обоих отцов церкви «намного выше», чем у Беды . В отличие от Абеляра английские хронисты не
ставили под сомнение авторитет Беды. Для них все написанное Бедой имело статус неоспоримой истины.
Как отмечает Генрих Хантинттонский, авторитет Беды был «полностью непреложен». Этот тезис получал и
обратное прочтение: все, не одобренное авторитетом Беды, могло быть поставлено под сомнение. Например,
тот же Генрих Хантингтонский объясняет свое нежелание писать о современных ему святых тем, что он не
смог найти о них книгу, автор которой обладал бы таким же авторитетом, что и Беда Достопочтенный .
Особое место в английской средневековой историографии занимает Гальфрид Монмутский. На примере
этого автора можно исследовать явление исключительное — отделение текста от репутации его автора. Для
английских историков эпохи Средневековья и раннего нового времени Гальфрид был своего рода
антиподом Беды
44
Гене Б. Указ. соч. С. 159-160.
45
Henri de Huntingdon. Op. Cit. IX, I: «Я собрал вместе в единую последовательность почти все чудеса, которые привел великий
сочинитель Беда, хотя в его труде они разбросаны по разным периодам времени. О прославленных людях, творивших чудеса
после времени Беды, я решил не говорить ничего, хотя они ничем не ниже и не менее многочисленны, но, как я сказал выше,
им недостает ни известного автора, ни такого же достоверного, как Беда, слуги Божьего».
Представление о достоверном...
355
по способу релевантности: его труд «История бриттов», несмотря на необыкновенную популярность
(превышающую популярность самого Беды), неизменно вызывал сомнение у педантичных историографов.
По сути, ни один другой исторический труд не подвергался таким критическим нападкам, как сочинение
Гальфрида. Но если обратиться к анализу обвинений в адрес Гальфрида, можно увидеть, что все они
выстраиваются на критике сюжетов, связанных с правлением короля Артура. Вместе с тем хорошо известно,
что фантазия Гальфрида Монмутского породила множество других историй, которые довольно быстро
проникли в свод английской средневековой историографии, формируя представление англичан о прошлом
своего народа. Неизбежно возникает вопрос о том, почему из всех рассказов Гальфрида только правление
короля Артура вызывало сомнение у историографов, ведь все должно было быть как раз наоборот: устные
легенды и предания, а также рыцарские романы должны были подтверждать его правоту. На наш взгляд,
причина этого кажущегося несоответствия коренится главным образом в противоречии последней части
«Истории бриттов» трудам авторитетных авторов.
Древнейшие авторы, посвятившие свои труды истории Британии, Гильдас Премудрый и Беда
Достопочтенный начинают свое историописание с момента появления на острове римских войск. Свое
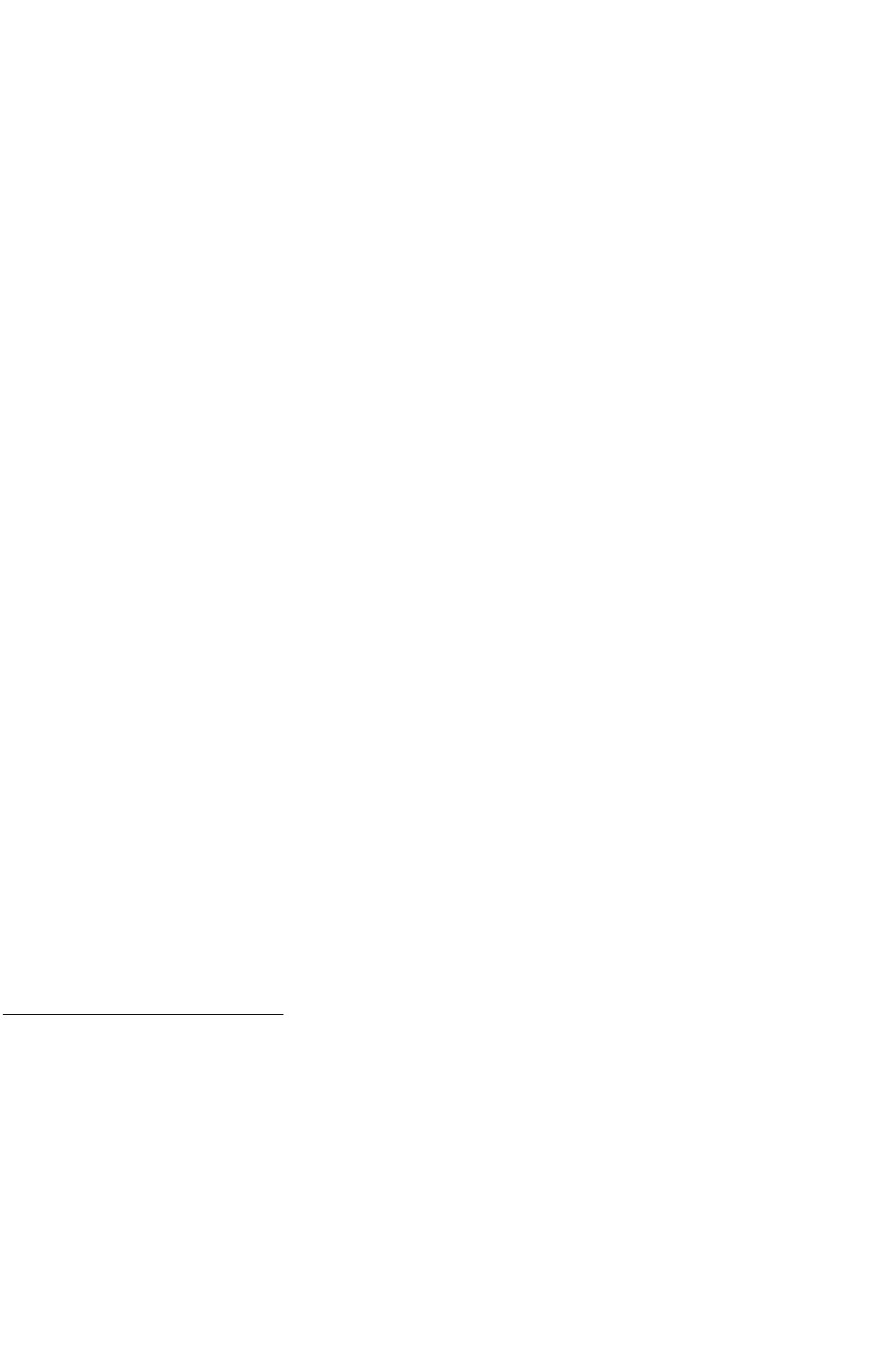
решение не писать «о древних ошибках, общих у всех народов... до пришествия Христа», когда погрязшими
в грехах людьми правили тираны, Гильдас объясняет в первую очередь тем, что «сохранилось очень мало
письменных свидетельств (которые, даже если они и существовали, теперь недоступны, поскольку были
сожжены врагами или увезены нашими людьми, когда они отправлялись в изгнание)» . Аналогичную
позицию занимает Беда. Вслед за этими
47 г-
авторитетами все последующие хронисты обходили доримскии период английской истории упорным
молчанием. Но если о времени заселения Британии потомками троянцев, а также о деяниях первых
правителей острова Гильдас и Беда ничегс не написали, то о сопротивлении бриттов и римлян саксам, т. е.
об «эпохе правления короля Артура», эти авторы рассказали достаточно. В обоих произведениях
упоминается поражение саксов при горе Бадон (Гильдас упоминает,
Гильда Премудрый. О погибели Британии 4 / Пер. Н. Ю. Чехонадской.
СПб., 2003.
7
Первым автором, рассказавшим о доримском периоде истории Британии, был Ненний, написавший свою версию «Истории
бриттов» около 800 г. Именно Ненния можно считать автором «троянского мифа» о происхождении английского народа. Но
известность труда Ненния была довольно ограничена.
12*
356
Глава 9
что эту победу бритты одержали под руководством римлянина Амброзия Аврелиана
48
; Беда же и вовсе не
упоминает имени победителя саксов ). Это несоответствие «Истории бриттов» трудам авторитетнейших из
древних британских авторов вынуждало английских хронистов более тщательно перепроверять рассказы
Гальфрида, сравнивая их с другими источниками: сочинениями римских авторов, списками консулов и
великих понтификов и пр., что усугубляло подозрения в недостоверности.
Для самого Гальфрида, как и для любого средневекового историка, актуальной была проблема
подтверждения информации ссылками на авторитетный источник. Эту проблему Гальфрид решил весьма
элегантно. С формальной точки зрения авторитеты свидетельствовали против его текста, и закрыть на это
глаза было невозможно. Поэтому в самом начале своего труда Гальфрид честно признается в том, что
большинство приведенных в его труде рассказов о древней истории бриттов отсутствует в сочинениях
Гильдаса и Беды. Именно этим хронист и объясняет свое стремление взяться за перо. В качестве своих
источников Гальфрид называет, во-первых, предания, существующие у многих народов, в таком виде, «как
если бы они были тщательно и подробно описаны», а во-вторых, «древнюю книгу на языке бриттов, в
которой без каких-либо пробелов и по порядку, в прекрасном изложении рассказывалось о правлении всех
наших властителей», включая короля Артура.
Таким образом, Гальфрид, подобно всем другим хронистам, предстает не творцом повествования об
исторических событиях, а лишь пересказчиком этих повествований. Однако оставалась проблема
сопоставления авторитета Гильдаса и Беды с авторитетом того анонимного древнего автора «книги на языке
бриттов», которую якобы использовал Гальфрид. Результат оказывается весьма любопытным. С одной
стороны, отсутствие упоминания об Артуре ставит под сомнение весь текст Гальфрида. Уильям из Ньюборо,
Гиральд Камбрий-ский, Ранульф Хигден, Джон Растелл и многие другие историографы на протяжении
веков не уставали сопоставлять «Историю бриттов» с текстами других авторов и документальными
источниками, выявляя бесконечные противоречия, указывающие на недостоверность труда Гальфрида. С
другой стороны, англичане не могли отказаться от искушения обрести наконец-то «полную» историю
«своего народа». Это желание поверить в достоверность единственного варианта древней истории
подогревалось тем, что предложенный Гальфридом вариант
Гилъда. Указ. соч. 25.
' Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. I, XVI.
Представление о достоверном...
357
был весьма лестным для англичан, предки которых представали одним из самых благородных и
могущественных народов.
Хронисты приходят к компромиссу. Все обвинения во лжи и в стремлении выдать басни за правдивую
историю распространяются исключительно на ту часть, в которой описано правление короля Артура.
Остальной текст Гальфрида как бы отделяется от дурной репутации его создателя. В этом смысле
отсутствие у Гильдаса и Беды истории, предшествующей римскому вторжению в Британию, одновременно
является для сочинения Гальфрида отсутствием противоречий с текстами уважаемых предшественников.
Никто из хронистов, многие из которых педантично сопоставляли даты правления древних королей бриттов
со временем правления иудейских царей или римских императоров, не обратил внимание на какие-то
несоответствия и ошибки Гальфрида. В середине XVI в. итальянский историк Полидор Вергилий будет
тщетно обращать внимание англичан на то, что поход Бренния на Рим состоялся на 310 лет позже, чем об
этом пишет Гальфрид
5
. Вплоть до XVIII в. никто из английских хронистов, ни до, ни после Полидора, не
внес изменения в хронологию Гальфрида и не поставил под сомнение эти рассказы. Таким образом,
скептическое отношение хронистов к труду Гальфрида Монмутского базировалось на противоречии тексту
Беды Достопочтенного, Гильдаса Премудрого и других авторитетов.
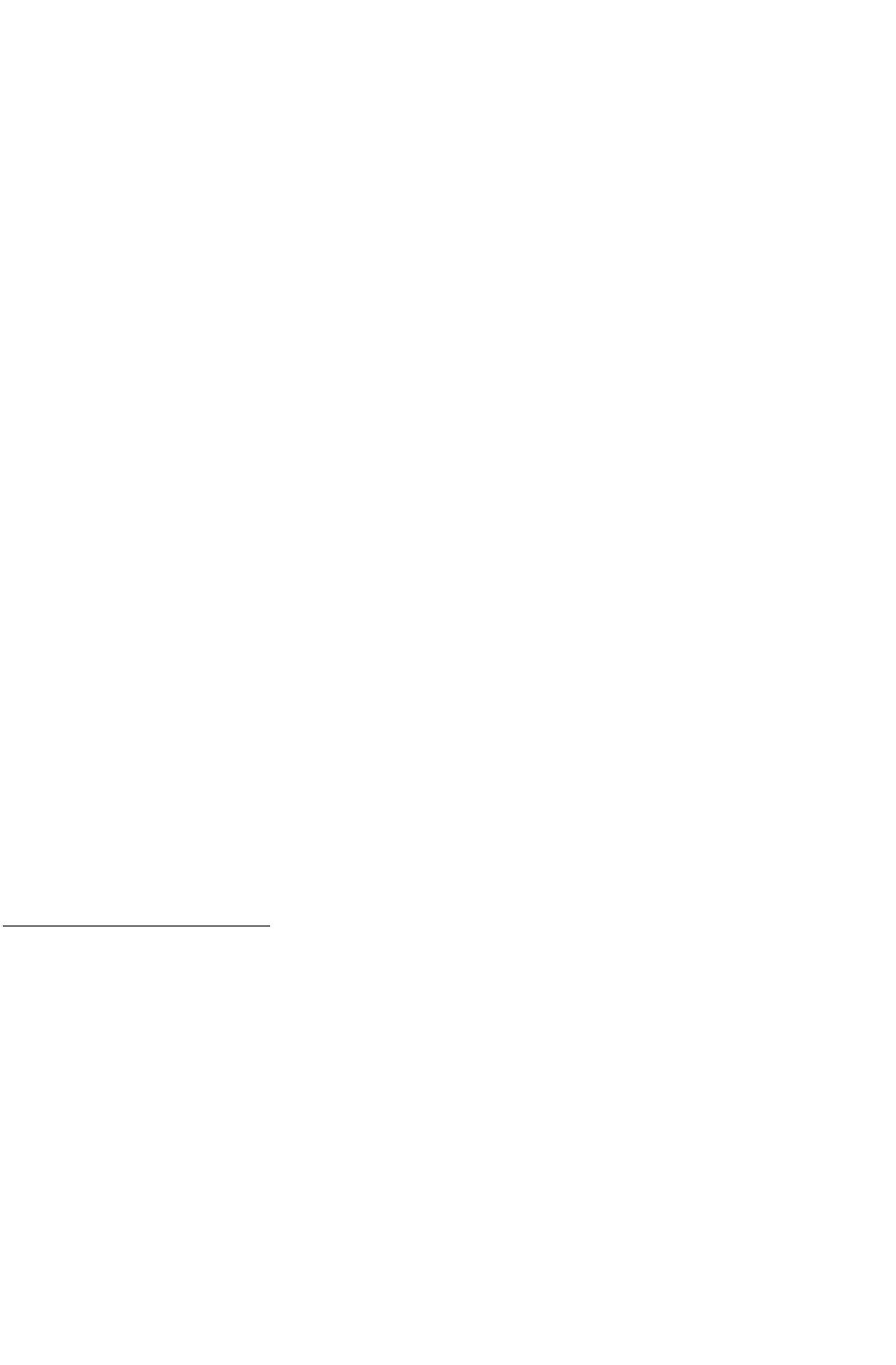
Реформация вносит свои корректировки в систему оценки историографами трудов древних и средневековых
авторов. Уильям Кэмден отмечает, что Гальфрид Монмутский был «знатоком древностей» (well skill'd in
Antiquities), и хотя в его сочинении не все заслуживает доверия, не стоит полагать, что «эти предания были
его собственной выдумкой». Критический подход Кзмдена к Гальфриду отнюдь не односторонен: конечно,
антикварий признает, что Гальфрид часто полагался на свое воображение, делая оговорку «как и
большинство других писателей монашеских времен». Таким образом, Кэмден уравнивает достоверность
«Истории бриттов» с другими средневековыми хрониками. При этом Кэмден также замечает, что сочинение
Гальфрида находится в списке трудов, запрещенных римской церковью (что, без сомнения, повышает
ценность этого произведения в глазах протестантских читателей) .
Помимо получения информации из достоверных источников для авторов исторических произведений
существовал и другой спо-
50
Polydore Vergil's English History / Ed. H. Ellis / Camden Society Original Series, XXIX (1844), XXXVI (1846). 2 vols. P. 37-38, 41-
45.
51
Camden, William. Britannia. L., 1971. P. 31.
358
Глава 9
соб подтвердить свою правоту с помощью авторитета. Как верно отметил Б. Гене, факт одобрения со
стороны авторитета мог служить критерием истинности, постепенно приводя к тому, что само понятие
«одобренный» (approbates) часто употребляется в качестве синонима понятию «истинный»
5
. Нередко
авторы привлекали в качестве авторитетов, свидетельствовавших о достоинствах их труда, уважаемых или
могущественных современников. Для придания тексту значения истинного достаточно было заручиться
одобрением со стороны любого духовного или светского иерарха или же просто знаменитого (желательно
своей набожностью) человека. Это был довольно традиционный прием. Например, еще Орозий особо под-
черкивал (и в начале, и в конце своего сочинения), что обратился к историописанию по поручению своего
учителя Августина, слагая с себя ответственность за качество проделанной работы
53
.
Преподнося свои произведения в дар сильным мира сего, снабдив их соответствующим посвящением,
историки не только искали покровительства в расчете на вознаграждение, но и обеспечивали будущее своим
творениям. Принятые и оставленные на хранение в библиотеках государей или иерархов церкви, книги
приобретали особый статус «одобренных», т. е. «достойных веры». В течение XIV-XV вв. «синонимия
понятий «истинного» и «одобренного» настолько полна, что выражение «истинный и одобренный», относя-
щееся к книгам, хроникам, историям, становится расхожим штампом» . Авторитет государственной власти в
период классического Средневековья становится настолько весомым, что она оказывается способной
превратить в истинное то, что было признано ложным самыми авторитетными историографами.
Предисловие Беды к «Церковной истории народа англов» представляло собой подлинный образец для
подражания последующих историографов. Уже само посвящение королю Кеолвулфу содержит в себе
одобрение, оказанное труду Беды со стороны этого государя. Хронист упоминает о том, что прежде, чем
послать королю окончательный текст своей истории
"ГенеБ. Указ. соч. С. 158-165.
53
Орозий. История против язычников. VII, 19-20: «Я раскрыл с помощью Христовой, следуя предписанию твоему, блаженный
отец Августин... страсти людей и наказания за них... И вот я наслаждаюсь уже единственно плодом послушания моего... о
качестве же этих книжек судить тебе, кто наставил [меня написать их]; они принадлежат тебе, если ты их издашь, и пусть они
будут осуждены тобой, если отвергнешь».
54
Гене Б. Указ. соч. С. 158.
Представление о достоверном...
359
для копирования и дальнейшего изучения, он получил королевское одобрение на первоначальный вариант.
Подражая Беде во всем, английские хронисты заимствовали у него не только информацию, но
стилистические и риторические приемы. Хронисты не просто посвящают свои труды светским и духовным
владыкам, но и призывают их разделить авторскую славу, подкрепляя, таким образом, свою правоту
авторитетом «соавтора». Например, знаменитый Гальфрид МонмутскиЙ, преподнесший «Историю бриттов»
незаконному сыну Генриха I Роберту Глостерскому, просил того «исправить и преобразовать» свой текст
настолько, «чтобы все могли счесть его не проистекшим от Гальфрида Монмут-ского, но... что он создан
тем, кого породил преславный король англов Генрих». Вторым покровителем Гальфрид избрал
могущественного графа Мейланского Галерана, предлагая тому внести свои поправки в произведение, над
которым потрудились они оба
55
. Таким образом, подобно Беде, Гальфрид подчеркивает в прологе уже
состоявшееся соавторство с отпрыском королевского рода, т. е. защищает его силой общепризнанного
авторитета.
Кроме личного опыта и одобрения авторитетом существовал еще один, третий, критерий определения
правдивой информации. Выше мы упоминали о том, что независимо от того, декларирует ли историк
прославление Бога в качестве главной цели своей работы, он выполнял эту весьма полезную для него
самого, а также для его потенциальных читателей работу. Единодушно убеждая читателей в необходимости
для историка служить истине, следовать истине, сохранять память об «истинных делах, которые
произошли» , средневековые авторы не так часто задумывались над определением понятия «истина».
Впрочем, ответ на этот сложный для современного мыслителя вопрос был очевиден для христиан эпохи

Средневековья, ибо в Священном Писании сказано, что «истина есть Господь Бог» (Иер. 10. 10).
Следовательно, для средневекового историографа служение истине было синонимично служению Богу.
Историк должен отражать в своем труде божественную истин;', а не вереницу случайных фактов. Поэтому
все, что служит прославлению Бога и свидетельствует о его могуществе, не может считаться ложью и заслу-
живает включения в исторический текст напротив, все, что может посеять сомнение в душах верующих,
следует из него исключить.
Гальфрид Монмутскии. История бриттов 3, 4 / Пер. А. С. Бобовича. М„ 1984.
56
Jsidoms Hispalensis. Etymologiargm libri. I, 44 (col. 124)/PL. Vol. 82.
360
Глава 9
Определенный намек на подобное отношение к отбору достойной включения в историю информации можно
усмотреть еще у Августина, поставившего знак равенства между правдивым и полезным рассказом о
прошлом. Лояльное отношение отца церкви к сокрытию некоторых фактов путем умолчания может
указывать на то, что этот авторитетнейший муж отдавал пальму первенства пользе перед правдой, вернее,
считал правдой или, точнее, правильным, то, что служило пользе. Более четко этот постулат был
сформулирован еще св. Иеронимом в его предисловии к переводу «Хроники» Евсевия Кесарийского.
Авторитет знаменитого древнего историографа и одного из отцов церкви превратил высказывание о
необходимом соответствии сообщаемой читателям информации нормам христианской морали в правило,
следовать которому для хронистов и историков было обязательно. Поэтому неудивительно, что многие
историографы в предисловиях к своим трудам особо оговаривали, что назидательный характер приводимой
ими информации окупает ее возможную неточность, ссылаясь или просто цитируя слова св. Иеронима.
Именно так поступил отец английской хронистики Беда Достопочтенный, заявив в предисловии к своей
«Церковной истории народа англов»: «Смиренно прошу читателей не ставить мне в вину погрешности
против правды, которые могут встретиться в моем сочинении, ибо в соответствии с истинным законом
истории я просто записал те из собранных сведений, которые счел полезными для поучения потомства»
57
.
Несомненный и неоспоримый авторитет Беды придал еще больший вес этому высказыванию.
Идея всеоправдывающей морали прочно укоренилась в сознании историографов, неизменно приводящих ее
для оправдания возможных или очевидных ошибок. В этом отношении показательна история с публикацией
в 1485 г. знаменитого сочинения Томаса Мэ-лори «Смерть Артура». В своем предисловии издатель Уильям
Кэк-стон откровенно заявил о том, что поначалу сам он относился к рассказам о подвигах и приключениях
короля Артура, равно как и о похождениях рыцарей его двора, как к «вымыслам и басням». Потом друзья
Кэкстона напомнили ему о многочисленных «неоспоримых доказательствах», подтверждающих реальность
существования этого великого правителя Британии. Издатель предоставляет своим читателям право самим
определить степень своего доверия рассказам об Артуре. Кэкстон лишь ограничивается рекомендацией
следовать
Беда Достопочтенный. Указ. соч. 6-7.
Представление о Достоверном...
361
достойным и нравственным проступкам героев книги, отвергая грехи и пороки
5
. В данном случае не столь
важно отношение самого Кэкстона к труду Мэлори и степень его личного доверия к содержащимся в нем
рассказам, сколько выбранная им аргументация, оправдывающая публикацию сомнительного с точки зрения
достоверности текста.
В качестве еще одного примера руководства «правильным», которое дальше будем именовать «моральным
критерием», для установления истины можно привести историю предания о первом крещении населения
Британии. Согласно средневековой английской традиции, восходящей к Беде Достопочтенному, в середине
II в.
59
король Луций отправил в Рим послов к папе Элевтерию с просьбой крестить его и его подданных.
Исследователи полагают, что Беда неверно трактовал запись в Liber Pontificalis, перепутав название дворца
правителей Эдессы (Бирта или Брита) с Британией . Однако непререкаемый авторитет Беды был настолько
велик, что никто из последующих историков (включая критически настроенного Полидора Вергилия) не ос-
мелился усомниться в истинности этой информации.
Помимо освященной авторитетом Беды истории о крещении короля Луция существовало восходящее к
апокрифическому «Евангелию от Никодима» предание о еще более раннем проникновении христианства на
Британские острова. Согласно этому преданию, около 63 г. апостол Филипп послал святого Иосифа
Аримафейского и Симона Зилота в Британию. Вместе со своими спутниками Иосиф, избравший для
поселения место, на котором позднее был воздвигнут монастырь Гластонбери, проповедовал слово Божье и
окрестил многих бриттов. В период Реформации эта легенда стала важнейшей
Томас Мэлори. Смерть Артура / Изд. подгот. И. М. Берштейн, В. М. Жирмунский, А. Д. Михайлов, Б. И. Пуришем. М., 1974. С. 9-
10.
Хронисты расходятся в датировках этого события: Беда и автор «Брута» называют 156 г.
59
, Хигдсн — 178 г., Стау — 179 г.,
Растелл — после 180 г. (этим годом Растелл датирует письмо Луция к папе), автор Eulogium Historiarum и Джон Фокс — 181г.,
Фабиан — 188 г., Холиншед — 169 г., по мнению Ворэна, крещение Луция произошло в 150 г. Самую раннюю дату называет
Джон Хардинг, утверждая, что крещение Луция произошло в 90 г. (in yeare foure score and tenne). Подобные расхождения в любых
датировках — явление типичное для средневековой хронистики. К тому же все эти поправки и уточнения, свидетельствующие
об информированности историографов и их стремлении к исторической объективности, лишний раз убеждали читателя в
реальности произошедшего.

60
Bede, his Life, Times, and Writing/ Ed. A.H.Thompson. Oxford, 1936. P. 135, n. 2.
362
Глава 9
составляющей представления англичан о своем прошлом, поскольку она предлагала версию привнесения
христианства в Британию не из римской курии. Например, Джон Фокс, опубликовавший в 1563 г. первое
издание своей церковной истории, озаглавленной как «Акты и памятники», на вопрос «Получила ли
английская церковь веру из Рима или нет?» решительно дает отрицательный ответ '. Фокс, ссылаясь на
Гильдаса, Тертуллиана («жившего во времена папы Элевте-рия»), Оригена, Беду, Никифора, Петра
Клюнийского и цитируя письмо самого папы Элевтерия, приводит семь доказательств того, что
христианская вера была привнесена в Британию задолго до обращения Луция и не из Рима, а с Востока — из
Греции Симоном Зилотом, Иосифом Аримафейским, который «был послан апостолом Филиппом из
Франции в Британию» около 63 г., где он оставался со своими спутниками до конца своей жизни, основав
«среди британских людей пять сообществ Христовой веры» . О принятии христианства с Востока в
середине J в. вслед за Фоксом повествуют и остальные историки. Знаменитый антикварий Уильям Кэмден в
своем приложении к топографическому описанию Британии, озаглавленному им как Remains concerning
Britain, не только добавил к традиционному списку первых миссионеров в Британии (Иосиф Аримафейский,
Симон Зилот, Аристобул) апостолов Петра и Павла, но также и заметил, что благодаря их деятельности
христианство еще до конца II в. распространилось «в таких районах Британии, которых римляне никогда не
достигали». Поэтому королевская власть в Британии, «также являясь весьма древней, получена только от
Бога, не подчиняется никакой высшей власти и не находится в вассальной зависимости от императора или
папы»
63
. «Мораль» (а точнее, Божественная истина) диктует свои правила: христианство не должно было
прийти в Британию от римской кафедры, веру предки англичан должны были получить непосредственно от
апостолов и по греческому образцу.
Довольно часто «моральный» аспект оказывается более весомым критерием, чем доверие авторитету или
даже самостоятельно увиден-
61
О популярности труда Фокса можно судить по его многочисленным переизданиям: только до конца XVI в. их было четыре.
62
Foxe, John. Acts and Monuments of Matters Most Special and Memorable. Happening in the Church: With an Universal History of
the Same, L., 1684 (edition IX). Vol. [. Pp. 35, 117-119.
Camden W. Remains Concerning Britain. L., 1674, rep. Wakefield, 1974. P. 4-5: "also are most ancient, held of God alone,
acknowledging no superiours, in no vassalage to emperour or Pope".
представление о достоверном...
363
ному факту. Выше мы упоминали о том, что в 1129 г. аббат Гластон-бери специально пригласил известного
хрониста Уильяма Малмсбе-рийского для написания истории своей обители. Обладавший широким
спектром профессиональных навыков, позволявшим ему критически изучить все документальные и
эпиграфические свидетельства, знаменитый историограф так и не смог окончательно связать название
монастыря с именем какого-нибудь почитаемого святого. Огромный труд, безупречный с точки зрения
современных историков, имел, по мнению монахов Гластонбери, отрицательный результат. С точки зрения
монахов Гластонбери, несправедливо отказывать их славной обители в праве быть местом упокоения
почитаемых святых. А посему выполненный со всей тщательностью труд авторитетнейшего Уильяма
Малмсберийского был подвергнут сомнению. В начале 1130-х годов в Гластонбери был приглашен валлиец
Карадок из Лан-карвана, известный своими агиографическими сочинениями. Карадо-ку было поручено
составить жизнеописание святого Гильдаса. Написанная валлийским монахом биография св. Гильдаса
должна была полностью удовлетворить требования гластонберийских монахов. Согласно этому житию,
чувствуя приближение смерти, святой сам попросил аббата Гластонбери похоронить его на территории
монастыря. Карадок даже указывает точное место погребения — «в центре пола церкви Святой Марии».
Составленное Карадоком житие св. Гильдаса отвечало всем законам агиографического жанра: оно было
весьма далеко от действительной биографии Гильдаса, но содержало множество нравоучительных и
моральных историй (в том числе о наставлениях, которые святой делал королю Артуру).
В период классического Средневековья широкое распространение получает представление о так
называемом благочестивом обмане, к которому прибегали представители всех социальных слоев. Особенно
хорошо известны случаи благочестивого обмана со стороны клириков, когда, руководствуясь
исключительно «благочестием» и стремлением к «высшей справедливости», представители духовенства
прибегали к изготовлению фальшивых грамот на земельные пожертвования. В этих ситуациях
«благочестивые» христиане были убеждены в том, что обман, служащий торжеству справедливости,
перестает восприниматься как ложь, превращаясь в истину
64
.
64
Самым знаменитым примером «благочестивого обмана» традиционно считаются «Лжеисидоровы декреталии»,
фиксирующие передачу империи императором Константином в дар римскому папе и обосновывающие верховную власть
папства над государями Западной Европы. Фальшивка отражала «иде-
364
Глава 9
Представление о достоверном...
365
Следует проводить различие между оправданием при помощи морали чего-то сомнительного или ложного и

использованием морального критерия для определения истины. В зависимости от избранного жанра
фактору моральности уделялось больше или меньше места. Наиболее «моральными» историческими
жанрами были агиографии и биографии. Подчиняясь законам жанра, авторы житийной литературы не
считали себя грешащими против истины, когда свободно досочиняли эпизоды из жизни святых или других
великих мужей: детство, отрочество, испытания, подвиги и назидательные речи героев писались по одной и
той же схеме. События излагались в соответствии с принципом долженствования, который в данном случае
являлся синонимом правдоподобности. В хрониках и историях фактор морали бывает менее заметным, но
столь же значимым.
В исторических сочинениях «моральный фактор» имеет три основных проявления. Во-первых, это
включение в текст описаний чудес, свидетельствующих о величии Бога или Божественном волеизъявлении.
Во-вторых, «реконструкция» неизвестных автору событий, которые тем не менее могли иметь место в
прошлом. Диапазон этих реконструкций может быть достаточно широким — начиная с приписываемых
ораторам вымышленных речей и заканчивая выдуманной Гальфридом Монмутским древнейшей историей
предков англичан. Наконец, третьим видом проявления фактора моральности можно считать подмену одних
фактов другими (нарушение хронологии и т. д.).
Размышляя о склонности людей верить в чудеса, Генрих Хан-тингтонский всерьез задумывается над тем,
что, затрагивая тему чудесного, историкам следует быть особенно аккуратными, поскольку, заблуждаясь
сами, они могут ввести в заблуждение и читателей своих сочинений: «...тот, кто не говорит правдиво о
правде, поступит неблагодарно и неверно по отношению к самой правде, каковая есть Бог. В особенности
простые люди, но также и некоторые ученые [мужи], под именем и предлогом набожности, как кажется,
грешат немедленной верой в чудеса ложные или же те, которые невозможно подтвердить. Простые люди
делают так из тяги к нелепой новизне, а религиозные люди для наживы или для того, чтобы незаконно обо-
гатить гробницу своего святого, лживо и обманом потворствуют этим обычаям. Кроме того, если они
находят какое-нибудь писание
альную реальность» (Гуревич А. Я. Благочестивый обман. Словарь средневековой культуры. М, 2003. С. 385).
неизвестного автора, то начинают рьяно его читать и проповедовать в присутствии почтеннейшего Бога и
священного алтаря, пренебрегая страхом Господним. Однако, если о чудесах мне рассказывали таким
образом, я не возражал прямо, если только они очевидно не были ложными, но и не давал твердого
подтверждения, если только они полностью не были засвидетельствованы хорошо известными показаниями
и достойными полного доверия людьми».
Далеко не все хронисты подвергают сомнению достоверность дошедших до них рассказов о чудесах.
Ссылаясь на авторитет отцов церкви, Ранульф Хигден предостерегает читателей от недоверия и сомнения в
Божественном могуществе: «Ведь божественные чудеса, как пишет Августин в «О Граде Божием», следует
воспринимать с восхищением и почтением, не подвергая их раздумьям: нельзя не верить чудесному вовсе;
ведь и Иероним говорит: «Ты многое обнаружишь невероятное и неправдоподобное, что тем не менее есть
истинное. Ведь и сама природа не превосходит ни в чем Господина природы»
5
. Завершая свой рассказ об
оборотнях — людях из Медии (Ирландия), обращенных в волков гневом Божьим, Гиральд Кам-брийский не
только подтверждает сказанное ссылкой на документальные источники, но также заключает, что «надлежит
не сомневаться, но соглашаться с твердой верой, что божественная природа для спасения мира приняла
человеческую природу; когда здесь, по одному повелению Бога, чтобы явить Его могущество и кару, не
меньшим чудом человеческая природа принимает волчью»
66
. Впрочем, Гиральд рассказывает о чудесах,
пользуясь не только свидетельствами «авторитетов», но и слухами, легендами и преданиями, не подвергая
их критическому анализу. СЕМ автор заявил: «...я собираюсь излагать истории, а не оспаривать»
67
. Подобный
подход к информации объясняется в первую очередь тем, что надеявшийся стяжать своим трудом вечную
славу, а также покровительство сильных мира сего, Гиральд предлагал своим читателям развлечение,
обещая удовлетворить любознательный ум рассказами о далеких землях, их природе, нравах народов, их
населяющих и других любопытных вещах .
В отличие от того же Гиральда большинство средневековых историографов прибегало к рассказам о
чудесах, руководствуясь бла-
M
Higden. Op. Cit. Vol. I. P.16-18.
66
Giraldus Cambrensis. Topographia Hibernica. I, 19.
" Ibid. II, 1.
"
8
Ibid. Proemium.
L
366
Глава 9
гочестивой целью прославить Бога, святых, подтвердить чью-либо правоту или же просто ради
морализаторских наставлений. Например, хронист из аббатства Кирстолл рассказывает о том, что в 1344г.
Филипп Валуа, «неспособный разбить короля Эдуарда Английского силой оружия, задумал уничтожить его
коварным предательством». Для этого он вошел в сговор с кузеном Эдуарда III, королем Наварры.
Последний, «зная любовь короля Эдуарда к миру», предложил ему встретиться для переговоров на
полуострове Котан-тэн в Нормандии, Филипп Валуа же тем временем расположился на соседнем острове,
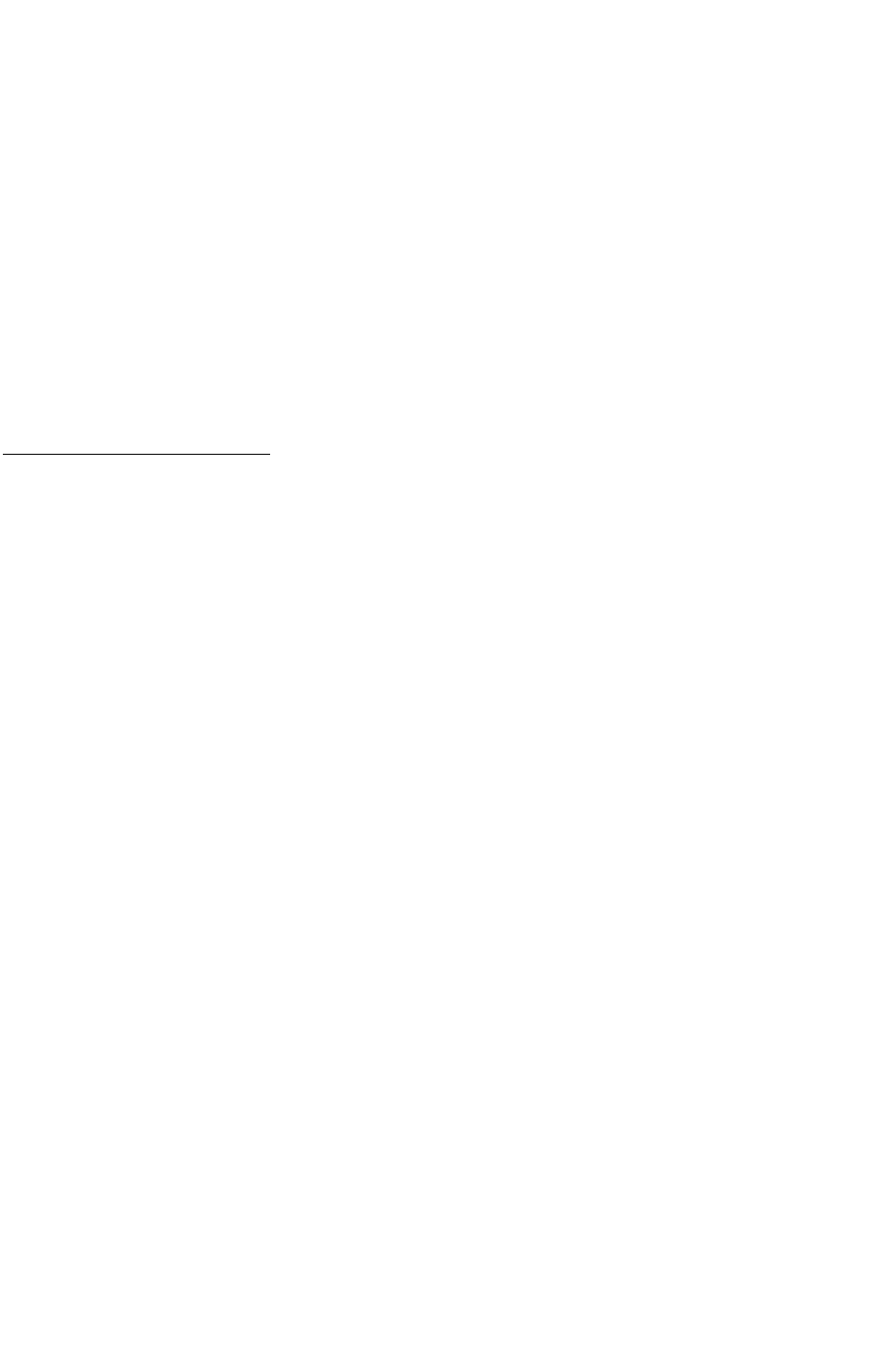
чтобы либо захватить в плен", либо убить короля Англии, «Король Англии, однако, не подозревая ни зла, ни
обмана со стороны своего родственника, подготовил по его совету свои корабли без оружия и лошадей».
Эдуард III взошел на корабль при «благоприятном ветре и поспешил в Нормандию». Однако сам Иисус,
который «управляет всеми ветрами и морями, и они подчиняются ему, не желая, чтобы погиб невинный,
верящий в него, приказал ветру стать настолько враждебным, что в течение трех месяцев король со своими
войсками носился по бурным морским волнам то возле одного, то возле другого острова, но всегда
уносимый ветром прочь. В конце концов, король, понимая, что такие вещи не происходят без воли Бога,
принес клятву, говоря: "Говорят, что по закону наследования королевство Франция принадлежит мне. Как
только Бог дарует мне свободный выход, я не буду противиться тому, чтобы овладеть им (королевством. —
Е. К.) ...как истец и завоеватель своего права". После этого Бог даровал ему ветер, согласно его клятве, и за
короткое время он успешно прибыл с войсками в Кале» .
Едва ли хронист мог рассчитывать на то, что даже очень набожные англичане поверят в сказку, как король
Эдуард со своей армией три месяца носился по бурным морям (учитывая, что в хорошую погоду берега
Франции видны из Англии). Приведенный выше эпизод не встречается в других хрониках, из чего можно
предположить, что анонимный монах либо целиком выдумал эту историю, либо (что более вероятно) развил
чей-то рассказ (может быть, одного из участников этого похода), либо заимствовал этот эпизод из
литературы (может быть из путешествия Одиссея). Важно другое: «критерий моральности» позволил
хронисту увлечься описанием чудесного спасения Эдуарда III от вражеского коварства, указывающего на
особое
' Kirkstall Abbey Long Chronicle / Thresby Society. Vol. XL (1952). P. 95-96.
Представление о достоверном...
367
благоволение Господа к английскому королю. Как правило, наиболее свободно хронисты обращаются с
чудесами, произошедшими во время сражений, которые указывают на закономерность победы, одержанной
правой стороной. Это объясняется прежде всего тем, что включение подобных эпизодов в текст
исторического сочинения не вводит читателя в заблуждение (именно от этого предостерегал Генрих
Хантингтонский): ведь итоговый результат битвы уже свидетельствует о воле Бога.
Выше мы упоминали о том, что степень проявления «морального фактора» во многом зависела от жанра
исторического произведения. Говоря о жанровом многообразии средневековой историографии, следует
отметить, что вплоть до конца XVII в. не существовало четкой границы между историческими и
литературными произведениями на историческую тему. Романы об Александре Македонском и рыцарях
Круглого стола воспринимались читателями и самими историографами как часть рассказов о прошлом, а
следовательно, содержащуюся в них информацию можно было включать в труды по истории. Следуя
рекомендациям авторитетного Цицерона, историографы (особенно в период Возрождения) старались
украсить сухую хронику занимательными рассказами, делая ее интересной для читателя
70
. Например, в
середине XV в. Джон Хардинг подверг критическому анализу уже упомянутую нами легенду о принцессе
Альбине, отмечая целый ряд ошибок, допущенных его предшественниками. Этот представитель нового
гуманистического направления в английской историографии был хорошо знаком не только с трудами
средневековых хронистов, но и с сочинениями античных авторов. Опираясь на последние, Хардинг
утверждал, что в Сирии не только никогда не существовало царя с именем Диоклетиан, но и вообще не было
никаких царей, пока Александр Великий не дал этот титул Селевку
71
. В истории об убитых своими женами
мужьях Хардинг с легкостью узнает миф о пятидесяти дочерях египетского царя Даная, старшего брата
Рамзеса
72
. Несмотря на то, что Хардинг весьма обоснованно критикует традиционную для английской
историографии версию о принцессе Альбине и ее сестрах, он все же излагает эту маловероятную, с его
точки зрения, историю со всеми возможными подробностями. Напротив, весьма правдоподобная версия
Страбона упомянута вскользь. С нашей точки зрения, в
1
Цицерон. Об ораторе. II, 12, 52-54. John Hardyng. The Chronicle. London, 1543, repr. Amsterdam, 1976. Ch. 2,3.
;
Ibid. Ch. 1-6.
368
Глава 9
данном случае все объясняется увлеченностью Хардинга красивой историей, пикантные подробности
которой украшали текст его хроники гораздо эффектнее скучной версии о белых скалах. Именно поэтому
сам Хардинг, а также целый ряд других хронистов не могли побороть искушение и решительно отвергнуть
историю псевдоданаид.
Итак, для определения истинности той или иной информации необходимо, чтобы она отвечала одному из
трех критериев: была личным свидетельством автора текста, исходила от какого-либо авторитета или же
содержала в себе «мораль» (т. е. свидетельство о подлинно верном, о том, как должно было быть). Если же
попытаться установить какую-то иерархию среди этих критериев, то первое место, безусловно, займет
увиденное собственными глазами. Что же касается второго места, то моральный фактор оказывается более
весомым, чем свидетельство авторитета. В соответствии с этим критерием событие или предание,
свидетельствующее в пользу христианской морали, могло быть признано достоверным (или просто не
подвергаться сомнению). Основываясь на морали, историк мог доверять свидетельствам своих
предшественников или опровергать их. Более того, исходя из критерия моральности, средневековые исто-

риографы вставляли в тексты свои собственные измышления, заполняя лакуны в описываемых событиях, т.
е. «реконструируя» {как выразились бы современные исследователи) прошлое.
По мнению Б. Гене, постепенно, с развитием историографии и совершенствованием методологии
«моральный критерий» утратил былую роль важнейшего мерила правдоподобия . С нашей точки зрения,
мораль не исчезает, а трансформируется: ее содержание определяется уже далеко не только христианскими
догмами, но само стремление «делать науку», «достигать истины» может рассматриваться как моральный
императив и сохранение этического измерения в деятельности ученого, в том числе и историка. Впрочем, и
внутри собственно историографических текстов осознанное превращение ложного в истинное или
намеренное придание ложному видимости истинного ради торжества «морали», т. е. ради восстановления
справедливости или построения конструкции, которая могла бы стать справедливой, также не утратило
своей актуальности.
'ГенеБ. Указ. соч. С. 241-244.
ГЛАВА 10
НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ В ИСТОРИОГРАФИИ
XI-XIV ВЕКОВ
Нормандское завоевание Англии, произошедшее во второй половине XI в., стало поворотным пунктом в
истории этой страны; оно привело к насильственной ломке староанглийских традиций, общественных
структур, истреблению англо-саксонской элиты и насаждению взамен её новой, иноземной, вытеснению
языка коренного населения из сферы официального делопроизводства, массовым земельным конфискациям
в пользу завоевателей. Установление власти нормандцев сопровождалось почти шестилетним периодом
кровопролитных военных действий, ожесточённым сопротивлением со стороны англо-саксов, отдельные
рецидивы которого вспыхивали и позже. Как отразились эти события, их последствия и вызванные ими к
жизни тенденции в исторической памяти англичан, переживавших в процессе этих событий один из
ключевых этапов формирования своей этнической идентичности? Напомним, что, если в ходе
англосаксонской колонизации Британии (V-VII вв.) происходило слияние германского и кельтского
этнокультурных элементов, а двухсотлетняя скандинавская экспансия с «последним аккордом» в виде
завоевания Англии Кнутом Великим привела, по сути, к становлению англо-скандинавского
этнокультурного поля, то нормандское завоевание, не дав завершиться этому процессу, привнесло ещё и
франкоязычный элемент, притом занявший месте элиты в завоёванном обществе. В результате этого
формирование английской средневековой народности затянулось, завершившись лишь в XIV в. Однако, что
касается исторической памяти, в данном случае мы располагаем лишь письменными источниками,
создававшимися, как известно, немногочисленными образованными людьми, притом, как правило,
духовного звания, работавшими в монастырях или при дворе, нередко выполняя определённый заказ и
трактуя события так, как было выгодно господину. Поэтому при желании выяснить непосредственное
отношение народа, большинства современников, к данным вопросам и событиям, чаще всего приходится
довольство-
370
Глава 10
ваться пушкинской строчкой «народ безмолвствует» и полагаться на косвенную информацию. Тем не менее
нарративные источники с достаточной степенью адекватности излагают суть событий и их различные
трактовки в кругах образованной элиты, через которую знания, идеи, представления опосредованно
распространялись до известной степени и в среде неграмотного населения. В данной главе исследуются
английские нарративные источники XI-XIV вв., преимущественно хроникального характера. Это помогает
проследить эволюцию отношения английского общества к событиям и последствиям нормандского
завоевания, причём в тесной связи с эволюцией этнического самосознания складывающейся английской
народности с течением времени, отделяющего писателей от этих событий.
Рассмотрим, как интересующие нас события и связанная с ними проблематика отразились в письменных
источниках XI-XII вв. Ведь именно этот материал дает нам наиболее полные свидетельства исторической
памяти о данной эпохе.
Что касается нормандских источников времени завоевания, то для их авторов характерен формально-
юридический подход, обусловленный пропагандистскими задачами. Главный мотив — обоснование прав
Вильгельма Завоевателя на английский престол через известную легенду о клятве Гарольда и завещании
Эдуарда Исповедника. Сюжет этот заключается в следующем. После смерти бездетного короля Англии
Эдуарда Исповедника на престол вступил глава аристократической династии эрлов Уэссекса Гарольд
Годвинсон, наскоро выбранный знатью юга страны. Согласно версии нормандских хронистов, во-первых,
Эдуард еще задолго до этого завещал престол нормандскому герцогу Вильгельму, пребывавшему с визитом
в Англии, а во-вторых, сам Гарольд во время поездки в Нормандию якобы дал Вильгельму, спасшему его из
плена у одного из местных феодалов, клятву о признании прав герцога на английский престол;
соответственно, нарушив клятву, Гарольд выступает у этих авторов как узурпатор и клятвопреступник.
Надо заметить, что современная историография относится к этой легенде с большой долей скептицизма .
Однако для средневековой читательской аудитории дело обстояло иначе: на первый план выходила не
фактическая достоверность описываемых событий, а мо-рализаторские выводы историков, служащие

назиданием.
'См.: Gransden A. Historical writing in England, с. 550 to с. 1307. N. Y., 1974. P. 102.
Нормандское завоевание.
371
Особенно лаконичен в этом отношении Гийом Жюмьежский
2
. Якобы легитимные права Вильгельма на
престол автоматически придают легитимный характер самому завоеванию, и дело выглядит так, словно речь
идет о банальной феодальной междоусобице; фактор межэтнического противостояния абсолютно
игнорируется.
Гийом из Пуатье , чье повествование отличается большей подробностью и обстоятельностью, пытается дать
нравственную оценку событиям (разумеется, в пользу герцога). Он противопоставляет Эдуарда
Исповедника — «лучшего короля всех времен» (!) — и Гарольда, якобы захватившего трон, пока
англосаксы оплакивали Исповедника
4
. Этот мотив свидетельствует о стремлении нормандского герцога дать
более глубокое обоснование своему воцарению в Англии путем апеллирования к англосаксонским
традициям и авторитетам (хотя Эдуард Исповедник был на редкость бесцветной и пассивной политической
фигурой и почитали его в основном за благочестие). Коронация Вильгельма в декабре 1066 г. произошла,
согласно Гийому из Пуатье, «с согласия англов или, по крайней мере, по желанию их (английских. — М. Г.)
магнатов»
5
.
Ги Амьенский
6
, следуя линии упомянутых предшественников, в своей «Песни о битве при Гастингсе»
обрушивается с гневными поэтическими филиппиками на Гарольда, столь же пламенно превознося
Вильгельма, благо художественно-эпический характер произведения способствует эмоциональным
характеристикам. Гарольд в изображении Ги Амьенского, хотя и храбр, обладает всеми мыслимыми нрав-
ственными недостатками; он «глупый король», грешник, братоубийца, клятвопреступник и т. д. В свою
очередь, Вильгельм — носитель монаршей и христианской доблести; автор сравнивает его с Цезарем .
Таким образом, нормандские источники XI века отличаются крайним схематизмом, обусловленным
тенденциозностью этих про-
2
Гийом Жюмьежский — нормандский хронист XI в., продолжавший государственную летопись «Деяния нормандских
герцогов», существовавшую с X в. См.: William of Jumieges. Gesta normannorum ducum// English Historical Documents (далее —
EHD). Vol. 2, L-, 1953.
3
Гийом из Пуатье — нормандский хронист, приближённый Вильгельма Завоевателя, автор произведения «Деяния Вильгельма,
герцога нормандцев и короля англов» (ок. 1073-1074 гг.).
4
William of Poitiers. Gesta Guillelmi ducis normannorum et regis anglorum //
EHD. Vol. 2, P. 218.
5
Ibid. P. 230.
6
Ги Амьенский — нормандский епископ, автор эпической поэмы «Песнь
о битве при Гастингсе» (1090-е гг.).
7
Guy of Amiens. Carmen de Hastingae proelio. Oxford, 1972. P. 11,13, 15,
372
изведений. Легенда о праве Вильгельма на английский престол, о клятве Гарольда, морализаторское
противопоставление Гарольда и Вильгельма, краткая история вторжения в Англию и битвы при Гастингсе,
наконец, венчающая все это коронация Вильгельма (декабрь 1066 г.) — таков сюжет этих произведений.
Всё, что происходит после коронации — это не более чем мелкие смуты против законного короля,
случайные и не заслуживающие подробного описания.
М. Клэнчи отмечает, что нормандцы были одержимы двумя идеями — войны и христианства, — являясь в
своем роде идейными предками крестоносцев . Это кажется верным'и по отношению к нормандским
хронистам: идею монархии и церкви они ставят выше, чем национальную, этническую. Их взгляды — яркий
пример зарождающейся крестоносной идеологии с присущими ей пафосом, универсализмом и вместе с тем
ограниченностью. Многие из характерных черт этих произведений перекочевали затем и в англо-
нормандскую историографию XII в.
Несравненно более сбалансированный подход демонстрируют англо-саксонские летописцы (анонимные
авторы «Англо-саксонской Хроники» и ее позднейшие продолжатели начала XII в. Флоренс Вустерский и
Симеон Даремский ). Во-первых, поскольку они лучше осведомлены об английских делах, то дают гораздо
более полную картину событий, не ограничивающуюся, как у их нормандских коллег, битвой при Гастингсе
и коронацией Вильгельма: здесь и известия о вторжениях норвежцев, валлийцев, скоттов, датчан, и дос-
таточно подробная картина англо-саксонского сопротивления после 1066г.; во-вторых, англо-саксонские
хронисты не могли открыто выступать против новой власти (да и вряд ли к этому стремились), но и
пропагандистских целей, как у нормандских апологетов завоевания, не преследовали. Это привело к тому,
что тон их повествования оказался довольно взвешенным. Для англо-саксонских хроник характерны
позитивные оценки Гарольда и его деятельности, игнорирование легенды о «завещании Эдуарда
Исповедника», умеренная позиция по отношению к Вильгельму, лишенная хвалебной патетики. Само
завоевание воспринимается как бедствие, ниспосланное свыше «за грехи народа». Вместе с тем авторы
оправдывают англо-
Нормандское завоевание...
373
* ClcmchyM.T. England & its rulers... P. 41-42.
9
Симеон Даремский — североанглийский хронист рубежа XI и XII вв., создатель «Истории королей» (ок. 1100 г.) —

компиляции из трудов Флоренса Вустерского, Беды, Ассера и местных «Нортумбрийских анналов».
саксонских магнатов, сдавших Лондон и престол Вильгельму во избежание дальнейших жертв и
разрушений' .
В англо-саксонских источниках подробно излагается история сопротивления нормандцам, и главное —
четко указываются причины этого сопротивления, конкретные притеснения со стороны нормандцев по
отношению к той или иной области, городу, а то и персоне, если речь идет о крупной знати.
С другой стороны, нельзя не заметить, что тон англосаксонских хроник становится тем менее
сочувствующим по отношению к повстанцам, чем дальше события отстоят от 1066 г., тогда как критика
негативных деяний Вильгельма сменяется положительными оценками его централизаторскои политики и
военных успехов. Это может служить подтверждением того, что власть нормандцев всё больше
превращалась из оккупационной в легитимную, а повстанческое движение деградировало в сторону
феодальных смут и локального бандитизма. Восставших в 1075 г. эрлов «Англосаксонская хроника»
называет «изменниками королю», подчеркивая, что англо-саксы поддерживали не их, а короля '. Что же до
самого Вильгельма, то ему посвящена целая эпитафия, где отмечены и его достоинства, и недостатки (что
немыслимо для нормандских хроник): сильный правитель, «собиратель» государства, удачливый
полководец, но вместе с тем «угнетатель бедного народа», патологически жадный до денег, жестокий по
отношению к противникам
12
. Мораль англо-саксонских хроник выдержана в примирительном тоне: что
было, то было, но всё — по воле Божьей.
Идея Божественного воздаяния за грехи получает особенное развитие в трудах англо-нормандских
писателей XII в. Это, в сущности, не удивительно: все они были монахами, а XII в. был временем усиления
папства, успехов крестоносного движения. Но, с другой стороны, в отличие от взвешенной аналитичности
аш ло-саксонских хроник, где события мотивировались вполне реалистично и непредвзято, англо-
нормандская историография снова дала крен в сторону тенденциозности, унаследовав многие
отрицательные черты нормандской хронистики XI в. Правда, задачи изменились: если нормандские хро-
нисты имели своей целью легитимизировать само завоевание, то авторы XII в., скорее, отражали интересы
новой, смешанной, англо-
10
ASC.P. 143-144.
11
Ibid. P. 158.
12
Ibid. P. 163-165.
374
Глава 10
нормандской элиты, склонной легитимизировать династию, стоящую во главе этой элиты, и,
соответственно, очернить элиту прежнюю, англо-саксонскую, которая проиграла борьбу и ушла в прошлое.
Поэтому у англо-нормандских авторов старые, формально-юридические мотивировки дополняются и как бы
смягчаются за счет рассмотрения этнических аспектов нормандского завоевания.
В наименьшей степени как пропагандистские, так и этнические мотивы присущи Эдмеру
13
, биографу св.
Ансельма Кентерберийско-го, человеку глубоко религиозному, чей кругозор был ограничен узкими рамками
внутрицерковных дел. Все бедствия Англии в XI в., начиная с широкомасштабных вторжений датчан и
кончая нормандским завоеванием, объясняются как исполнение пророчества св. Дунстана Кентерберийского
— англосаксонского церковного деятеля и подвижника второй половины X - начала XI века, осудившего и
проклявшего некогда короля Этельреда за то, что тот вступил на престол, убив своего брата Эдуарда.
Пророчество Дунстана сбылось: начались бесконечные войны, бедствия, датское завоевание Англии
Кнутом, феодальные смуты и, наконец, нормандское завоевание . Ни этнических, ни глубинных
политических мотивов у Эд-мера найти невозможно. Все исторические события исчерпываются у него
взаимоотношениями королей и церковных прелатов и констатацией результатов. Божественный промысел,
деяния святых — абсолютный и единственный двигатель истории.
Диаметрально противоположную по глубине и аналитичности картину нормандского завоевания дает
Ордерик Виталий
5
. Вероятно, его можно назвать лучшим историком завоевания среди нормандских и
англо-нормандских авторов. Правда, как и все они, Ордерик первоначально гневно обрушивается на
Гарольда. «По вине клятвопреступления Гарольда Англия была на пути к развалу», — пишет Ордерик,
выводя причину войны между двумя государствами из «узурпации» Гарольдом английского престола .
Вообще, Орде-
Эдмер — английский церковный историк конца XI - начала XII в., автор «Новой истории Англии» (ок. 1110г.)
1
Eadmer, Historia novorum in Angliae. L., 1964. P. 3-4.
15
Ордерик Виталий — англо-нормандский историк конца XI - начала XII в., автор «Церковной истории».
16
Ordericus Vtialis. Historia ecclesiastica. L., 1969. Vol.2. P. 191. Вообще, подход Ордерика нельзя назвать чисто формальным; с
позиций средневекового религиозного менталитета клятвопреступление рассматривалось как одно из тягчайших преступлений.
Нормандское завоевание.
375
рик клеймит Гарольда с таким пылом, какому позавидовал бы Ги Амьенский. К стандартным обвинениям в
узурпации трона и братоубийстве добавляется постоянное упоминание о «тирании», о «злодействах» и
«жестокостях» Гарольда, при отсутствии каких-либо конкретных фактов. В правление Гарольда, по словам
Ордерика, «Англия стонала от всякого рода угнетения» . На чем основаны эти утверждения — непонятно;
при анализе англо-саксонских источников они не выдерживают критики. Очевидно, в вопросе о
