Репина Л.П. (ред.) История и память: историческая культура Европы до начала нового времени
Подождите немного. Документ загружается.


смыслового тела высказывания, который сопровождается возникновением несоответствия между
интенциональным смыслом высказывания и его языковым обликом. Рефлексия этого распада по крайней
мере трижды — в Греции в эпоху, которую принято называть классической, в начале христианской эры и на
заре гуманистического движения — давала начало такому важному процессу, как комментирование.
Комментарий призван заполнить этот разрыв, обнаруживший возможность мыслить «план выражения» и
«план содержания» по отдельности; на самом же деле он разрабатывает средства, позволяющие создать
иллюзию возвращения сдвинутых со своих оснований смыслов на полагающиеся им места. В наши
намерения не входит специальное рассмотрение жанра комментария в гуманистической культуре
8
; мы
ограничимся лишь указанием на наличие довольно тесных отношений между кватрочентистским диалогом
и практикой комментирования. С этим родом деятельности в диалоге связаны средства верификации
обсуждаемого концепта (например, чтобы предложить несколько интерпретаций термина, следует
заимствовать их у разных философов древности — примером могут служить диалоги «О благородстве»
Поджо Браччолини или скандальный «О подлинном и ложном благе» Баллы). Но и один из важнейших
способов создания образов персонажей диалога тоже связан с комментированием: после того как Балла
распределяет роли стоика и эпикурейца между своими собеседниками, дальнейшая деятельность каждого из
них как раз и будет выстраиванием (мифологического) образа представителя одного из этих философских
направлений, занятого комментированием воззрений своей школы на предмет беседы.
В диалогах Платона абсолютное соответствие языка персонажа и его жизни служило основанием его
индивидуальных, но социально опосредованных усилий, направленных на достижение идеала доб-
родетельной жизни. Там дискурс убеждения преследовал прямые наивные цели — отождествиться с
искомой мудростью. Ценность формы диалога у Платона состояла в том, что беседа единомышленников
была единственным фактически наличным пространством, где человек мог совпадать с целью своих
стремлений — утвердив образ единственной истины в языке. Особая хрупкость этой формы создается тем,
что переход от положения, в котором говорящий находится
8
Однако в дальнейшем нам придется говорить о комментировании как одном из способов аннексии прошлого.
14*
420
Глава 12
во внеязыковой действительности, к тому, что происходит в сфере его языковой деятельности, опосредован
только волей говорящего.
Но тогда говорящий волен использовать этот переход и в не вполне легитимных целях, стоит ему только
обрести дистанцию по отношению к самой воле — т. е. вместо постижения истины (dA?Jffe(a) в ходе
обсуждения захотеть склонить своих собеседников к собственному мнению (So£a). В ситуации
гуманистического диалога дискурс убеждения как раз и служит такой вот софистической цели: отстоять
любую возможную позицию, тем самым утвердив потенцию языка к производству бесчисленных образов
бесконечного количества частных «истин». Здесь убеждающая истина становится фигурой убеждения,
которая пробуждает широчайшие потенции к семантическим манипуляциям, узаконивая возможность
неполного соответствия или прямого разрыва между языком и социальным бытием убеждающего (и его
аудитории).
В этой фигуре мы обретаем наиболее яркое свидетельство явившейся достоянием эпохи Ренессанса
автономии языка. Здесь мы можем видеть, как язык достигает статуса особой реальности благодаря распаду
всякой онтологии, которая хочет опираться на собственные исконные основания, не умещающиеся в логику
этого языка. У Платона множественность онтологии, выстраиваемых персонажами, олицетворявшими
различные философские позиции и выражавшими себя на разных языках, была свидетельством
включенности этих персонажей в единый социальный горизонт. То исключительное место, которое язык
мог занимать в греческом мышлении, было обусловлено не его автономизацией, а как раз его тесной связью
с многообразными внеязыковыми практиками. У гуманистов происходит своего рода перемена знаков:
мощь языка отныне свидетельствует лишь о возможностях самого языка, который получает свою энергию
от способности манипулировать тем, что во внеязыковых контекстах имеет статус реальности, недоступной
манипуляции. Теперь языковая жизнь черпает энергию из распада действенной социальности, да и вообще
всякой внеязыковой реальности.
Как раз на рубеже XIV-XV вв. политика в центрах новой, гуманистической культуры постепенно начинает
обретать свой современный вид: она превращается в совокупность техник отчуждения при поддержании
иллюзии тотальной включенности всех представителей общества в политическую жизнь. Во Флоренции к
началу XV в. учреждено такое количество выборных должностей, сменяемых каждые несколько месяцев и к
тому же назначаемых по жре-
Историческая культура.
421
бию, что эта повальная демократия начинает вызывать подозрения даже у самых горячих приверженцев
«флорентийской свободы», хоть в какой-то мере наделенных политическим мышлением. Так, Леонардо
Бруни в своем жизнеописании Данте в доказательство политической активности флорентийского поэта и
уважения к нему соотечественников приводит факт, что тот исполнял обязанности приора не по жребию, т.
е. по случайности, как это происходит сейчас, а в соответствии с осознанным выбором народа. Благо или

вред принесла Флоренции реформа выборной системы — вопрос отдельный; для нас же важно то, что в
условиях постоянной циркуляции пребывающих на государственной службе в политическую орбиту
вовлекается огромное число людей, и каждый должен обладать по крайней мере способностью представить
на суд коллег собственное мнение, т. е. располагать средствами, позволяющими его излагать.
Поэтому спрос на ораторское мастерство стремительно растет. ОКолуччо Салутати, канцлере Флоренции
(до 1406г.), для своего времени недурно владевшем классической латынью и охотно обнаруживавшем свои
гуманитарные познания в дипломатической переписке (за что образованные соотечественники уважительно
называли его обезьяной Цицерона), говорили, что его письма способны нанести врагам города больший
ущерб, чем вся армия флорентийцев. Представители гуманистической культуры, обладавшие хорошими
ораторскими способностями, становились предметом соревнования между городами-государствами.
Примером здесь может служить хрестоматийный эпизод из биографии Джаноццо Манетти, как бы
экспромтом сочинившего однажды латинскую речь в ответ на заранее подготовленное выступление другого
гуманиста, говорившего от имени города, с которым у флорентийцев были натянутые отношения.
«Флорентийская свобода» в первой половине XV в. стала термином в исторических сочинениях,
написанных флорентийскими канцлерами Леонардо Бруни и Франческо да Поджо Браччолини. Парадокс
состоит в том, что в это же самое время во Флоренции возникают и набирают силу тенденции к такому
расслоению общества, которое не представлялось возможным никогда ранее и в условиях которого разговор
о какой бы то ни было свободе просто не имеет смысла. Город начинает все сильнее зависеть от того, какие
средства поступают в его бюджет не только от налогов, но и от крупных частных вложений. Взносы,
которые был способен сделать, например, Козимо Медичи, оказываются сопоставимыми с размерами всего
бюджета в целом. Можно было стать фактическим прави-
422
Глава 12
телем города, не занимая при этом никаких важных официальных должностей — просто благодаря
собственным финансовым возможностям. Между политической и экономической действительностью, с
одной стороны, и усвоенными с молоком матери нормами общественного существования, описываемыми
термином «флорентийская свобода» — с другой, образуется зияние. А значит, необходимы какие-то
средства, которые позволили бы, по крайней мере, убрать этот разрыв с глаз широкой общественности,
чтобы не провоцировать массовых волнений.
Поэтому естественно, что политическая жизнь оказывается областью эстетизации. Свидетельство тому —
политические спектакли, в XV в. сделавшиеся регулярными, превратившиеся в нормальное средство
разрешения политических проблем (все тот же Козимо Медичи, который был способен минимумом усилий
фактически обескровить Флорентийскую республику, вдруг удаляется в свое поместье, изображая глубокую
скорбь из-за недоверия к нему со стороны сограждан и заставляя их умолять себя вернуться). Искусно
разыгранное политическое действо общество смотрит столь же охотно, что и праздничное священное
представление, профинансированное город: скими властями и частными лицами, — воспринимая и то и
другое как проявление заботы и уважения к себе. Возможность поучаствовать в увлекательном
политическом спектакле, незаметно для себя подчинившись заранее продуманному чужому сценарию, так
же привлекательна, как и роль в костюмированном представлении.
Захватывая, видимость убеждает, — в какой мере это представлялось верным для начала XV в., показывает
известная историко-лингвистическая концепция, возникшая и активно обсуждавшаяся в то время. Это идея
о существовании в эпоху Рима двух вариантов латинского языка — она запечатлена, в частности, в одной из
четырех застольных бесед Поджо Браччолини. Автор спорит с Леонардо Бруни о том, могли ли рядовые
граждане Рима понимать выступления Цицерона, или же простонародное ухо было способно улавливать
лишь мелодику Цицероновой речи, не разбирая, что именно хочет сказать великий оратор. Зная, что
выступления Цицерона предназначались для заседаний суда и народных собраний, гуманисты вполне могли
согласиться с тем, что Цицерону удавалось спод-вигнуть слушателей к весьма важным судебным или
политическим решениям, заворожив их аллитерациями и ассонансами ритмически совершенных периодов.
Видимо, для их времени это было естественно. Было принято — полагая, что уподобляешься Цицерону, —
423
произносить перед народом и послами соседей речь, совершенно непонятную большинству
присутствующих. Но, что самое удивительное, положительный исход этого предприятия вовсе не пред-
ставлялся невероятным: суггестивную силу имело в данном случае вовсе не буквально воспринятое
действительное содержание речи, а сама отсылка к авторитету Цицерона (и вообще классической древ-
ности), Первая задача оратора состоит в том, чтобы убедительно продемонстрировать свое умение следовать
обретаемому в блестящем прошлом образцу убедительности .
Таким образом, и в ораторских жанрах — жанрах целиком, казалось бы, прагматического свойства —
налицо деформация значения высказывания, сходная с той, которую нам уже приходилось наблюдать в
жанре кватрочентистского диалога. Речь оратора, которая не столько стремится убедить, сколько от самого
своего начала, еще до всякого содержательного развертывания симулирует убедительность, и речь софиста,
использующая любое содержание ради демонстрации собственной власти произвольно сопрягать какие
угодно смыслы, — две стороны одной медали. Перед нами — своего рода бесконечный регресс убеждения.
Помимо богатейшего арсенала средств практической реализации, описанный способ обращения с языком

нашел и свое теоретическое выражение: он был довольно четко артикулирован в трудах Лоренцо Баллы. В
своей половине века Лоренцо Балла был единственным представителем гуманистического движения,
которого мы сейчас с полным правом можем назвать философом. Более того: логические и богословские
штудии Баллы, по сути, опровергают один из центральных пунктов идеологической программы раннего
гуманизма — тезис о разрыве между новой культурой, именующей себя «древней», и традиционной
культурой схоластов, прозываемых то-derni. Балла смело входит в стихию логических аристотелиапских
споров, презираемых подавляющим большинством его единомышленников. Но в отличие от них он не
делает вида, что в своей поле-
9
Когда Леонардо Бруни написал "Historiae Florentini populi", современники говорили, что флорентийцы закончили свою
историю, хотя очевидно, что из флорентийцев мало кто смог бы ее прочитать. Поэтому Флорентийская Синьо-рня несколько
лет спустя даже поручила Донато Аччайуоли ее перевод на народный язык. Таким образом, рецепция труда Бруни рождает у
нас подозрения, что и в историографической деятельности символический компонент, жест власти — как бы возвышение
истории собственного народа посредством ее пересоздания на языке великой истории римлян — часто оказывался едва ли не
более значимым, чем компонент содержательный.
424
Глава 12
мике с «новыми» апеллирует к Античности. Равным образом, он не продолжает и собственно
схоластической проблематики. В сущности, он, с культивируемой представителями новой образованности
дерзостью отбрасывая принцип ipse dixit, смеет быть первым критиком философии Аристотеля — по
крайней мере, с далеких времен эллинизма. От схоластов обожателей Великого учителя Баллу кар-
динальным образом отличает именно то, что он не движется вслепую, удовлетворяясь нескончаемым
пересыпанием из одной логической схемы в другую заезженных изолированных понятий, — его историко-
философские и историко-лингвистические изыскания заставляют его видеть лакуны и несоответствия в
мощном здании ари-стотелианского мышления, ранее казавшемся незыблемым в своих основаниях. В наши
задачи, конечно, не входит полномасштабный анализ методов критики, изобретенных или использованных
Валлой. Однако мы обозначим те аспекты мышления Баллы, которые представляются нам значимыми для
прояснения онтологии языка, более или менее явно присутствующей в его трудах.
Свое «Перекапывание диалектики» Балла начинает обсуждением классической проблематики
«трансценденций», выходящей из схоластической интерпретации Аристотелевых «Категорий». После-
довательно устраняя пять из шести «трансценденций», признаваемых схоластической философией (нечто,
единое, истинное, благо, сущее), он оставляет в качестве единственной категории, которую, по его мнению,
можно считать трансцендентной, вещь (res). При этом под вещью у Баллы понимается всякая мыслимая тема
высказывания. В качестве логического синонима термина вещь Балла использует выражение «то, что». Но
особого внимания требует метод мышления Баллы, позволяющий ему прийти к этой интерпретации понятия
вещи: пользуясь современной терминологией, мы могли бы назвать его методом анализа языка. Балла
анализирует языковой узус рассматриваемых терминов «в среде образованных людей» (имеются в виду
писатели Античности), создавая достаточно строгую (так сказать, редукционистскую) модель языкового
анализа философского понятия. Вещь предстает у Баллы не абстрактным субъектом логического суждения
(«нечто»), но устойчивой в языковом узусе интенциональной темой всякого возможного речевого выска-
зывания (res significata). Как говорит Балла, «вещь наполняется всяким содержанием» — она служит своего
рода интенциональным то-посом речи, способным, подобно Протею, вместить любое содержание и
предстать в любом облике. Это чисто тематическая
Историческая культура...
425
категория — то неустранимое «общее место», в котором перекрещиваются разнообразнейшие возможности
языковой жизни во всей палитре ее речевых форм и жанровых разновидностей.
То обстоятельство, что Балла делает так понятую «вещь» единственной трансцендентной категорией,
свидетельствует о преобразовании оснований мышления и самого способа мыслить основание. Полагание
трансценденций теперь несет менее значимые, скорее, формально-онтологические функции: таким способом
фиксируется формальная тема речи, лишь очерчивающая поле для языковой жизни, более не стесненной
каким-либо метафизическим контролем и непредсказуемой в своем содержании, которое вечно обновляется
в языковой традиции (consuetude). Полагаемое Валлой основание — это трансценденция самого языка,
которая отныне должна всякий раз заново поверяться конкретной языковой ситуацией.
Свою реформу онтологии Балла сопровождает не менее радикальной реформой эпистемологии, создавая
новую и вплоть до XX в, единственную в своем роде концепцию истины. Истина высказывания
определяется «точным употреблением значений слов». Оригинальность концепции Баллы проясняется
посредством анализа одного из важнейших понятий его философии языка — consuetudo. Оно сочетает в себе
значения практики языкового употребления — узуса и культурной традиции, в которой формируются
значения слов. В этом смысле истина значений языка — это истина всей стоящей за этими значениями сети
культурных отсылок, связывающих их с общим горизонтом языкового опыта культуры . С другой стороны,
здесь важен и формальный момент'; ведь значения сами представляют собой строительный материал и
организуются в формальные единства. Этим мотивирован еще один момент концепции истины у Валлы:
истина высказывания определяется совершенством его риторической формы, которая является
единственной подлинной формой организации всякого содержания.
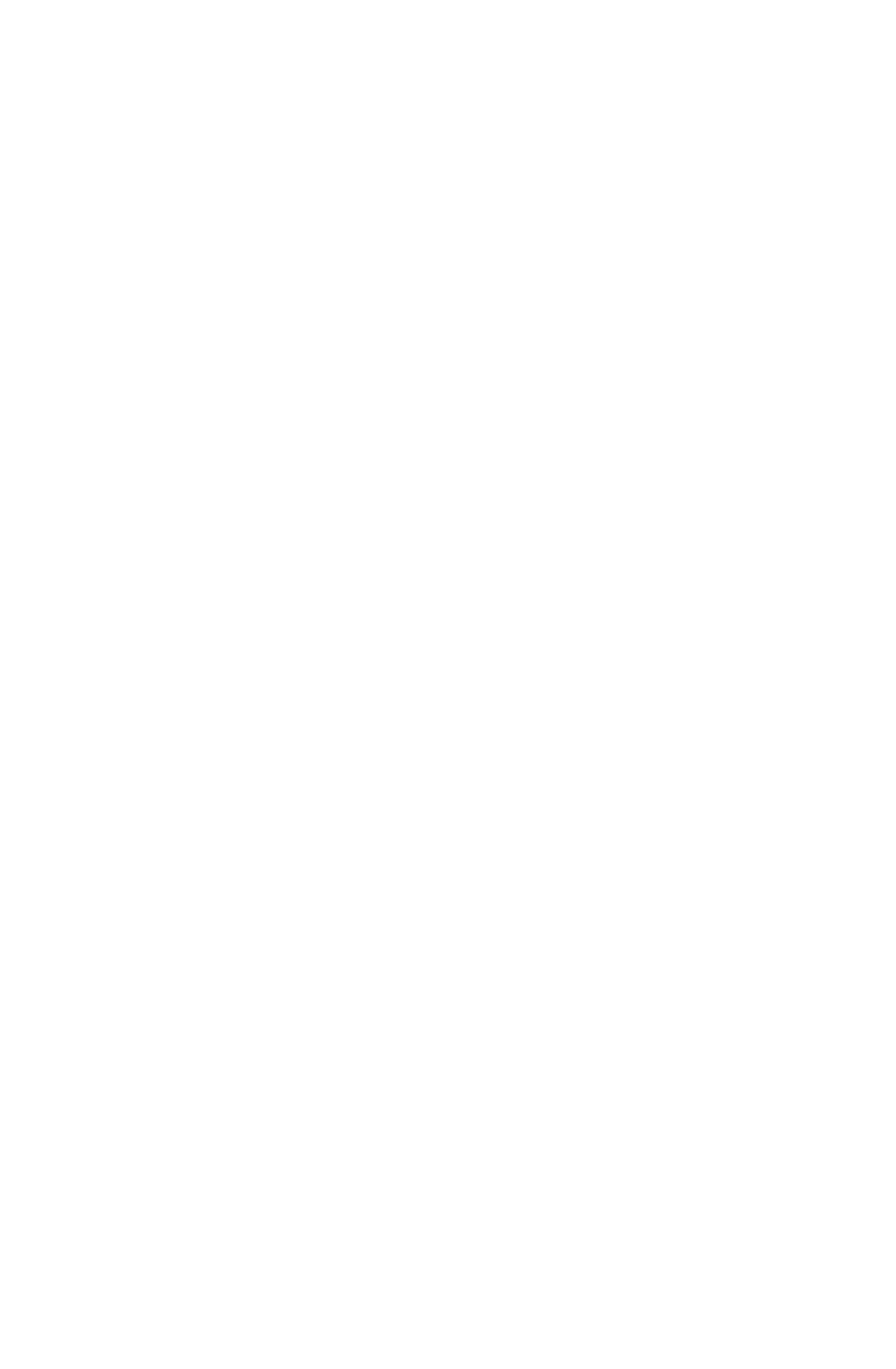
Итак, реальность значению придает, с одной стороны, его включенность в архитектонику риторического
целого, с другой — его контекстная, конкретно-историческая отнесенность. Позиция Валлы тем более
интересна для нас, что она ставит новые проблемы
10
У Баллы значению не преддан в качестве референта никакой естественный объект, поэтому способы внутренней организации и
дифференциации значения должны быть почерпнуты из логики связей самого языка. Содержательные связи бытия — это и есть связи и
валентности значения. Сама модель содержательного высказывания интерпретируется как внутриязыковрэе отношение.
426
Глава 12
статуса рефлексивной культуры, ее возможностей в контексте истории гуманистического движения.
Сама ситуация теоретической рефлексии в раннегуманистиче-ском дискурсивном пространстве является
уникальной. Такая теоретическая позиция трудна: выйти в нее означает уже в каком-то смысле выпасть из
софистической парадигмы раннегуманистиче-ской риторики и пытаться описывать язык исходя из вновь
обретенных оснований реальности, как бы вернувшейся из отчуждения. Тут следует наметить
парадоксальную логику отчуждения и возвращения вытесненного. Невнимание к «живому» языку у
схоластов и их попытки выстроить замкнутую в себе формализованную систему значений была в этом
смысле вытеснением языка, а раннегумани-стическая практика предстала его реабилитацией, возвращением
ему огромной части утраченной реальности. Практика раннегуманисти-ческого перевода, стремящегося
уловить исторический смысл реалий, и распространяющаяся на все жанры концепция стиля, эстетической
и риторической уместности высказывания возвращала реальность бытию значения как такового — во
всей его множественности, текучести, во всех его окказионально уместных обертонах. Какое же значение
может иметь для исторической культуры рефлектируемое отсутствие всякой действительности, кроме
действительности языка? Одним из следствий этого представления оказывается возможность
множественности вариантов репрезентации прошлого. Историческим воплощением такой возможности
стало творчество Бартоломее Скалы, унаследовавшего у Леонардо Бруни и Поджо Браччолини пост
канцлера Флоренции и место ее историографа. Замысел его истории далеко превосходил проекты всех его
старших коллег: он задумал составить двадцать книг «Истории флорентийцев» от основания города до
своего времени (но успел написать только пять). Леонардо Бруни и Поджо Браччолини для него сделались
уже классиками: в прологе к своему труду он ставит их рядом с историками Рима. Тем не менее он
намеревался создать другую историю — иначе какой смысл имело бы все его грандиозное предприятие?
Бруни и Поджо стремились быть историками, хотя и оставались при этом писателями: при всей между ними
разнице, оба они не представляют себе истории без скрепляющей ее темы, без цели — без того, что мы бы
сейчас назвали концепцией.
Скала отверг какие бы то ни было принципы ориентации в прошлом и связанного с избранной ориентацией
отбора фактов: он решил запечатлеть в своем труде все, что только могло быть ему
Историческая культура.
427
известно о делах минувшего и современности. События, по мнению Скалы, следует излагать не в одной, а
по возможности в нескольких версиях, если это позволяют имеющиеся в распоряжении историка источники;
собственных суждений приводить не должно, чтобы не оказывать давления на читателя; поскольку rationes
(объяснения, причины) событий «все заключены в примерах деяний», о них тоже не следует заботиться. В
таком пространстве вариативности, в условиях самоустранения авторского голоса и симуляции
«объективности», рождается сама реальность прошлого.
II. Логика исторического дискурса раннего гуманизма как логика нарратива
Идеи Цицерона, введшего составление истории в число обязанностей оратора, произвели роковое действие
на современников Ло-ренцо Баллы, увлеченных studia humanitatis. Об истории классиками древности было
сказано очень немного, а сохранилось до XV в. и того меньше: скорее всего, в это время было известно
лишь с десяток кратких замечаний Цицерона, разбросанных по разным его трудам, и в буквальном смысле
несколько слов Квинтилиана, чей труд в 1415 г. Поджо Браччолини нашел в одной из монастырских библио-
тек во время своего пребывания на соборе в Констанце . Чтобы понять, чем на самом деле была
гуманистическая историография и в какой степени декларации ее авторов расходились с настоящими
основаниями их практики, важно обратить внимание на тот факт, что древним, когда они брались писать
историю, не приходило в голову искать рецепты — в то время как большинство историков-гуманистов не
только искали их, но и, по причине скудости античных свидетельств, писали сами. Дело в том, что
древность, в отличие от гуманистов, не смотрела на истори.о как на историографию — об этом говорит уже
само разнообразие и глубокое несходство исторических жанров, созданных Античностью. Когда такого рода
рефлексия стала возможна, сразу же возник памфлет Лукиана: таким
1
' Мы не располагаем сведениями о том, находился ли в поле зрения гуманистов первых поколений трактат Лукиана «Как
писать историю». Однако можно предположить, что, даже если бы этот памятник был известен, раннегу-манистическая
культура не оказалась бы готова его освоить. Сочинение Лукиана вряд ли могло бы быть воспринято как совокупность
рецептов по историопи-санию: глубокая ирония, с которой автор относится к деятельности историка, заставила бы человека XV
в. отнести это произведение к совершенно иному жанру и читать его другими глазами, нежели труды Цицерона и Квинтилиана.
428
Глава 12
образом, возможность истории выработать собственную теорию была поставлена под сомнение, еще не

достигнув сколько-нибудь отчетливой артикуляции. Гуманистам же жанровая пестрота всевозможных
исторических повествований Античности досталась оптом, и велик оказался соблазн увидеть ее как
систему, со своими уровнями, полюсами, с жесткими внутренними правилами. Итак, гуманистам сразу
пришлось иметь дело с историей, уже превратившейся в нарратив, обладающей собственной системой
жанров и ставшей, таким образом, автономной сферой культурной деятельности, ясно представляющей свои
задачи и цели.
Разобраться в том, как древние писали историю, было трудно (симулировать их деятельность в собственных
сочинениях оказалось даже проще), и воззрения гуманистов первых поколений на историографическую
деятельность выражались, как правило, не в виде прямых предписаний, а в более скромной форме — как
анонсирование собственного труда в предисловиях к историческим сочинениям или в официальных
посланиях-посвящениях этих сочинений. Такого рода документы вышли из-под пера Антонио Альи, Лапо
да Кастиль-онкьо, Леонардо Бруни, Бартоломее Фацио, Антонио Беккаделли, Лоренцо Баллы.
Облик исторической культуры ранних гуманистов определяется прежде всего теми формами, в которых
историческое прошлое присутствует в их настоящем. Изучение способов аккумуляции прошлого может
очень многое сказать о самой эпохе — поскольку каждая эпоха вбирает в себя опыт предшествующих эпох
особыми, только ей присущими путями. Раннегуманистическая — как мы уже показали, целиком
лингвоцентрическая — культура оказалась особенно чувствительной к формам письменным: к
историческим произведениям разных жанров, созданным классическими авторами, а также к историческим
свидетельствам, заключенным в сочинениях любых других жанров. В поле внимания гуманистов попадают
не просто факты литературы, даже не просто все письменные памятники, но и вообще все материальные
свидетельства, сохранившиеся от Античности, — возникают эпиграфика и археология (их возникновением в
качестве самостоятельных исторических дисциплин мы обязаны как раз гуманистам!).
Основы археологических штудий заложил Петрарка, впервые составивший путеводитель по римским
древностям. Эпиграфикой занимались Поджо Браччолини, плодом многолетних трудов которого было
посвященное папе Николаю V «Описание города Рима», и
Историческая культура^
429
Чириако из Анконы — везде, куда бы судьба ни забрасывала этого полуученого купца, мученика науки.
Дворцы, театры, термы, обелиски, мосты, водопроводы, статуи Рима он не только осматривал и описывал,
но также делал их зарисовки и тщательно переписывал надписи. Характерно, что граждане, застававшие
Чириако за этим занятием, принимали его за умалишенного. И по-видимому, они не были совсем уж далеки
от истины: до сих пор никому из биографов Чириако не удается вразумительно объяснить, почему человек,
который из-за нехватки самых необходимых знаний часто был вовсе не способен разобрать фразу даже на
латинском языке, не говоря уже о греческом со всеми его диалектами, тем не менее был столь сильно
увлечен классическими штудиями.
Прикрываясь коммерческой необходимостью, Чириако предпринимал, часто за собственный счет,
экспедиции, целью которых на самом деле был осмотр интересующих его исторических досто-
примечательностей и по возможности приобретение антикварных редкостей: Италию и Грецию он
исколесил вдоль и поперек, бывал в Сирии, Турции, Египте. На своей варварской латыни, вечно служившей
предметом насмешек более образованных, хотя и меньше повидавших современников, Чириако смог все же
некогда выразить мысль, что в деле изучения Античности материальные свидетельства «заслуживают
гораздо большего доверия и внимания, чем даже книги». Флорентиец Никколо Никколи, уже известный нам
по диалогу Леонардо Бруни, тоже страстный любитель древностей и приятель Чириако, но, в отличие от
последнего, человек слабого здоровья и поэтому домосед, питал такую любовь к классике, что даже ел с ан-
тичной посуды. Он превратил свое жилище в археологический музей с роскошной библиотекой, с
коллекциями найденных в ходе земледельческих работ ваз, мозаик, резных камней, монет и медалей и даже
с собственной галереей античной скульптуры
12
.
Историко-культурные импликации зарождения археологических интересов в гуманистической среде, безусловно, должны стать
предметом отдельного исследования. Здесь мы ограничимся лишь тем, что обозначим их. Во-первых, становление
археологической практики прямо свидетельствует о новой концепции тела и телесной идентичности культурного продукта.
Текст культуры приобретает внутренние границы, которые совпадают — хотя пока еще очень условно — с границами
культурного авторства. Преодоление анонимности и возникновение телесности — единый акт. В каком-то смысле само автор-
ство сначала возникает как факт опыта, в котором телесность нередуцируема. Эти внутренние границы, порожденные новым
чувством языка, фиксируют несводимость риторических стратегий внутри макронарратиза культуры и в этом
430
Глава 12
Но более всех вышеназванных на благо новых отраслей знания потрудился, безусловно, Флавио Бьондо.
Наделенный великим стремлением не только к приобретению исторических сведений, но и к их
систематизации и склонный к созданию гигантских проектов (которые, надо сказать, он в большинстве
случаев реализовывал), Бьондо сначала поставил себе целью восстановление топографии античного Рима.
Результаты его штудий составили сочинение «Рим восстановленный» (Roma instaurata, 1446 г.), где
изыскания археологического характера поверялись свидетельствами, извлеченными из сочинений древних
авторов. Успех сочинения подвигнул Бьондо к расширению первоначального замысла до пределов Италии
(Italia illustrata, 1453 г.). Из-под его пера вышло поистине монументальное сочинение — энциклопедия

жизни восемнадцати италийских провинций, вобравшая в себя не только сведения, касающиеся возник-
новения и истории больших и малых городов, селений, замков, но также биографии известных людей,
проживавших в каждом из упоминаемых мест, а заодно и «дней минувших анекдоты», которые трудно
отнести к ведению какой-либо дисциплины. Завершив описание Италии, Бьондо снова вернулся к римской
теме и создал сочинение «Рим торжествующий» (Roma triumphans, 1459г.), где изложил все, что ему было
известно о религии римлян, об их празднествах, триумфах и театральных представлениях, о политическом
устройстве, о законодательстве и судопроизводстве, о финансовой системе, о налогообложении, об
устройстве войска, о быте, о частной жизни и даже об истории костюма. Этот труд пользовался такой
популярностью, что знатнейшие люди Италии, желавшие приобрести для себя его копии, были вынуждены
ждать очереди.
Однако сочинения Бьондо, при всей их обстоятельности, вовсе не положили предела топографической
активности других приверженцев studia humanitatis. Описания Рима продолжали возникать, при том что их
авторы, естественно, не могли избежать влияния
смысле несводимость самостоятельных нарративов, обретаемых в многоголосом культурном пространстве, пришедшем на
смену распавшемуся телу традиции. Как такого рода несводимость реализует себя в историографической практике Франческе
Петрарки, старавшегося выработать критерии верификации исторического повествования и впервые отказавшегося от
схоластического принципа, требовавшего в завершение всякого научного рассмотрения «согласить» противоречащие друг
другу авторитетные мнения, — замечательно показывает в одной из своих работ Р. Фубини (нам была доступна рукопись еще
не опубликованного исследования: «Luoghi della memoria ed antiscolasticismo in Petrarca i "Rerum memorandarum libri"»).
Историческая культура...
431
Бьондо. Таким образом, сочинения этих авторов еще до их создания оказывались обречены на то, чтобы
быть хуже (вспомним хотя бы книжку о римских достопримечательностях, составленную Помпо-нио Лето).
Почему же, будучи однажды пущенным, колесо нескончаемой каталогизации и тотального переписывания
уже не могло остановиться? Почему ни литературный вкус, ни здравый смысл не мог подсказать кому-то из
авторов очередного «описания достопримечательностей», что труд, который он собирается предпринять,
уже проделан, и к тому же не один раз?
На первый взгляд этот вопрос не кажется существенным человеку XX или XXI века: возникает желание
отделаться от него простым указанием на некоторые курьезы в психологии гуманистов, посвящавших
львиную долю свободного времени всевозможным стилистическим упражнениям. Одним из свидетельств
этого служат сохранившиеся до наших дней листы с рядами синонимов, аккуратно выписанных из трудов
авторов, чья латынь представлялась гуманистам достойной подражания
13
. Современная наука о Ренессансе
выработала тезис о примате формы над содержанием, о культе формы в ущерб содержанию как
окончательный, во многом исчерпывающий суть гуманистической культуры. Так возникает соблазн списать
столь часто встречающееся в творчестве гуманистов тиражирование одного и того же содержания на счет
оттачивания стиля и формы письменной речи — занятие, в котором гуманисты действительно являли
поразительное усердие.
Но тогда возникает новый вопрос: откуда и зачем появляется такое количество литературы несколько иного
рода — всевозможных компендиумов, составленных из сочинений классических авторов, переложений
античных сочинений и прочих произведений реферативных форм, которые в таком количестве создавались
первыми гуманистами? Откуда стремление объять в собственном историографическом творчестве события
эпох, которые — если только последовательно развивать взгляды самих же представителей гумани-
стического движения — совершенно не нуждаются в том, чтобы быть описанными на латыни XV века?
А ведь компендиумы начинаются вместе с началом гуманистического движения — в творчестве Петрарки.
Из-под его пера вышло тридцать два жизнеописания прославленных римлян от Ромула до императора Тита.
Сочинение его называлось "De viris illustrious" —
13
Такого рода упражнения вошли, например, в последнее собрание сочинений Поджо Браччолини.
432
Глава 12
снова «по образцу древних». Позже, оставив биографический жанр и приняв за образец форму сочинения
Валерия Максима (и часто заимствуя из него же материал), Петрарка собрал множество истори^ ческих
анекдотов и объединил их в рубрики, соответствующие разнообразным качествам человеческого характера,
— так получилась «Книга достопамятных историй». Преданно следовавший за Петраркой в большинстве
его начинаний, Джованни Боккаччо вторил ему и в историографии. Петрарка пишет «О знаменитых мужах»,
Боккаччо — «О знаменитых женщинах» (от библейской Евы до горожанки XIII века) и «О несчастиях
знаменитых мужей».-Затем Петрарка сокращает своих «Знаменитых мужей» и таким образом создает новый
вариант этого изначально вторичного сочинения. Вскоре появляется еще одна версия этого сочинения
Петрарки — ее создает его близкий друг Ломбарде да Сериго. Он же пишет «О языческих женщинах,
знаменитых или оружием, или науками».
И позже избирательное переписывание трудов древнеримских историков остается одной из основных форм
историографической деятельности: даже до нашего времени сохранилось несколько компендиумов,
составленных преимущественно из сочинений Тита Ливия, но задействующих и другие источники.
Наиболее известные из них принадлежат перу Бенвенуто Рамбальди да Имола (ок. 1340-1390), комментатора
Данте, состоявшего в переписке с Петраркой, — это «Ромулеон» (римская история, начинающаяся, в

лучших традициях, падением Трои и прерванная на правлении Диоклетиана) и "Augustatis libellus" — о
правителях Римской империи от Цезаря до Венцеслава.
Самое удивительное, что созданием компендиумов не пренебрегали и гуманисты первого ряда, вовсе не
лишенные способности писать историю самостоятельно. Так, Леонардо Бруни, опираясь на Ксенофонта,
составил «Записки о деяниях греков»; читая Полибия, написал три книги «О пунической войне», а
Прокопию был обязан сочинением «Об италийской войне с готами». Интересно, что Бруни еще и настаивал
на своем собственном авторстве всех этих произведений — хотя совершенно очевидно, что честнее было бы
назвать их попросту переводами. Кстати, разительное сходство «Италийской войны с готами» с сочинением
Прокопия все-таки навлекло на Бруни критику коллег — знатоков и любителей античной историографии.
Бруни ответил, что, во-первых, он попросту заимствовал факты у «очевидца описанных событий» (т. е.
Прокопия, имени которого он упорно не называет) — способ приобретения сведений, никоим
Историческая культура...
433
образом не порочащий историка; а во-вторых, назвал свой опус всего лишь «Записками» (commentarius) —
можно ли быть скромнее?
Дело, по-видимому, не столько в том, что гуманисты ради стилистических упражнений предпочитали
исторический материал всякому другому. И не в том, что свойственный им нарциссизм заставлял их
публиковать рабочие конспекты классических сочинений, к тому же выдавая их за собственные
оригинальные произведения. Представляется, что реферирование таких масштабов вообще обусловлено не
столько страстью гуманистов к прошлому, сколько, напротив, их глубочайшей укорененностью в
настоящем. Развитием литературы компендиумов и переложений управляет импульс к бесконечному
развертыванию настоящего и актуализации в нем содержания памяти наряду с прочим — т. е. с
содержанием сего дня. Это поиск способов, позволяющих встроить содержание памяти в современную
культуру, как бы незаметно для себя и прошлого присвоить это прошлое — эксплицитно представив его
предметом поклонения, по умолчанию превратить в достояние современной культуры, уравняв с другими
фактами этой культуры. Дав жизнь прошлому, поставить его в такие условия, в которых оно будет
вынуждено вечно соревноваться с современностью и вечно зависеть от ее суда.
Вообще, гуманистическая историография знала три основных пути экспансии настоящего в прошлое (или
экспроприации прошлого). Первый из них — дидактический. Здесь память рассматривается как
добродетель: история призвана «поучать, развлекая». Этот способ смотреть на прошлое находит свое
воплощение прежде всего в жанрах зерцала и биографии, но также и в исторических анекдотах,
исполняющих функции примеров в трактатах к диалогах на нравственные темы. Второй путь — эрудитский:
он реализуется преимущественно в реферативной деятельности, формы которой мы описали выше. Наконец,
эстетический путо. Это раннегуманистический культ языка и формы, культ, требующий от всякого автора
непрестанных «духовных упражнений», которые взращивали бы в его сознании ту идею, что ничто в его
творчестве на самом деле не принадлежит ему — ни стиль, ни жанр, ни его (авторское) самосознание.
Итак, дидактизм, эстетизм и эрудиция — три кита раннеренес-сансной историографии. Обозначив сначала
наиболее важные для нашего исследования импликации этого вывода, мы перейдем к рассмотрению
собственно историографических документов и изложенных в них концепций историописания,
принадлежащих авторам Кватроченто.
434
Глава 12
У Бартоломео Фацио, историка скучного настолько же, насколько он был последователен в проведении
принципов «парадного исто-риописания», есть потрясающее с точки зрения анализа исторического сознания
изречение. Будучи не в силах отрицать высокие достоинства героев и народов Античности, но при этом имея
целью доказать необходимость компетентного описания «дел своего времени», он восклицает: найдется ли такой
невежда, которому не было бы известно, что события и деяния великих людей далеких эпох представляются нам
столь величественными во многом потому, что писатели древности сильно приукрасили их благодаря своему
красноречию? По своей проясняющей исторические интуиции раннего гуманизма силе с изречением Фацио
может соперничать, наверное, только мысль, обнаруживаемая в сочинениях Леонардо Бруни: последний любит
говорить о том, что своими великолепными достоинствами некоторые его современники не уступают древним —
их беда в том, что время, в которое им приходится жить, само по себе величием уступает классической древности.
Здесь уже трудно не задаться вопросом: а где же, согласно представлениям историка-гуманиста, лежит смысловой
центр исторического события? Ответить на этот вопрос трудно, если не учитывать следующих обстоятельств.
Во-первых, историческое событие в гуманистической литературе оказывается в прямой зависимости от жанрового
целого, в рамках которого оно излагается: оно может (да и должно) менять свой облик в зависимости от того,
вписано ли оно в контекст «целой» истории города-государства, сжатого исторического commentarius или
панегирика. Кстати, место последней из перечисленных форм в системе жанров кватрочентистской
историографии не стоит недооценивать. Примечательные свидетельства влиятельности этого жанра дает нам
историографическая карьера Леонардо Бруни, которая начинается двумя краткими сочинениями: «Похвалой
городу Флоренции» (Laudatio Florentinae urbis) и написанным на греческом языке по образцу Полибиевой
похвалы Афинам трактатом «О государственном устройстве флорентийцев» (Uepl rwv фХореупушу troXiretas).
Панегирик и описание современного автору государственного устройства — два этих жанра в дальнейшем
определят метод изложения Бруниевой «Истории флорентийского народа». Относительность и довольно строгая

жанровая закрепленность топоса «ущербности нынешнего века» обнаруживается, если сопоставить отдельные
высказывания на эту тему от имени самого Бруни и персонажей его диалога о трех флорентийских венцах с его же
«Похвалой Флоренции», где настоя-
Историческая культура.
435
щее, из которого историк смотрит на события исторического прошлого, признается эпохой идеального состояния
народа и государства, апогеем и целью исторического процесса. И это настоящее достойно быть изображенным
согласно тем же правилам и с помощью тех же языковых средств, которые изобрели классические авторы для
описания совершенных государственных устройств древности. «Похвалу Флоренции» Бруни написал,
вдохновленный инвективой Колуччо Са-лутати против миланского гуманиста Антонио Лоски, которая, в свою
очередь, была ответом на сочиненную Лоски «Инвективу против флорентийцев». Сразу же после выхода
«Похвалы» в свет Бруни пришлось услышать обвинения в сознательном искажении действительного положения
вещей. Он с легкостью оправдался: пусть законы жанра истории, согласно Цицерону, велят «ни под каким видом
не допускать лжи» — но у панегирика свои законы, и они позволяют идти в восхвалениях избранного предмета
так далеко, как только того
пожелает автор.
Во-вторых, онтологический статус события в воззрениях гуманистов первых поколений предстает как эффект
ясности стиля. Тезис, согласно которому мера действительности события непосредственно зависит от мастерства
историка, наиболее отчетливо формулируют Леонардо Бруни во введении к «Запискам о делах своего времени» и
Антонио Альи в послании к папе Николаю V, которым он предваряет свои «Жизнеописания святых». При всей их
краткости, с точки зрения теории историографии вводные замечания, составленные этими представителями
гуманистического движения, представляют собой весьма примечательные документы.
Бруни называет имена авторов древности, продолжателем дела которых он видит себя в своих «Записках».
Перечень этих имен поучителен. Сначала появляются Цицерон и Демосфен, эпоха которых, по мнению Бруни,
известна его современникам лучше, чем события шестидесятилетней давности: великие ораторы говорят о делах
далеких времен так ясно и с таким чувством, что прошлое будто оживает перед нашим взором. Таковы же и
письма Платона (!), запечатлевшего в них память об ученых занятиях своей юности, о событиях в родных
Афинах, о происшествиях, имевших место при сицилийском дворе.
Ход мысли Бруни ясен. Небрежность в повествовании, будь то погрешность против логики изложения или череда
грамматических ошибок, препятствует привычному течению процесса читательского восприятия, под каковым у
Бруни имплицитно понимается простое подверстывание прочитанного под раз и навсегда установленные
436
Глава 12
языковые нормы и риторические приемы, известные всякому грамотному читателю. Письмо, понимание и
онтологический статус события оказываются у него неожиданно близки. Бруни был многоопытным
переводчиком: из-под его пера вышли латинские версии сочинений Платона, Ксенофонта, Плутарха,
фрагментов Гомера и Аристофана, Аристотелевых «Никомаховой этики» и «Политики», псевдо-
Аристотелевой «Экономики» , Когда ему доводилось браться за переводы классических сочинений,
латинские версии которых уже существовали в Средние века, его перевод оказывался резко полемическим
по отношению к тому, что было сделано его предшественниками. Бруни мог на собственном опыте
убедиться, что автор, взявшийся сообщать чужие мысли или рассказывать о чужих деяниях, вполне в силах
испортить их, т. е. лишить их действительности, если он изложит эти деяния или мысли без должной
элегантности. К такому выводу он пришел в результате многократных обращений к трудам средневековых
авторов — от хронистов до переводчиков. Бруни приравнивает историографию к переводческой
деятельности на том лишь — весьма натуралистически воспринятом — основании, что и текст перевода, и
текст истории вторичны по отношению к чужому слову или совершившимся уже когда-то событиям. Хоро-
ший слог историка — вот главное условие действительности исторического факта. «Я полагаю, нет таких,
кому бы недоставало желания писать, а вот способности недостает многим. Однако же писания, если они не
внятны и не красноречивы, не придадут событиям ясности и памяти о них не продлят».
Примерно то же говорит и Антонио Альи. Кажется, он был едва ли не большим лингвоцентристом, чем
Бруни: «Ведь жизни святых и их деяния для читателей словно закон и средство самовоспитания (lex
quaedam ас disciplina), более того — образец добродетели и форма (virtutis exemplar ас forma), согласно
которой нам надлежит мыслить и выстраивать (effingere atque componere — буквально: воображать и
составлять / сочинять) самих себя» — здесь уже не только история, но и сам человек описывается в
терминологии нарратива. Отмечая удивительную суггестивную мощь исторического повествования, чита-
14
См. о переводческой деятельности гуманистов: Copenhaver В, P. Translation, terminology and style in philosophical discourse /
The Cambridge History of Renaissance Philosophy/ Ed. Ch. B. Schmitt, Q. Skinner, E. Kessler, J. Kraye. Cambridge, 1988. P. 75-110. О
переводческой деятельности Л. Бруни см. также: Иванова Ю. В. Леонардо Бруни Аретино: поэтика и философия перевода в
эпоху господства риторики//Одиссей. Человек в истории. М., 2003. С. 121-139.
Историческая культура.
437
тель которого часто оказывается настолько захвачен образами прошлого, что в нем рождается неукротимое
стремление подражать его героям, он сетует на неподобающее отношение к историописанию, которое
демонстрируют многие историки недавнего прошлого и настоящего. Порочность этих писателей, по мнению
Альи, состоит по большей части в том, что они, желая казаться красноречивыми, допускают смехотворную

помпезность там, где следует держаться умеренности и сохранять строгость стиля, поэтому их труды
напоминают старческий бред, из которого невозможно извлечь никакого содержания. Они нравятся себе в
такой степени, что больше заботятся о напыщенности и пространности своей речи (ut prolixe dicant), нежели
о том, чтобы употреблять слова, которые подобающим образом отражали бы суть дела (ut dicant apte,
decenter, opportune). А вот и результат следования этой порочной стратегии: «Самые что ни на есть подлин-
ные вещи они описывают так, что вовсе не кажется, будто они достойны хоть какого-то доверия» (Res autem
verissimas ita scribunt ut nulla omnino fide digna videre possint).
Гуманист Марино Санудо, всю жизнь посвятивший собиранию и изложению сведений, касающихся истории
Венеции, называл плоды своих трудов «грубым, необработанным сырьем», всего лишь «материалами к
истории» Светлейшей. Итак, факты сами по себе слепы. Они способны преобразиться в историю только под
пером просвещенного писателя, виртуозно владеющего словом и потому способного внести в хаос
действительности логическую ясность и дидактическую убедительность. События минувшего обретают
смысл, лишь когда они превращены в частные примеры (exempla) абстрактных качеств, присущих
человеческой природе во все времена. Мы сталкиваемся с одним из примечательнейших парадоксов
гуманистического мировоззрения: только утратив собственную историчность, прошлое может стать
историей для нас.
Лоренцо Балла, являясь единственным философом в гуманистической среде своего времени, был в ней в
каком-то смысле и единственным настоящим историком. Его историческое сочинение — явление, которому
помешала найти продолжателей, пожалуй, именно его значительность, а главное, разнообразие его
достоинств. Во время своего пребывания при неаполитанском дворе он написал «Деяния Фердинанда
Арагонского» (оно датируется концом 1445-го - началом 1446 г.). Три книги «Деяний» охватывают период с
1410 по 1416г.; есть свидетельства, что сначала Балла предполагал писать «Историю Фердинанда отца и
Альфонса сына», но впоследствии отказался от
438
Глава 12
своего замысла продолжить историческое повествование настоящим временем и заодно сделаться
придворным историком— принципы историографии, которые он фактически создал и которым не мог не
следовать, слишком явным образом не соответствовали этому амплуа.
За неаполитанской историографией Кватроченто (которая фактически была придворной историографией
правящей в Неаполе арагонской королевской династии) среди исследователей закрепился эпитет storia
illustre — «блестящая», или «парадная история». Одним из самых ярких ее представителей был Бартоломее
Фацио, автор десяти книг «Записок о деяниях Альфонса I, короля Неаполитанского» (год окончания —
1455-й), рассказывающих о событиях, совершавшихся на протяжении четверти века (1420-1454 гг.). Этот
труд представляет собой одно из наименее интересных, зато наиболее последовательных воплощений
гуманистического перетолкования Цицеронова понимания «истории как ораторского жанра (opus oratorium
maxime)». История, согласно воззрениям Фацио и его коллег, состоит по преимуществу из войн. Там нет
места никаким будничным сценам и уж тем более приключениям, которые могли бы послужить
удовлетворению нескромного любопытства читающей публики. Если у Фацио и описывается однажды, к
примеру, падение Альфонса в воду при переправе, то все равно монарху удается выйти из этого фарсового,
по сути, положения с истинно королевским достоинством — Фацио хочет лишь сообщить о том, с каким
рвением и с какой отвагой подданные бросились на спасение своего сюзерена. Невоенные эпизоды
допускаются в истории в том случае, если они обладают потенциями к театрализации — мы назвали бы их
трагическими. Желательно, чтобы излагаемые события легко поддавались извлечению из них моральных
уроков, а в их основе лежали бы чисто психологические движения вовлеченных в них людей. История, осью
которой оказываются virtus и humanitas короля-протагониста, естественно, гнушается фактами не только
социальной или экономической жизни, но часто и жизни политической.
Для Лоренцо Баллы проба пера в историческом жанре, как и в других областях литературы, не обошлась без
скандала: его представления о том, как следует писать историю, отчаянно противоречили довольно узким на
современный взгляд, зато обладающим завидной последовательностью представлениям его коллег о
единстве и чистоте стиля, в том числе и историографического. За «Деяниями Фердинанда» последовала
инвектива в адрес их автора, написанная уже знакомым нам Бартоломео Фацио. Балла ответил на нее «Про-
Историческая культура.
439
тивоядием против Фацио» (Antidotum in Facium). Авторский пролог к «Деяниям Фердинанда» и это
небольшое сочинение заключают в себе, безусловно, одну из интереснейших историографических кон-
цепций ренессансной эпохи.
Балла начинает с того, что решительно опрокидывает некогда утвержденные авторитетом самого
Аристотеля иерархические отношения между философией, поэзией и историей (демонстрируя при этом
знакомство с весьма редким для его эпохи текстом «Поэтики» — исследователи до сих пор не могут сойтись
во мнениях, откуда и какая именно версия Аристотелева труда могла попасть ему в руки). Положим,
суждение, что поэты по времени своего появления предшествуют философам, он мог заимствовать у
Исидора Севильского. Но важнее, с его точки зрения, указать более веское преимущество первых перед
вторыми: нет такого предмета, о котором поэзия не могла бы рассуждать убедительнее, чем философия,

будь то вопрос этический, натурфилософский или даже относящийся к компетенции диалектики (в скобках
отметим некоторую странность манеры полемизировать с авторитетами древности: явным образом
оспаривается тезис Аристотеля, однако его дальнейшие рассуждения, согласно которым, если изложить
стихами, например, Геродота, поэзии все равно не получится, или неизвестны автору, или не поняты им — в
любом случае, они не приняты в расчет). А поскольку вымысел не может предшествовать действительности,
очевидно, что исторические штудии возникли ранее поэтических. Следовательно, история, вопреки мнению
Аристотеля, имеет дело с универсалиями: она представляет собой неисчерпаемый кладезь частных
примеров общих свойств, и ценность этих примеров тем выше, что все они взяты из действительности, в
отличие от большей части сюжетов поэтических, которые тоже суть частности, но частности вымышленные
— выражаясь языком современной философии, их онтологический статус сомнителен, и потому они не
всегда заслуживают рассмотрения.
Что же касается манеры философов преподносить читающей публике свои убеждения, то здесь они явно
проигрывают в сравнении с историками, речения которых, будучи укорененными в действительности,
безусловно, и основательнее, и мудрее, и полезнее в гражданской жизни. Тем более что познание всякого
предмета, к какой бы области науки он ни относился, в первую очередь осуществляется как раз в живой
истории и лишь затем становится достоянием конкретной дисциплины. И если к упражнению в
добродетелях чтение поэтических сочинений побуждает нас скорее, нежели рассуждения филосо-
440
Глава 12
фов, то насколько сильнее действие речей, которые мы находим в сочинениях исторических, где они
позволяют с вящей точностью, как бы наяву представить себе события не придуманные, а действительно
происходившие с нашими прародителями в далекие времена!
И здесь Балла ступает на зыбкую почву сложных дифференциаций действительного и необходимого. Только
то, что он называет исторической правдой (verltas, порой он говорит даже sinceritas — искренность),
согласно его воззрениям, и может служить оправданием занятиям историка. Правда вместо правдоподобия,
требованием которого ограничивались его оппоненты — создатели «династической» историографии.
Современное ухо не вполне способно развести два этих понятия — когда речь идет о занятиях
словесностью; однако же в среде гуманистов эпохи создания «Деяний Фердинанда» подоплекой всякой
сколько-нибудь значительной дискуссии оказывалось тайное или явное столкновение нескольких различных
концепций истины. Вот и полемику Баллы с адептами панегирического историописания легко представить
как спор истины эмпирически воспринимаемой действительности с истиной стиля. Потому и компромисс в
ней оказывается невозможен: это можно сравнить с действием принципа несоизмеримости теорий.
Дискуссию осложняет плохо осознаваемая спорящими сторонами омонимия употребляемых ими понятий:
Балла совершенно иначе, нежели его оппоненты, решает вопрос о том, что такое действительность, в том
числе историческая.
Для сторонников «парадной» истории (storia illustre) изложение событий обладает явным преимуществом по
отношению к эмпирике событий уже в силу своей тотальной продуманности и целесообразности: ведь оно
находится под двойным давлением социального заказа, с одной стороны, и законов красноречия, — с
другой. История — целиком в руках историков, которых инерция жанра вынуждает к тому же быть еще и
педагогами («Зерцала государевы»). И потому они, осознавая свою личную ответственность за историю, не
могут допустить, чтобы в нее попадало все без разбору. Исторический процесс (по умолчанию) ни в каких
теориях не нуждается; утрачивая собственную реальность и оказываясь исключительно результатом
репрезентации, он целиком укладывается в систему предписаний риторики, которая, в свою очередь,
воспринимается как перенос этико-политических представлений в область языка.
Стиль (genus dicendi) — альфа и омега «парадной» историографии. Основные требования к историческому
труду — maiestas (величие), dignitas (достоинство), decorum (речь, украшенная подобаю-
Историческая культура.
441
щим достоинству произведения образом). Существеннейший из стилистических канонов — brevitas
(краткость). Характеристика, на первый взгляд, скорее, техническая, однако же в исполнении исто-
риографов-гуманистов она приобретает вполне явные идеологические коннотации: согласно требованию
brevitas происходит отбор материала — «низменные» предметы, «незначительные» события и персонажи
отсеиваются, «возвышенные» остаются.
Очевидно, что между veritas Баллы и brevitas историков-панегиристов — неустранимое противоречие.
Балла обвиняет оппонентов то в безумии, то во лжи: селекция фактов согласно требованиям единства стиля
представляется ему бессмысленным выхолащиванием действительности. Кто пишет историю, состоящую не
из живых фактов, а из окаменевших смыслов, к тому же еще и деформированных диктатом стиля, — тот
«взял за правило подражать вольности вымысла, свойственной поэзии, а не честности, присущей истории»
(poeticam fingendi Hcentiam, поп historicam sinceritatem solet imitari). Фацио, напротив, считает Баллу
недостойным звания историка и называет его сатириком. В ответ на замечание, что в истории королевских
деяний не может быть места лицам низкого звания и деяниям презренным, Балла отвечает: если при жизни
монархи не только содержат в своих домах поваров, конюхов и шутов, но и вовсе не могут обойтись без
них, то как без них возможна монаршая история? Ему не кажутся лишними в повествовании ни королевский
