Перси У. Модерн и слово. Стиль модерн в литературе России и Запада
Подождите немного. Документ загружается.

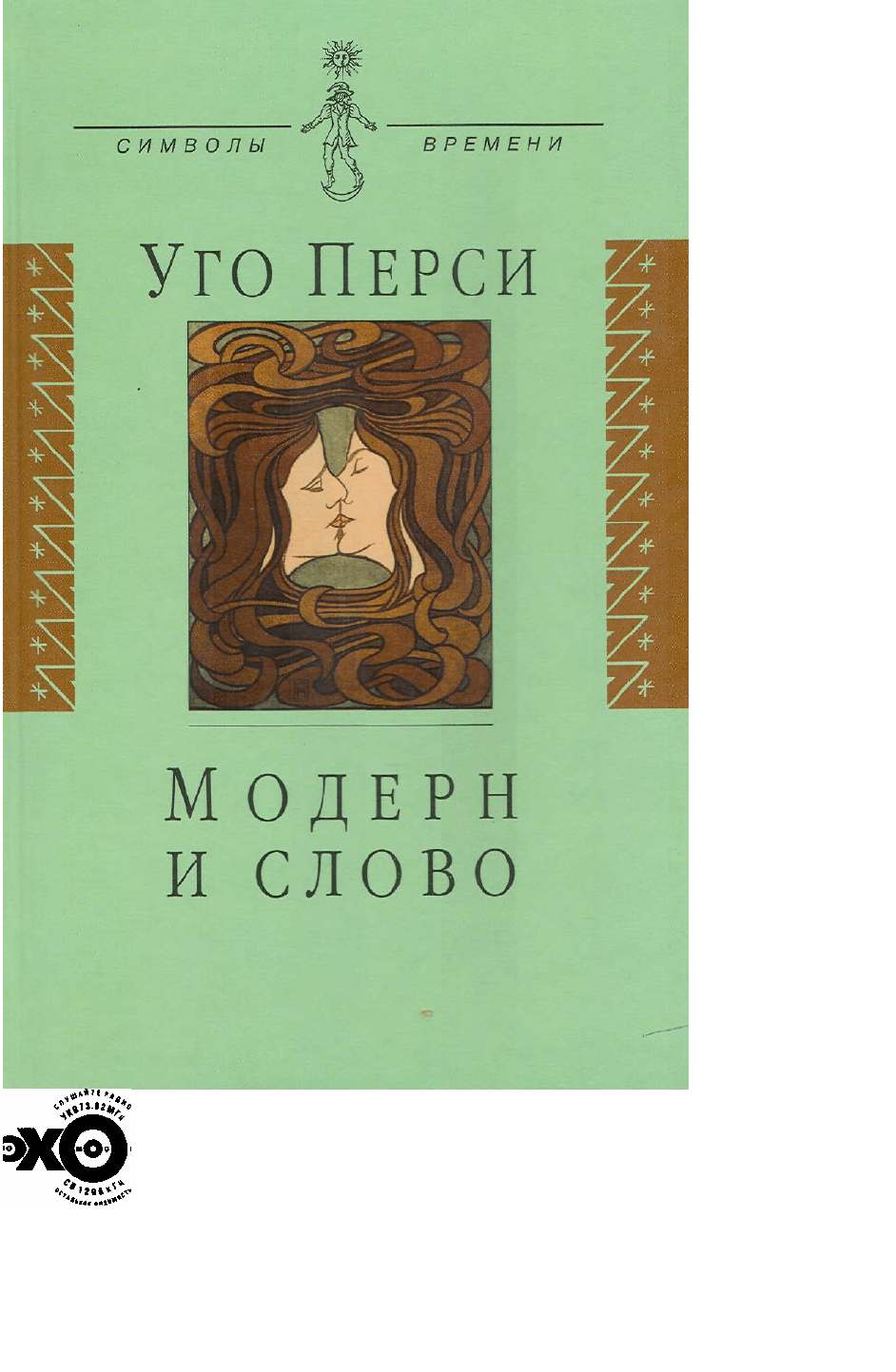
УДК821.1б1.1.02Модерн ББК 83.3(2)53-022.88 П27
Оформление серии художника ЗЮ. Буттаева
Настоящее издание выпущено при финансовой поддержке
Отделения языков, литератур и сравнительных культур
Университета города Бергамо (Италия),
грант 60PERS05
La presente pubblicazione ё stata realizzata grazie
al supporto finanziario del Dipartimento di Lingue, letterature
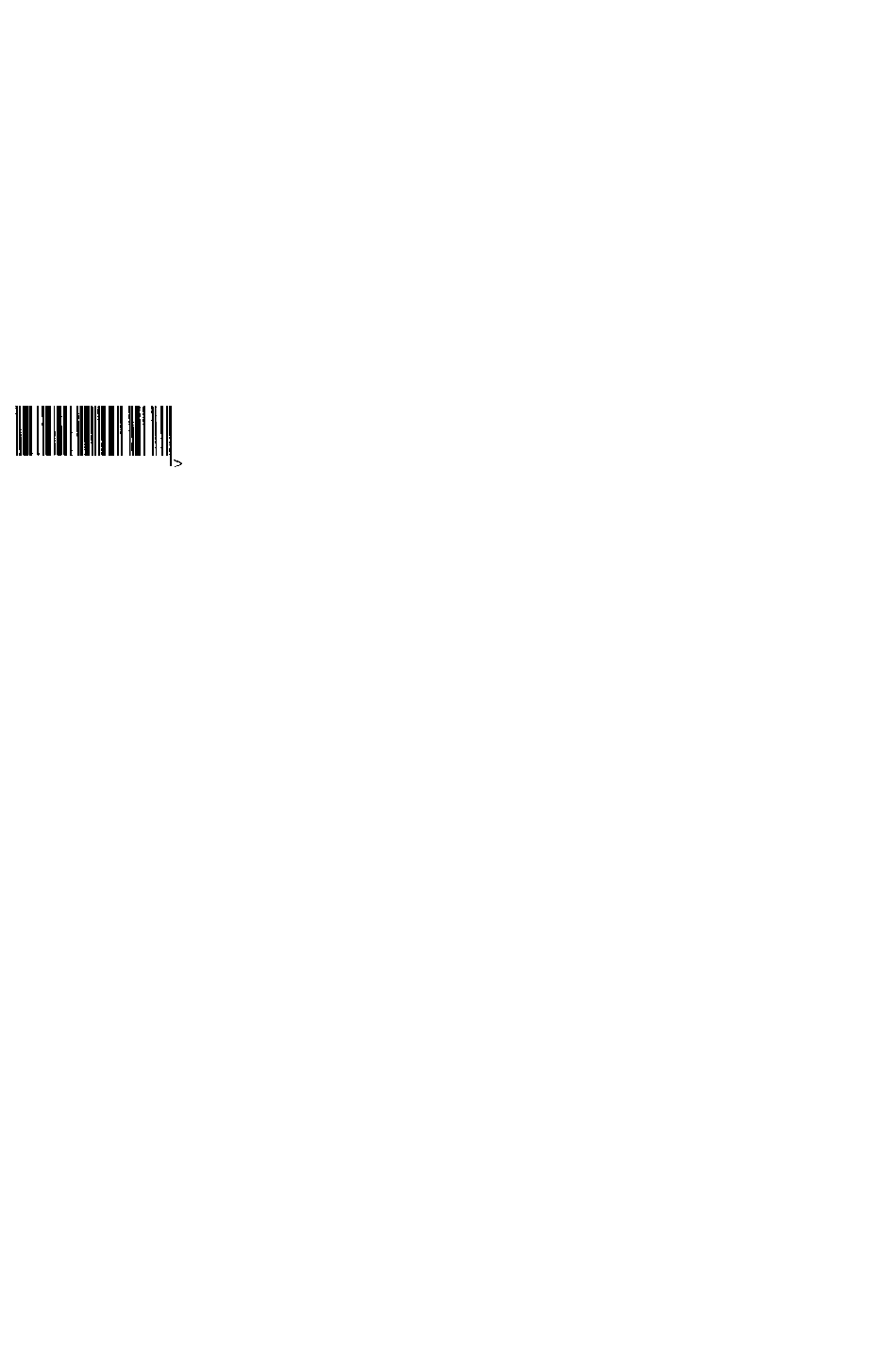
e culture comparate dell'Universita degli Studi di Bergamo
edel Fondo 60PERS05
Перевод с итальянского Яны Токаревой под общей редакцией Андрея Полонского
Информационный спонсор -радиостанция «Эхо Москвы»
Перси, Уго.
Модерн и слово : стиль модерн в литературе России и Запада / Уго Перси; [Пер. с итал. Яны Токаревой;
под общ. ред. Андрея Полонского]. — М.: Аграф, 2007. — 224 с.: 32 с. ил.-(Серия «Символы
времени»). - ISBN 978-5-7784-0343-7
Агентство GIF РГБ
Книга итальянского литературоведа Уго Перси ставит своей целью исследование русского стиля модерн в
литературе и его введение в европейский контекст. Вначале описывается стиль модерн в изобразительном
искусстве и архитектуре - европейский и локально русский. Это дает основу для нахождения эстетического
(•общего знаменателя». Анализ сюжетов, тем и образных блоков в произведениях Леонида Андреева и Михаила
Арцыбашева, Максимилиана Волошина и Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус и Валерия Брюсова, ведущийся
при постоянном привлечении примеров из западноевропейской литературы того времени, позволяет автору
обрисовать смугно проступающий сквозь конкретику единый эстетический контур русского модерна. Книга
богато иллюстрирована наиболее известными образцами стиля модерн из сокровищницы европейского и русского
искусства.
) Издательство «Аграф», 2007 © Перси У., 2007
"7 8 5 7 7 8 "4 0 3 4 3 71
Памяти моей матери Марианне Шпилар
- посвящаю
Предисловие
Россия и Запад: почему же не просто «Европа»? Неужели феномен модерна
1
в России настолько
своеобразен, что оправдывает подобное разграничение? По существу - нет. Если оставить в
стороне очевидную национальную специфику, русский стиль модерн не слишком отличается от
Modern Style, Art Nouveau, Jugendstil, Stile Liberty. Проблема в том, что стиль модерн не столько
требовал отдельного разговора, сколько нуждался в первом ознакомительном исследовании:
русская версия модерна до конца 80-х годов практически не была известна на Западе.
Семидесятые годы были отмечены исключительным расцветом в области исследований модерна.
Речь шла не о новом открытии стиля - оно состоялось уже в пятидесятые, во время выставок в
Гамбурге (1950), Цюрихе и Лондоне (1952), Стокгольме (1954), Франкфурте (1955), Мюнхене
(1958), а также других, последовавших во множестве одна за другой. По большому счету, о
модерне говорили, хотя и не очень много и преимущественно в полемическом ключе, уже после
окончания Первой мировой войны.
Отличительной чертой нового бума чсследований
стала попытка проследить стиль модерн также и в литературе.
Эту задачу поставили перед собой прежде всего немецкие ученые, хотя ценный вклад внесли и
специалисты из других стран; однако и те и другие занимались исключительно литературой своей
страны. Такое положение вещей привело к странному противоречию между искусствоведением,
рассматривающим модерн как феномен интернациональный, хотя и с локальными вариантами, и
литературоведением, которое крайне редко выходит за рамки национальных литератур.
Следует отметить, что в литературоведческих исследованиях изредка все же появлялись
проблески компаративистики. При этом сопоставлению всякий раз подвергалась величайшая
литература разных стран за одним существенным исключением: русской литературы.
Исследователи модерна в литературе совершенно упускали из вида литературу, гордящуюся
именами Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, причем именно эпоху ее бурного
расцвета, последовавшую за «классическим» периодом.
Даже авторы крупных исследований, целенаправленно посвященных модерну, не утруждают себя
перечислением имен, прославивших русский стиль модерн. Так, например, Стефан Чуди Мадсен в
своей фундаментальной монографии «Источники Ар Нуво»
2
ограничивается упоминанием
украшений Фаберже (в которых черты, типичные для стиля модерн, заметны лишь изредка --в тех
случаях, когда образцом служили украшения Ла-лик). Мало того, еще в 1964 году Йост Херманд
определяет русский модерн как «практически неизвестный», хотя первое советское исследование
на эту тему датируется 1929 годом. Ситуация не меняется и в семидесятые годы, когда в
Советском Союзе отмечается всплеск
6

исследований модерна, параллельный западному, но меньшего масштаба. Имя Шехтеля, одного из
величайших архитекторов русского модерна, до сих пор известно лишь узкому кругу западных
специалистов, а построенный им особняк Рябушинского куда менее знаменит и запечатлен в
фотографиях, чем Дом Бальо в Барселоне или Пале Стокле в Брюсселе.
Положение в области русского литературного модерна не менее удручающее. Насколько нам
известно, в Советском Союзе не было опубликовано ни одного исследования на данную тему. В
работах серьезных искусствоведов тут и там встречаются смутные намеки на необходимость
исследования произведений живописи, архитектуры и прикладного искусства в более тесной связи
с литературой, что отражало бы синтез искусств, к которому так стремилась исследуемая эпоха.
Тот факт, что речь идет лишь о смутных намеках, ничуть не уменьшает их значимости, поскольку
это не исследования специалистов-литературоведов.
С другой стороны, хотя феномен модерна проявился в России сравнительно поздно и стал
явлением значительного, но отнюдь не исключительного масштаба (стоит, впрочем, отметить, что
каталог зданий Петербургского модерна, составленный Б. М. Кириковым (Панорама искусств, №
10, М., 1987), занимает целых 22 страницы), он в большой мере был воспринят именно русской
литературой. И если советские исследователи молчат на этот счет, то некоторые документы эпохи
модерна достаточно красноречивы: в одном из своих очерков Андрей Белый описывает
Константина Бальмонта в карикатурном ключе, но определяет его как типичного «поэта modern
style».
Таким образом, одной из задач настоящей работы является более углубленное исследование темы,
заявлен-
7
ной Белым, с помощью анализа произведений других русских поэтов и писателей «прекрасной
эпохи». Это первая, хотя и ограниченная, попытка заполнить пробел в истории литературы,
зияющий на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий.
Примечания к предисловию
' Термином «модерн» мы будем обозначать интернациональный феномен; когда же речь будет идти о тех или
иных локальных его воплощениях, мы будем использовать соответствующие названия (Art Nouveau, Jugendstil и
т.д.).
2
Tschudi Madsen St. Sources of Art Nouveau. New York, 1957.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Поиски нового
Найдется немного художественных явлений, обладающих столь же разнообразными (а подчас и
противоречивыми) характеристиками, как модерн: на цветочное буйство Виллы Рудджери,
построенной в итальянском городе Пезаро, озадаченно смотрят угловатые геометрические фигуры
австрийского Сецессиона. Как следствие, любое суждение, претендующее на некоторую об-
стоятельность, любой разговор о стиле, торжествовавшем в Европе и за ее пределами в начале
двадцатого века, рискует быть неполным и неточным.
Еще более сложно установить, был ли модерн проявлением декаданса, чем он от него отличался и
почему в итоге оказался одним из аспектов этого явления, его версией, хотя творцы этих стилей
придерживались диаметрально противоположных точек зрения.
Однако несмотря на всю сложность теоретических
построений, пытающихся вычленить характерные особенности этих двух движений, конкретная
осязаемая реальность значительно более откровенна и непосредственна. В обстановке виллы
Д'Аннунцио, построенной в Карньякко на озере Гарда, чувствуешь себя угнетенным, думаешь:
декаданс, и не только потому, что мы знаем, что это вилла Д'Аннунцио. В спокойной и несколько
холодной обстановке Дома Сольве в Брюсселе мы говорим: модерн. Впрочем, Россана Боссалья в
своем остроумном эссе «Д'Аннунцио и недоразумение модерна» (D'Annunzio е 1'equivoco del
Liberty// Bossaglia R. II giglio, 1'iris, la rosa. Palermo, 1988) затрагивает ту же самую проблему в ее
литературном аспекте. Исследовательница справедливо возражает тем, кто называет «модернист-
скими» комнаты римского дома Андреа Сперелли, поскольку они представляют собой типичное
воплощение декадентского эклектического вкуса. Добавим, что некоторые сцены в «Девах скал»,
романе Габриеле Д'Аннунцио, потребовали бы совсем другого подхода, но об этом позже.
Справедливости ради стоит сказать, что модерну далеко не всегда удавалось абстрагироваться от
времени, породившего его, и декаданс часто прокрадывается в безмятежные образы нового стиля:
ядовитые испарения болот обращают в камень едва распустившиеся прекрасные цветы, дрожь

чувственности и ужасы греха подмигивают обнаженным юношам, бегущим вслед за солнцем.
Похоже, есть две причины, способствовавшие тому, что модерн стал скорее специфически
художественным, чем культурным явлением, и низведшие его до статуса якобы инородного тела
внутри большого тела декаданса, его подсистемой. В первую очередь, это провал модерна в
качестве движения антибуржуазного и антиаристократического протеста, затем - неустанные
поиски
10
стилизации, которые зачастую приводили его к манье-ристским, если не манерным решениям, а в
худших случаях - прямо-таки к китчу.
У истоков феномена модерна находится неоспоримый факт, который невозможно оставить в
стороне и который заслуживает самого пристального внимания, поскольку словосочетание «Ар
Нуво» (счастливое название парижского магазина Самюэля Бинга на улице Прованс) уже
основательно затерто и превратилось только в звук, что отвлекает нас от его сущностного со-
держания: «nouveau» - «новый». То, что на практике (как это становится понятно спустя
десятилетия) произведения модерна оказались скорее «другими», чем действительно «новыми», -
тема для дальнейшего детального обсуждения; важно же то, что «воля к обновлению»,
пронизавшая эпоху, стала той искрой, из которой разгорелось пламя модерна. Благодаря этой
«воле», этому рациональному намерению возникли те самые факторы, в которых мы видим
причину краха идеалов этого движения, а история модерна и есть, в конечном счете, история этого
краха.
Идеал «новизны» естественно противостоит эпохе декаданса с ее избытком предметов,
нагруженных бесполезными, мертвыми функциями, наростами, удушающими саму суть предмета.
Анри ван де Вельде, один из величайших архитекторов модерна и идеолог этого движения, пишет
в связи с этим:
«К концу прошлого века на континенте мы буквально задыхались под грузом повсеместного
уродства. Никогда еще, ни разу за всю многовековую историю, вырождение вкуса, вялость
восприятия и равнодушие к исполнению и к качеству материалов не падали до такого уровня. [...]
Во что бы то ни стало нужно было, чтобы
11
в нас не возникла мысль: этот предмет обстановки -шкаф, стол или стул; [...] Нет: здесь перед
нами храм с колоннами или арками, смелые, уходящие вглубь перспективы неизвестных городов.
[...] На стенах все твари движутся и преследуют друг друга в хаосе листьев и ветвей, наводящем на
мысль о присутствии и шуме леса, в котором наше повседневное существование потечет как в
раю!»
1
.
Все это - предметы, которые нужны лишь для того, чтобы отвлечь человека от тревог времени,
неотвратимо движущегося к катастрофе, поместить его в скорлупу, раковину, в которой он сможет
позволить себе умереть, забыв об уродстве современной эпохи.
«Жилье в конечном счете превращается в панцирь.
XIX век, как никакой другой, оказался болезненно привязан к дому. Дом воспринимался как
футляр для человека, и внутри него помещалось все то, что принадлежит хозяину [...] Практически
невозможно найти что-то такое, для чего XIX век не придумал футляра. [...] А если не футляр - то
чехлы, ковры, обшивка и облицовка.
XX век с его ноздреватостью, прозрачностью и стремлением к свету и открытому пространству
покончил с жильем в прежнем смысле слова. [...] Югендстиль коренным образом перетряхнул
представление о панцире»
2
.
Все это - крепости, тюрьмы, башни, но из слоновой кости, сами по себе изысканные и утонченные,
как и те, кто в них живет. Впрочем, нельзя сказать, чтобы человек модерна был нацелен на
социализацию: «Типичной чертой югендстиля является изоляция индивидуума».
3
Человеческие
фигуры в произведениях модерна скитаются в лоне дикой природы, живут природой, теряются
12
в цветах и лианах, но при этом одиноки. Фердинанд Кнопф изображает барвинки, прорастающие
из полоски бумаги, на которой написано «On n'a que soi» («Нет ничего, кроме себя»); Альфред
Вальтер Хаймель основывает журнал, а позже - издательство, которое станет знаменитым: Die
Insel («Остров»); Стефан Георге пишет стихотворение под названием «Der Herr der Insel» - «Хо-
зяин острова». Максимум - пара, этико-биологический микрокосм, вдали от толпы, часто
обнаженные. Иногда -две зеркальных фигуры, в которых не различаются предмет и его отражение,
но это не умаляет их поглощенности собственным неприступным одиночеством
4
.

Таким образом, модерн - бунт против цивилизации искусственности и ненатуральности, и в его
лозунге «новизна» содержится подлинное отграничение от декадентского движения
5
.
Будучи одним из первых, кто понял необходимость новой эпохи, ван де Вельде в своих мемуарах
обращается к началу своей творческой деятельности и, не колеблясь, определяет ее миссией
художника:
«Я не имел возможности послать свои произведения на первый Салон Свободной Эстетики; тогда
Октав Маус настоял на том, чтобы я участвовал в этом мероприятии хотя бы с лекцией. Название
и тему лекции он предложил сам: «Искусство будущего»; в том же самом году (в 1894 г. - У.П.)
она была опубликована под названием «Очищение искусства», и это название более показательно,
чем ее содержание. На мой взгляд, лекция была первым шагом на пути проповеди «нового стиля»,
даже если на тот момент речь шла лишь об освобождении от оков и смене направления
движения»
6
.
Помпезным языком и довольно расплывчато (впрочем, в последующих очерках эти недостатки
исчезнут)
13
ван де Вельде формулирует основополагающие принципы нового искусства, проклиная все,
что было сделано ранее, начиная с Возрождения. Действительно, именно эта эпоха положила
начало опрометчивой тенденции придавать произведениям искусства стиль прошлого, дабы
не испытывать смущения от создания чего-то нового и оригинального. От Возрождения через
аберрации барокко приближаемся к концу девятнадцатого века - эпохе, которой принадлежит
сам ван де Вельде, эпохе, в которой, как он замечает, в любом произведении искусства, будь
то дворец или предмет мебели, собираются все возможные стили.
Следствием этого становится абсолютное отсутствие стиля, настолько очевидное и
главенствующее, что даже десятилетия спустя все еще оставалось притчей во языцех. В
очерке Германа Броха «Гофмансталь и его время» проблема отсутствия стиля, который
характеризовал бы эпоху, выражена очень отчетливо:
«Это эпоха эклектики, эпоха фальшивого барокко, фальшивого Возрождения, фальшивой
готики; эпоха, когда повсюду, куда западному человеку удавалось распространить свое
влияние на нравы, оно становилось одновременно буржуазной ограниченностью и помпой,
принимая солидность, которая свидетельствует о скупости и уверенности в себе»
7
.
Модерн предлагает себя как преодоление всего этого, как побег из башен из слоновой кости,
задушенных драпировками из тяжелой материи, выложенных редкими коврами и усеянных
драгоценными безделушками, побег с тем, чтобы вновь завоевать внешнее пространство или,
наоборот, позволить внешнему пространству завоевать внутреннее: окна превратятся в двери,
14
распахнутые в сады, и сады наконец ворвутся внутрь домов.
Само собой разумеется, что достижение этой цели требует радикальных действий. Эклектика
fin de siecle по сути своей беспорядочна и не может быть уничтожена иначе как с помощью
единого организующего начала. Таким началом является природа, однако ей не следует
подражать - это означало бы наступать на старые грабли. В новую эпоху для нового искусства
природа должна быть источником вдохновения, позволяющим каждому выражать ее в
соответствии со своими способностями и вкусом. Она должна послужить неиссякаемым
родником, своего рода каталогом форм и орнаментальных линий - только так новизна сможет
быть действительно новой.
Обращение к природе как источнику вдохновения и призыв к рационализации
художественного производства посредством единого организующего начала позволяет
отчетливо проследить корни нового движения: теории Рескина, воплощение этих теорий его
учеником Уильямом Моррисом и конкретный факт - публикация в 1899 году изображений
самых разнообразных растительных и животных форм, выполненных Эрнстом Хек-келем,
«Kunstfonnen der Natur» («Художественные формы природы»)
8
.
Откровенно говоря, ван де Вельде невозмутимо отказывается признавать, что его идеология
заимствована у Рескина (в отношении Морриса он не столь категоричен и проявляет
некоторую признательность). Наивность, непоследовательность, энтузиазм первого
абстрактно прелестны, но идеологически неприемлемы, тогда как великая заслуга обоих
заключается в том, что они воспользовались «фактами и событиями, которые сразу кажутся

нам сегодня удаленными, давними; настолько
15
далеко ушедшими в Прошлое, что находятся как бы на другом уровне!»
9
. Ван де Вельде полагает,
что недостаточно бороться с уродством с помощью красоты; скорее он настаивает на
«немедленном и неукоснительном применении» гигиены, способной уничтожить сам вирус
уродства. Это будет «новая дисциплина», насаждаемая именно как гигиеническая норма, чтобы
искоренить уродство, порожденное вмешательством фантазии туда, где ее присутствие не имеет
смысла.
Несмотря на это, по мнению ван де Вельде, Рескин и Моррис - великие предшественники модерна,
поскольку именно в их работах заклеймен позором двойной ущерб, причиненный Красоте:
Рескин, возмущенный появлением первых железных дорог, телеграфных столбов, дымовых труб,
заявлял об «оскорблении, нанесенном природе»; Моррис, наблюдавший вторжение первых машин
- предметов ужасных по качеству и еще более ужасных в плане стиля, - воспринимал его как
«оскорбление человеческого достоинства». Ван де Вельде видит третье, и на сей раз смертельное,
оскорбление Красоте в унижении человеческого Разума посредством презрения к логике и
базовым потребностям при проектировании предметов искусства.
Разум - один из ведущих мотивов в размышлениях ван де Вельде, это кредо нового искусства,
молодых художников:
«[...] современные поколения склонны скорее уступить доводам разума и здравого смысла, нежели
растрогаться и подчиниться велению сердца»
10
.
Поэтому природа есть не местопребывание хаоса, но полигон разума; более того, природа есть
интеллект. Профилактика уродства осуществляется посредством гигиенической
интеллектуалистской концепции приро-
16
ды. Именно в этот момент осуществляется переход от эклектики к модерну, от внутреннего к
внешнему и обратно:
«Именно интеллектуальность сельского пейзажа составляет его очарование и его превосходство.
Пейзажи суть излюбленные комнаты (курсив мой. - У.П.), и мы выбираем самые просторные и
цветные, [...] просторные аллеи - это покои горечи, и именно древесным ветвям-защитницам мы
доверяем наши беды [...]. Также следовало бы в будущем позаимствовать у пейзажей композицию,
чтобы использовать при постройке наших жилищ те же убедительные линии, которыми
пользуется природа, вызывающая столь властные ощущения. Идея заимствовать из самых
прекрасных источников созидания и украшения, черпать вдохновение в красивейших из па-
мятников, а именно: в солнце, деревьях, цветах и, превыше всего, в небесах - есть не что иное, как
возврат к самой подлинной архитектурной традиции»
11
.
То, что избегает «гигиены», чистоты, которая исходит от природы, есть болезнь, декаданс.
Ван де Вельде с большой проницательностью подмечает связь, существующую между Zeitgeist, то
есть духом времени, и домашней обстановкой, а также художественным вкусом в целом.
Чрезмерная эстетическая утонченность приводит ко все более изнурительной погоне за деталями,
космос уменьшается до размеров миниатюры, изысканность предмета становится самоцелью. Вот
наиболее примечательные черты всех эпох декаданса. Но, с другой стороны, чрезмерная
утонченность приводит к «бесконечной усталости тела и духа»
12
, отвлекающей человека от мощи
и величия. И потому избыточный материализм эпохи препятствует стремлению человека
17
к идеалу; для него характерен сенсуализм, часто проявляющийся в неприкрытой
чувственности, которая истощает энергию, направленную в первую очередь на освобождение
от власти обстоятельств. Впрочем, материализм для декадентов не подразумевает грубости,
тем более банальности:
«Их глаза ничуть не оскорбляет реальность человеческих форм, слишком знакомых, грубых и
агрессивных, которые одни только и являются темой картин и статуй; и их руки, их бедные
руки, которые изнемогли от занятий слишком сложных и утонченных, находят в себе силу
ласкать все эти неожиданные и произвольные формы [...] И без всякой грубости, ибо эти люди
столь нежны, что их плоть удовлетворяется ласками, являющимися слишком легкими
прикосновениями и слишком легкой пищей»
13
.
Ван де Вельде завершает свои рассуждении о развращенности современной ему эпохи
декаданса, распахивая окно в будущее искусства, в котором не будет места его развитию,

поскольку вскоре грядет «полное интеллектуальное уничтожение старого континента», а
будет, напротив, создание «Нового Искусства», Art Nouveau, которое «пролепечет народ
невинный и восторженный, тот, что с любовью и вниманием последует за разными стадиями
его преобразования»
14
.
Если в первых очерках («Очищение искусства» .и «Три оскорбления, нанесенных Красоте»)
ван де Вельде предстает пророком или страстным защитником нового искусства, то в третьем
(«Новизна», 1929), написанном уже на заре возобновления общего интереса к модерну, он
наблюдает этот феномен с большей дистанции и, если позволительно будет так сказать, с
большей объек-
18
тивностью. Он признает, что горячка модерна порой приводила к преувеличениям и изменам
вкусу; однако наиболее важной частью очерка является параграф «Смешение Новшества и
Новизны», в котором первое определяется не иначе, как коммерческое вырождение второго:
«Мы слишком хорошо видели, что все, что привлекало фабрикантов, - это «новшество» форм
и украшений, оригинальность наших изобретений. [...] Необходимо было поскорее
объясниться. Лишить тех, кто видел в нас лишь «поставщиков нового», иллюзии, что после
этого нового мы принесем им еще что-нибудь новенькое»
15
.
Чтобы разорвать цепь, связующую манифестацию нового с последующим требованием
«новенького», сделать так, чтобы коммерциализация модерна не лишила это движение его
идеологической составляющей, было необходимо утвердить единый принцип, опираясь на
который можно было бы вернуться к поиску базовых форм: дома, стула, предметов,
необходимых для повседневной жизни, - принцип, который позволил бы Новому стать
долговечным, сделать, так сказать, Новизну классикой. Но классика, по определению, не есть
новшество, это то, чему не нужно быть новым, потому что оно всегда актуально и недаром
черпает свою вечную актуальность из традиционных источников. Ван де Вельде,
рассматривая проблему классичности, идет чуть дальше; он отрицает эффективность и
легитимность соединения того, что определяется как «новый стиль», и классического стиля,
поскольку последний был склонен допускать одну единственную форму, один единственный
тип для всех зданий
16
, но признает, что и этот стиль стремился к порядку и дисциплине
вопреки
19
«разнузданности», которая, начиная с романтизма, восторжествовала над классицизмом.
Судя по этой реплике, ван де Вельде, похоже, не осознает, что суть проблемы состоит не столько в
классицизме, сколько в понятии «классики». Признавая, однако, при этом, что любое явление
«нового» создает звено в «великой семье чистых, высших, новых и вечных форм»
17
, он признает
тем самым, что «долговечное новое» неоспоримо живет в царстве «классики»
18
.
Новым, продолжает ван де Вельде, было также и все то, что в предшествующие времена
спонтанно рождалось в процессе поиска решений, удовлетворяющих потребности повседневной
жизни. В общем, предмет был красивым, даже если был лишен украшений, именно потому, что
был полезен: красив, поскольку функционален. По этой причине за истекшие столетия так мало
новых форм получили развитие в искусстве и, в первую очередь, в архитектуре.
Отсюда следует, что принцип, способный сделать Новое долговечным, - это связь с традицией:
«Вплоть до настоящего момента мы лишь смутно отдавали себе отчет, что средство, к которому
мы прибегали для создания нового, было не ново»
19
.
Именно в годы возобновления интереса к модерну, но, как нам кажется, без намерения
способствовать его «возрождению» (или независимо от него) Вальтер Беньямин высказывает ряд
соображений, которые можно без преувеличения назвать блистательными и которые позже будут
включены в монументальный труд Passagenwerk
20
. В разделе «Живопись, югендстиль, новизна»
Беньямин также затрагивает и вопрос «новизны»:
«Определение «модерна» как нового в контексте того, что существовало всегда»
21
.
20
Очевидно, что понятия, сформулированные ван де Вельде и Беньямином, эквивалентны, но
суждение последнего отличается большей концептуальной широтой, благодаря более широкому
идеологическому кругозору. Действительно, в предшествующем параграфе утверждается, что
«чередование моды, вечная актуальность уклоняется от «исторического» рассмотрения,
полностью подчиняясь лишь политической (теологической) концепции»
22
.

Это значит, что «долговечное новое» ван де Вельде, то есть сам Ар Нуво, внеисторично, не
подвержено эволюции, статично, находясь во власти чар, которые изгоняют повторяемость,
останавливая время, «уродство», утверждая установление «красоты», и, наконец, «старое»,
мумифицируя «молодое» или «новое».
«Не то, чтобы повторялось «всегда одно и то же», тем более не стоит говорить о вечном
возвращении. Скорее речь идет о том, что лицо мира остается неизменным именно в том, что
составляет новое; более того, что новое вечно остается одним и тем же во всех отношениях»
23
.
Убеждение, что конец XIX века должен будет означать появление новой человеческой реальности,
нового стиля, не только идеального и не только практического, но и стиля, который сможет
сделать из повседневной практики идеал жизни, в конечном счете оказалось беспочвенным. Новое
старо как мир. Ван де Вельде это понимает, и стиль, который сметет все старые стили, будет
«единым стилем, старым как мир»
24
. Беньямин утверждает, что «не было ни одной эпохи, которая
бы не чувствовала себя в широком смысле слова «модернистской» и не полагала бы, что
находится на самом краю пропасти»
25
. Однако
21
то, что модерн сильнее, чем все предшествующие стили, «почувствовал» свое призвание к
обновлению и сформулировал его столь отчетливо, имеет совершенно особенную причину:
последнюю целебную инъекцию новизны европейская культура получила больше чем за век до
него во время Французской Революции, и бездна, которая открылась перед ее дряхлостью,
представляла собой войну, которая по масштабу и трагическому накалу была сопоставима разве
что с Тридцатилетней войной.
Модерн можно рассматривать как последнюю отчаянную попытку спасти мир, лежащий в руинах,
«вчерашний мир», как его назвал Стефан Цвейг. Однако, как уже говорилось, этот стиль не достиг
своей цели, поскольку, предлагая себя как антибуржуазное и антиаристократическое направление,
он обращался ко всему обществу в целом лишь в теории и в идеале, на практике же был воспринят
как раз богатой буржуазией, которая могла позволить себе те предметы искусства, которые менее
имущие классы не были в состоянии даже оценить по достоинству.
Показательно то, что ван де Вельде пишет в воспоминаниях после того, как он перечисляет свои
любимые книги 1890-х годов («Екклезиаст», «Песнь Песней» и «Апокалипсис» из священных
книг, «Бог и государство» Бакунина, одно из «Введений в Жизнь Христову», «Манифест
коммунистической партии», «Записки революционера» Кропоткина, «Так говорил Заратустра»,
«Fioretti» Св. Франциска Ассизского, «Братья Карамазовы»). Он уверяет, что пестрота здесь лишь
кажущаяся, потому что во всех этих книгах прослеживается объединяющая идея, «бунт против
эгоизма, который преобладал в общественных взаимоотношениях в конце девятнадцатого века,
против привилегий, которые упорно отстаивал господствующий класс»
26
.
22
Однако факт остается фактом: если его соотечественник Хорта по крайней мере спроектировал
«Народный дом» (дом профсоюзов) в Брюсселе, произведения ван де Вельде распространялись
преимущественно среди господствующего класса. Он сам в воспоминаниях говорит о графе Гарри
Кесслере
27
, своем меценате, как о воплощенном Дориане Грее или Дез Эссенте, и, описывая
приемы, которые тот давал в своем доме (построенном по проекту самого ван де Вельде),
воспевает царившую там атмосферу изысканности:
«В столовой гости располагались под огромной картиной Сера, в комнатах чай подавался перед
картинами Сезанна, Боннара, ван Гога - Кесслеру принадлежал потрясающий «Портрет доктора
Гаше», - Гогена и других французских мастеров. В доме Кесслера встречались самые видные
представители берлинского общества, самые знаменитые актеры, театральные деятели, такие как
(в последующие годы) Макс Рейнхардт и Барновский, дирижеры, пользующиеся международной
славой, Дягилев и его танцоры, Павлова, Нижинский и художник Леон Бакст, сценограф
«Шехерезады» и других русских балетов; многие мечтали быть приглашенными к Гарри, который
никогда не выходил за рамки того, что предписано хозяину дома, и умело избегал слишком
близких связей, которые могут быть чреваты осложнениями. Наравне с некоторыми своими
друзьями он входил в число наиболее ярых поклонников Фридриха Ницше; в своей миссии
эстетического предвестника он основывался на принципах мыслителя, который «философствовал
с молотком» и предсказывал пришествие нового типа людей, к которому сами мы надеялись
принадлежать»
28
.
В действительности если модерн и был феноменом антибуржуазной и антиаристократической
реакции, по

23
здравом размышлении у него никогда не было подлинно народных намерений. Идеалом было
сделать жизнь человека более безмятежной, рационализировать ее, внедрив в нее больше
«гигиены», как писал ван де Вельде. Однако материальные воплощения этого идеала были все еще
бесконечно далеки от широких слоев населения и недоступны им по цене. Виной тому отчасти
легкая промышленность, недостаточно развитая, чтобы серийно производить утонченные
предметы, которые проектировали мастера нового стиля. Но есть и другое объяснение, более
глубокое, более убедительное, на котором зиждется безотчетный аристократизм модерна: он
обращается ко всему народу, но требует культурной избранности. Граница здесь очень тонкая и
коварная: мог ли великолепный стул Макинтоша с его революционными очертаниями за счет
одного только своего эстетического очарования облегчить усталость шотландского шахтера или
лондонского рабочего, не разгибающегося над своими машинами по восемнадцать часов в день?
Или все-таки он предпочтет банальное мягкое канапе, на котором смог бы себе позволить
растянуться с удобством?
Евгения Кириченко проницательно указывает на этот щекотливый аспект модерна и считает этот
стиль даже более аристократическим, чем эклектика.
«В его образах нет простонародности и общедоступности. Его композиции рассчитаны на
подготовленного человека, он ориентируется на людей с достаточно высоким уровнем знаний,
способных увидеть за мнимой простотой или нарочитой усложненностью формы аналогии с
современностью, воспринять принципиальную метафоричность содержания, о которой
повествуют также ритмы, краски, линии, а не только определенные
24
формы, отождествляемые с соответствующими им идеями и понятиями. Аристократизм модерна -
одно из многих проявлений его диалектичности: оборотная сторона его демократизма. Эклектика
стремится к удобопонятности, модерн хочет возвысить всех до уровня избран-
ных»
29
Буржуазия девятнадцатого века, уже достигшая последней стадии развития, а именно
художественной, находится вместе с тем в состоянии крайнего упадка. Художественный принцип
портит здоровые коммерческие основы и порождает своего рода аристократию духа, которая
жаждет войти в историю со своим особым отпечатком, стилем, который ничем не был бы обязан
традиции и воплощал бы стремление этой прослойки общества к свежести и юности, уже
безвозвратно ушедшим в прошлое; модерн, который не желал становиться выражением
буржуазной банальности или сообщником в заблуждениях ее самодовольной роскоши, был усвоен
именно этой частью господствующего класса.
«Чем отчетливее буржуазия осознает, что жить ей осталось недолго, тем сильнее хочет
омолодиться. Следовательно, она симулирует более долгую жизнь, или, по меньшей мере,
красивую смерть»
зо
То, что модерн был воспринят буржуазией как якорь спасения, противоядие, если не заклинание
против близящейся кончины, не умаляет ни новаторского характера этого стиля, о котором уже
говорилось, ни его революционного заряда, которому отчаянно противились академии художеств.
Яркий пример тому - виль-гельмовская Германия. В своих воспоминаниях ван де Вельде
затрагивает тему спора между «авангардом»,
25
который представлял он сам, и господствующим академическим вкусом, поддержкой которому
был личный вкус Кайзера
31
. Спор этот после вызова ван де Вельде в Веймарский двор принял
угрожающий характер, а во время промышленной выставки в Дюссельдорфе (1902) перерос в
открытое столкновение между уже известным архитектором (который, впрочем, был лишен
возможности реагировать) и Вильгельмом И. Стоит привести этот пассаж целиком:
«Итак, Кайзер со свитой проследовал к залу, в котором, как сообщил ему на пороге помещения
один из членов руководящего комитета выставки, были выставлены мои произведения. Едва
услышав это, Кайзер остановился как вкопанный, окинул зал рассерженным взором, развернулся
кругом и, обратившись к свите и толпе, следовавшей за ним, произнес язвительным тоном так, что
это можно было услышать на большом расстоянии: «Нет, нет, уважаемые господа, у меня нет ни
малейшего желания вызвать у себя приступ морской болезни». Спустя столько лет я не могу с
уверенностью утверждать, что слова были именно таковы, но за точность смысла я ручаюсь. Дело
в том, что критики тех лет, говоря о моих работах, охотно пользовались выражением

«волнообразная линия», которое слишком очевидно ассоциировалось с "морской болезнью"»
32
.
Это еще раз подтверждает, что из господствующих классов аристократия была самой отсталой в
культурном плане и люди, наделенные наибольшей ответственностью, обладали наименьшей
компетенцией. Оставаясь до некоторой степени (в пределе - случай России) под обаянием идеи,
что властвует Божьей волей, аристократия не предчувствовала близкой кончины и упрямо
придерживалась традиционных образцов
33
. Более раз-
26
витая буржуазия, напротив, чтобы отогнать мысль о собственной кончине, искала для себя нового
стиля, который стал бы также и новым стилем жизни.
Стилисты модерна, возможно, сами того не желая, предоставили ей этот стиль на волне гибридной
идеологии, сплавленной из различных философских течений модернизма и делавшей гибридным
само создание стиля и двусмысленной его суть.
Впрочем, двусмысленно и учение Ницше, колеблющееся между шопенгауэровскими
наставлениями и жизнеутверждающим сверхчеловечеством, - то самое учение, которое отчасти
усвоили поборники модерна (вероятно, неосознанно и уж точно в искаженном виде, поскольку
наследники философа мистифицировали и изуродовали суть его учения).
Тому же самому ван де Вельде открылись двери архива Ницше в Веймаре благодаря дружбе,
связывавшей его с Элизабет, сестрой философа. Он весьма почтительно отзывается о ней в своих
воспоминаниях, воздавая ей должное за упорство, с каким она защищала наследие брата.
Наследие, в котором, впрочем, мало что смыслила.
Ван де Вельде, которому было поручено составить проект перепланировки дома Ницше для
создания архива Ницше (окончание работ - осень 1903), кажется, не замечает близорукого и
нелепого фанатизма Элизабет, тогда как об архивисте (которым был не кто иной, как Рудольф
Штейнер) в своих мемуарах он упоминает намеком лишь единожды. Штейнер интересует нас
здесь прежде всего как первый, кто защищал учение Ницше от посягательств людей, окружавших
Элизабет
34
.
С этим неразрывно связана проблема грандиозной двусмысленности, лежащей в основе идеологии
модерна: и главный теоретик стиля, и Ницше ожидали рождения чего-то нового для человечества,
но исходили из
27
совершенно различных посылок. Несмотря на это результатом оказалось то, что Модерн и Ницше
в значительной мере отождествляются (рис. 4).
Для Ницше эти посылки, как известно, состоят в осуждении разума, введенного в греческую
культуру Сократом; для ван де Вельде - в горячем призыве к победе того же самого разума и
изгнанию бесов декаданса и вкуса fin 'de siecle.
В речи, произнесенной в 1933 году по случаю своего 70-летия, ван де Вельде утверждает:
«Множество произведений, созданных до войны в разных странах, подготовили то Равновесие, к
которому стремилась Архитектура. Но грубая борьба, которую художники вели в поддержку
вождей в разных странах, раздула в них чувство собственной значимости, и слишком многие
художники превратились в «звезд». Ни одна общая мысль не сплачивала их Веру. «ВОЛЯ К
ИСТИНЕ», превозносимая Ницше, еще не была обобщена до такой степени, чтобы сформировать
новый менталитет, на который могло бы опереться НОВОЕ РАВНОВЕСИЕ.
Вскоре техника вменит архитектору в обязанность эту волю к истине [,..]»
35
.
«Воля к истине», понятие, сформулированное в «По ту сторону добра и зла», по версии ван де
Вельде, представляет собой его обычное стремление не оставить камня на камне от преувеличений
и фальши конца века, эклектики; короче говоря, рационализацию, стилистическое очищение. С
другой стороны, понятие очищения очень похоже на понятие гигиены, уже упоминавшееся ранее,
и любопытен тот факт, что Штейнер, составляя очерк о философе - «борце против своего
времени» и обращаясь к проблеме «воли к истине», утверждает:
28
«Он жаждет прежде всего «Гигиены жизни», и историю можно развивать только постольку,
поскольку поддерживает такую гигиену.
Что есть «побуждающего к жизни» в историческом исследовании? Это вопрос, который Ницше
ставит в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни» [.. .]»
36
.
Только что выделенная двусмысленность (отказ от разума и призыв к рациональности) в конечном
итоге скорее мнимая, чем действительная: ван де Вельде несгибаем в своих программных
формулировках, но следствием его изучения первородных природных форм стал выплеск наружу
