Перре М., Бауман У. Клиническая психология
Подождите немного. Документ загружается.

Koob.ru
другими людьми, с целью избежать страха стать покинутым». Эти авторы
различают нарциссические расстройства личности как выражение сужения
эмоционального резонанса, шизоидные расстройства личности как подавление
аффектов и расстройства в форме избыточного поведения «цепляния»
(Anklammerungsverhalten), которое можно часто наблюдать, например, у
пациентов с депрессией или больных с патологическими влечениями.
Анальная фаза. Согласно представлениям психоанализа, в анальной фазе
раннего детского возраста (2-й и 3-й год жизни) главную роль в развитии играют
потребности в автономии и агрессивные потребности; эти потребности
рассматриваются в связи с развитием сфинктеров тела. С этой фазой
ассоциируется возможность сказать «нет», но и возможность проявлять
достижения. Если не удается научиться «сдерживаться» и «давать волю своим
действиям» адекватно реальности, то это предрасполагает к «ретентивным»
структурам характера (в отличие от «каптативных» в оральной фазе).
Подавление детского стремления к автономии и спровоцированное окружающим
миром излишнее «сдерживание может привести к разрушительному и
жестокому поведению обладания и навязчивому поведению (...)» (Hoffmann &
Hochapfel, 1995, S. 47).
Фаллическая фаза. Для фаллической, или эдиповой, или инфантильно-
генитальной фазы (дошкольный возраст, между 4 и 6 годом жизни)
неопсихоанализ оспаривает постулированное классическим психоанализом
значение эдипова комплекса как причины более поздних расстройств. Гофман и
Хохапфель (Hoffmann & Hochapfel, 1995) отказались от того, чтобы связывать
концепцию страха кастрации и зависти к пенису исключительно с ориентацией
на мужской пенис, и перенесли центр тяжести своих размышлений на угрозу
телесной целостности, более часто констатируемую в это время как у девочек, так
и у мальчиков. Главное в этой фазе — идентификация с родителем своего пола,
или перенятие половой роли, — процесс, который в существенной мере
подвержен влиянию культурных и семейно-специфических факторов. Он
протекает (обычно) уже не в ограниченных рамках диады мать—ребенок, но в
рамках триады, где речь идет не только о безопасности, но также о
соперничестве и чувстве вины. Если эта задача развития не реализуется, то это,
согласно психоаналитическим представлениям, предрасполагает к тревожным
расстройствам.
3.3. Некоторые гипотезы о до-эдиповском развитии «Я» и об этиологии
симбиотических расстройств и пограничных расстройств
Этиологическую идею, что будто бы причиной неврозов является
неразрешенный эдипов конфликт, а неврозы представляют собой некую
обусловленную типичной для фазы психосексуальной защитой регрессию или
фиксацию, позднее расширили, в частности Шпитц, Малер, Когут и Г. и Р.
Бланк, которые, больше, чем Фрейд, уделили внимание ранним фазам до-
эдиповского развития «Я» и возникновению шизофрении. Эти авторы
Koob.ru
интерпретируют «Я» как процесс структурирования, а его развитие — как
нарастание способности к дифференцированию и интеграции. Предметы
подобного структурирования — это, в частности, инстинкты, образы «Я», образы
объектов и внешний мир. Первая фаза этого процесса называется симбиотической
фазой (или фазой «нормального аутизма»), в этой фазе, согласно прежним
гипотезам, Я и объект еще образуют некое единство, а константность объекта
еще не задана. Процесс организации здесь нацелен на высвобождение из симбиоза
и индивидуацию; он протекает во взаимодействии между матерью и ребенком,
который тоже вносит в диаду свои врожденные потенциальные возможности. По
мнению вышеназванных авторов, все, что предлагается и упускается в этом
взаимодействии, последовательно репрезентируется в мышлении; развитие этой
репрезентации определяет идентичность «Я», которая более отчетливо
проявляется на третьем году жизни. Улыбка, страх перед чужими и
семантическая коммуникация — примеры индикаторов различных уровней
психической организации (Spitz, 1965). Они указывают на все более сложные и
более эффективные ступени функций «Я» с соответственно
дифференцированными возможностями общения с окружающим миром:
сначала — способность к либидозному овладению внешними объектами, затем
— способность придавать конкретным объектам (матери) особенную ценность и,
наконец, — способность символизировать окружающий мир и самого себя и
строить взаимоотношения на этом новом базисе. Достигнув определенной фазы,
индивид может решать новые задачи развития. В результате появляется все
больше возможностей для процесса высвобождения и индивидуации (Mahler,
Pine & Bergman, 1975). Специфические для фазы умеренные фрустрации (Blanck
& Blanck, 1980), вероятно, облегчают процесс развития. Слишком сильные
фрустрации нарушают дифференцирование, приводят к дефектам развития в
структурировании и предрасполагают в зависимости от фазы к
соответствующим психическим расстройствам. При пограничных состояниях,
например, предполагается, что в процессе высвобождения и индивидуации,
возможно, не была достигнута константность объекта, а значит, корни этого
расстройства лежат в самой ранней фазе развития. Какое-либо нарушение в
симбиотической фазе проявляется, согласно этим взглядам, в симбиотической
связи с объектом при некоторых психотических формах нарциссизма у взрослых.
3.4. Эмпирические исследования психоаналитических гипотез
Психоаналитическая концепция развития и этиологии психических
расстройств сначала проверялась исключительно на клиническом опыте. На
этой основе она получила широкий доступ в сферы психиатрии, психотерапии и
обыденной психологии. Между тем отдельные клинические исследования
конкретных случаев по многим причинам не могут рассматриваться как научное
подтверждение гипотез. Интроспекция пациента не может являться гарантом
валидных данных, достаточных для объяснения феномена, а лечащий
психотерапевт не может быть независимым наблюдателем психических
Koob.ru
процессов (ср. Grünbaum, 1984). Научная проверка психоаналитических гипотез
на основе методов эмпирического социального исследования началась уже в 40-е
годы. В целом можно сказать, что многие предположения не подтверждаются
эмпирическими данными и должны быть пересмотрены (Masling, 1986). Удалось
подтвердить гипотезу Фрейда об анальном характере; в нескольких работах
различными методами можно было доказать, что такие признаки, как
«бережливость», «своенравие» и «любовь к порядку» образуют конфигурации,
которые нельзя назвать случайными (Kline, 1981). Типологические же
предположения об оральном и генитальном характере нашли довольно слабое
эмпирическое подтверждение. Намеки на оральные аспекты личности, скорее,
более отчетливо обнаруживаются в подходах с точки зрения свойств, например,
в конструкте оптимизма, релевантном в различных подходах.
Довольно шаткими оказались гипотезы о возникновении
психоаналитических типов характера. Практика кормления в раннем детстве,
приучение к опрятности и тому подобное не имеют прогностической ценности
для выраженности анальных признаков характера (Kline, 1981). Как
изолированный предиктор, опыт раннего детства, по-видимому, вообще
обладает слишком малой информативностью, чтобы можно было делать выводы
о специфическом поведении взрослых людей (Schaffer, 1977); особенно это
относится к дифференциальным выводам о конкретных расстройствах. Постулат
психоанализа о том, что типичные для расстройства причины лежат в
различных психосексуальных фазах, недоказуем эмпирически ни в отношении
различных неврозов, ни применительно к психотическим расстройствам. Так,
например, Эрнст и Клосински (Ernst & Klosinski, 1989) не смогли найти у детей и
подростков с невротическими навязчивостями никаких травматических событий
в анальной фазе (ср. прим. 14.1).
Примечание 14.1. Исследование по этиологии навязчивых расстройств (Ernst
& Klosinski, 1989)
Постановка проблемы
Относительно этиологии неврозов навязчивых состояний психоанализ
постулирует фиксацию в той фазе прегенитальной организации, когда
преобладают анально-эротические и садистические инстинкты (2-й и 3-й год
жизни). Действительно ли у детей и подростков с диагнозом «невроз навязчивых
состояний» лежит в основе какое-то нарушение в анальной фазе?
Методы
- Выборка. 113 детей и подростков с неврозом навязчивых состояний,
которые с 1973 по 1984 г. лечились амбулаторно (N = 89) или стационарно (N =
24) в университетской клинике детской и подростковой психиатрии, плюс 2957
контрольных пациентов с другими диагнозами из той же клиники.
- План эксперимента. Ретроспективное изучение: дескриптивный анализ
критических признаков у группы пациентов с невротическими навязчивостями
и частичное сравнение группы детей и подростков с неврозом навязчивых
состояний с группой других пациентов.
Koob.ru
- Методы исследования. Анализ историй болезни пациентов обеих групп на
предмет формы и содержания навязчивого состояния, отношений с родителями
и сиблингами, развития личности, и особенно на предмет психических
перегрузок в возрасте 0-6 лет (были ли какие-то особые события,
предшествующие нарушению в этой фазе?).
Результаты
- Психические перегрузки в возрасте 0-6 лет. Особые события в анальной
фазе у пациентов с неврозом навязчивых состояний были отмечены только в
двух случаях. Нарушения в развитии чистоплотности отсутствовали. Часто
констатировались завышенные требования в сфере достижений и социальной
сфере, проходящие через все фазы.
- Половое распределение указывает на повышенное представительство
мальчиков (79%) по сравнению с девочками (21%) как у стационарных, так и у
амбулаторных пациентов.
- Родительские семьи. Доля семей служащих в группе пациентов с
невротическими навязчивостями вдвое больше, чем в контрольной группе. У
пациентов с навязчивостями чаще, чем у других, отмечены также формально-
интактные семейные отношения.
- Содержание навязчивости и навязчивые импульсы. Наиболее частое
опасение — страх, что может что-нибудь случиться с матерью (сильнее страха
перед отравлениями и болезнями). Сексуальное содержание — только начиная с
пубертатного возраста. Навязчивые импульсы у девочек (у мальчиков это не так)
постоянно направлены на умерщвление какого-то человека, чаще всего матери
(эдипальное инстинктивное побуждение?).
Авторы указывают на раннее развитие сверх-Я со строгими моральными и
ценностными представлениями. Гипотеза о том, что для развития неврозов
навязчивых состояний дифференцирующее значение имеют нарушения в
анальной фазе, не подтвердилась.
---
Многие эмпирические исследования, привлекавшиеся для доказательства
психоаналитических постулатов, следует критически оценить с методической
точки зрения (ср., например, неоднократно цитированные исследования Mahler,
Pines & Bergman, 1975). Некоторые главные фундаментальные гипотезы
психоаналитической теории развития, такие как концепции «нормального
аутизма», «первичного нарциссизма» или отсутствия дифференциации «Я»—
объект у грудного ребенка, вызывают сомнение на основании результатов
современного исследования развития (Stern, 1985; Lichtenberg, 1991). Опираясь на
эмпирические исследования, Мильтон Клейн (Klein, 1981) критикует также идею
«симбиотической фазы»: младенец никогда не живет в состоянии тотального
недифференцирования между собой и объектным миром. А отсюда такие
понятия, как «первичный нарциссизм», «безобъектная» или «нормальная
аутистическая фаза» становятся беспредметными.
Однако было проведено психоаналитическое исследование грудных детей,
Koob.ru
которое явилось стимулом для новых концепций, идущих вразрез с
психоанализом. Главный вопрос этой дискуссии — прения о «внутренней
репрезентативности» и ее развитии как «бессознательных взаимодействующих
организационных структур» (Zelnick & Buchholz, 1991). По данным более нового
исследования грудных детей, репрезентативные способности младенца
недооценивались ранним психоанализом. Некоторые способности к
дифференциации себя и другого лица можно обнаружить уже в самые первые
месяцы жизни, что предполагает хотя бы самую примитивную репрезентацию
(Zelnick & Buchholz, 1991). Сексуальный инстинкт оспаривается как
мотивационный фактор для овладения саморепрезентативностью и
репрезентативностью объекта; в центр рассмотрения ставится межличностный
контакт, функция которого — обеспечить выживание и развитие, а для такого
контакта изначально необходима некоторая способность восприятия (Stern,
1995). Эта дискуссия привела к появлению новых концепций, в частности
концепции схемы (Stern, 1985) или внутренней рабочей модели теории
привязанности (Bowlby, 1988).
Эмпирические данные не подтверждают изначально постулированной
всеобщности гипотез, касающихся эдипова комплекса (ср. Greve & Roos, 1996).
Внутрисемейное взаимодействие и ролевая дифференциация в существенной
мере зависят от культуры.
Результаты эмпирического исследования заставляют сомневаться, что
судьба ранней детской сексуальности будто бы является решающим и
дифференциальным фактором для последующего развития расстройств. Более
важными представляются длительные нарушения интеракции и стрессовые
переживания, связанные с разлукой: благодаря им формируются такие схемы и
внутренние репрезентации себя, близких и окружающего мира, которые
повышают уязвимость к расстройствам или напрямую вызывают их (Stern, 1995).
Гипотеза о том, что тяжелый опыт детства, возможно, все-таки делает индивида
уязвимым к возникновению расстройств вообще, разрабатывалась в концепциях
уязвимости. Психоанализ стимулировал развитие серьезных гипотез по этой
тематике, а в настоящее время все больше привлекаются и другие данные —
например, из теории привязанности или теории научения (ср., например,
Hoffmann & Hochapfel, 1995; Mertens, 1996).
Хотя конкретные выводы о возникновении расстройств и развитии
определенных способов поведения, сделанные психоанализом, мало
подтвердились, тем не менее основной его постулат — о том, что опыт раннего
детства может иметь протективное воздействие или способствовать развитию
уязвимости, — вполне подтверждается современными знаниями. С одной
стороны, в нескольких долговременных исследованиях был доказан ряд
несомненных биографических факторов риска для возникновения психических
и психосоматических расстройств (ср. Egle, Hoffmann & Steffens, 1997). Но с
другой стороны, эти работы также показали, что в настоящее время в вопросе о
комплексном взаимодействии между протективными и вызывающими
уязвимость факторами или между биологическими (в том числе генетическими),
Koob.ru
психическими и социальными факторами нам еще слишком многое неясно,
чтобы мы могли делать неспецифические прогностические замечания по поводу
расстройств.
4. Расстройства как следствие депривации: теоретическая модель
привязанности
4.1. Формирование привязанности как задача развития
Опираясь на психоанализ и используя знания этиологии и биологии,
Шпитц (Spitz, 1965) и Боулби (Bowlby, 1969, 1973, 1980) заново пересмотрели
значение раннего детства для возникновения психических расстройств. С точки
зрения Боулби (Bowlby, 1969), привязанность — это центральный конструкт,
который представляет собой поведенческую систему с собственной внутренней
организацией и функцией. По своему значению этот конструкт можно сравнить
с такими поведенческими системами, как пищевое поведение и сексуальное
поведение. Уже грудные дети обладают возможностями вести себя так, чтобы
обеспечить близость матери. Плач или улыбка, например, имеют социальную
функцию — стимулировать близость матери и ее заботу. Все проявления
детского поведения, которые призваны организовать близость матери и ее
заботу, Боулби называет поведением привязанности; то же самое можно наблюдать
у всех млекопитающих, причем функции его чрезвычайно важны для
выживания. У людей поведение привязанности особенно часто и регулярно
обнаруживается вплоть до конца третьего года жизни. В этот период на
временное, недолгое отсутствие матери ребенок реагирует протестом, и так
происходит до тех пор, пока у него не разовьется перманентность объекта,
которая позволяет внутренне представить себе отсутствующий объект
привязанности. Главным фактором, протективным в отношении страхов,
считается формирующееся ожидание того, что в опасных ситуациях объект
привязанности будет всегда рядом. Если ребенок приобрел этот фундамент
безопасности, то он осмеливается в присутствии своего объекта привязанности
исследовать окружающий его мир. Бишоф (Bischof, 1975), Сроуф и Уотерс (Sroufe &
Waters, 1977) посредством системного анализа заново определили привязанность
и эксплорацию как находящиеся в тесном взаимодействии поведенческие
системы. Эксплорация регулируется в зависимости от соответственно
переживаемой безопасности; последняя управляет поведением привязанности
ребенка. Вера или неверие в то, что объект привязанности имеется в
распоряжении, формируется в зависимости от реального опыта, с раннего
детства и до подросткового возраста и, по мнению Боулби, на всю жизнь
сохраняется в своем своеобразии. Наиболее важная фаза — это период от 6-го
месяца до пятого года жизни. В этом возрасте, считает Боулби, важнейшая задача
развития ребенка — формирование привязанности и первая эксплорация
окружающего мира.
Инстинктивно регулируемое поведение привязанности все больше
Koob.ru
опосредуется когнитивно, как приобретенные ожидания. Индивид приобретает
когнитивные модели репрезентации, «внутренние рабочие модели»
окружающего его мира и самого себя: он уверен, что располагает своим
социальным окружением, и способен создать и сохранить близость.
Впоследствии эти когнитивные модели репрезентации регулируют процесс
адаптации в ситуациях угрозы или потери.
Частые проявления поведения привязанности по отношению к родителям
отчетливо ослабляются лишь с началом подросткового возраста. В ходе
нормального развития в раннем детстве было сформировано прочное
аффективное отношение к родителям, которое позднее воссоздается в
отношении взрослого к взрослому. Боулби рассматривает нормальное развитие
как последовательное развитие способностей, необходимых для формирования
разных типов поведения, которые как бы надстраиваются один на другой:
поведение привязанности предшествует поисковому поведению, а это последнее
— репродуктивному поведению. Последовательность трех функций поведения
соответствует трем типам задач развития, и адекватное преодоление более
поздних задач зависит от преодоления предшествующих: нарушения в фазе
формирования отношений затрудняют адекватное исследование окружающего
мира, а то и другое, в свою очередь, является предпосылкой для нахождения
партнера и успешного репродуктивного поведения.
В эмпирическом исследовании привязанности можно выделить три этапа.
На первом этапе с опорой на теоретические посылки Боулби были выявлены
разные типы привязанности у годовалых детей. В тесте «незнакомая ситуация» у
годовалых детей Айнсворт, Блер, Уотерс и Уолл (Ainsworth, Blehar, Waters &
Wall, 1978) наблюдали три паттерна реакции на временное расставание с
матерью, которые описываются ими как «уверенный в своей безопасности»,
«избегающий» и «оппозиционный» паттерны поведения. Далее категории
привязанности были еще больше дифференцированы: «уверенные дети» (sichere
Kinder) (В), «неуверенно-избегающие» (unsicher-meidende) (А), «неуверенно-
амбивалентные» (unsicher-ambivalente) (С) и «дезориентированно-
дезорганизованные» (desorientiert-desorganisierte) (D) дети (ср. Main & Solomon,
1990; Grossmann et al., 1997). Эти признаки привязанности оказались
относительно стабильными.
В середине 90-х гг. исследователи всерьез занялись поведением
привязанности у взрослых. Был разработан Adult Attachment Interview (опросник
привязанности для взрослых) (AAI) (George, Kaplan & Main, 1996), который выделяет
четыре типа привязанности у взрослых (ср. прим. 14.2). При этом данные о
признаках привязанности берутся из интервью; например, когерентное и
кооперативное поведение в интервью указывает на уверенный тип
привязанности. Гроссманн, Фреммер-Бомбик, Рудольф и Гроссманн (Grossmann,
Fremmer-Bombik, Rudolph & Grossmann, 1988) адаптировали этот метод и эту
классификацию для немецкоязычных стран. Была также предложена
пересмотренная для взрослых модель стиля привязанности, где вводились два
параметра: «уверенный—тревожный» и «зависимый—независимый», и
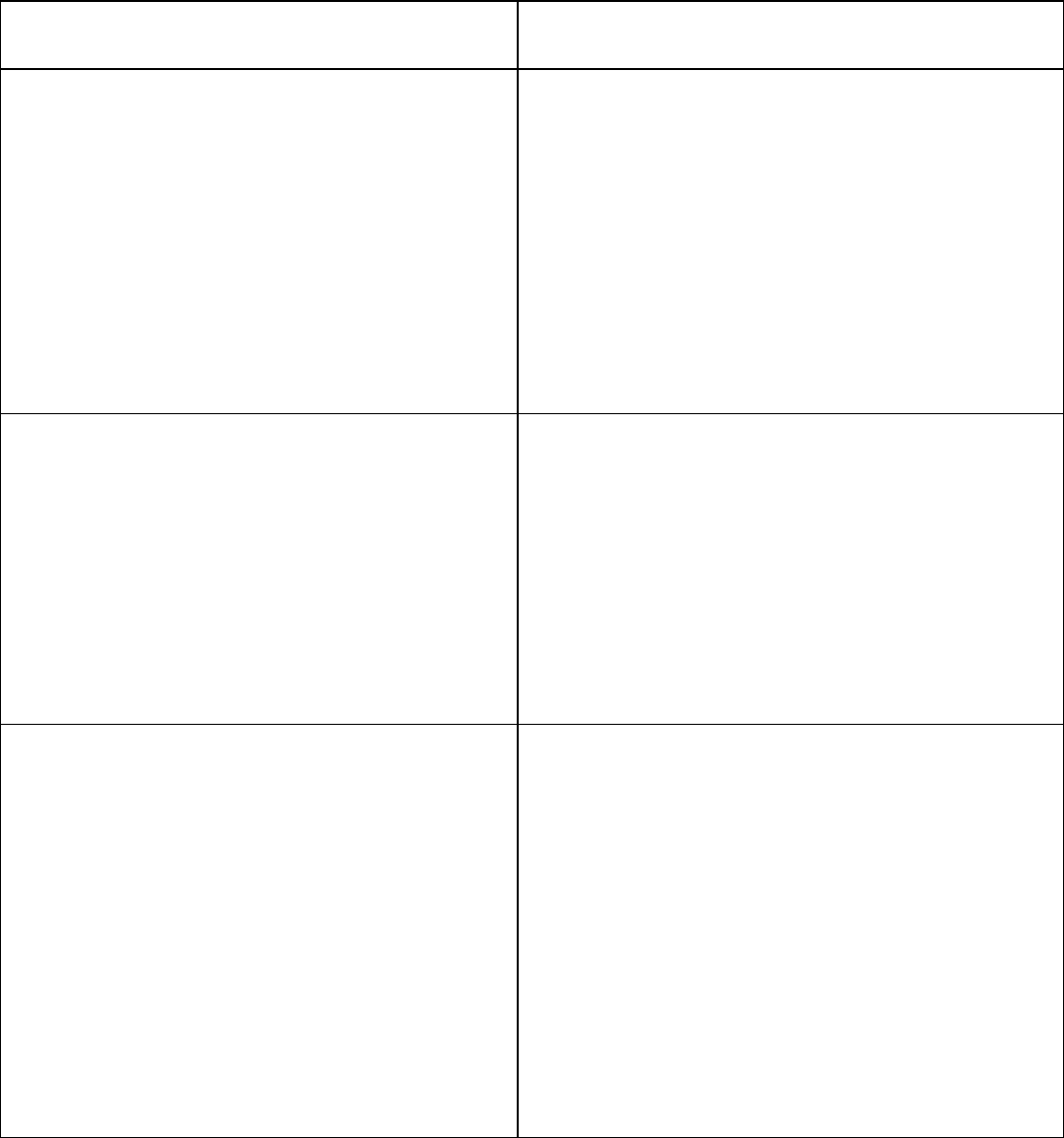
Koob.ru
разрабатывались соответствующие шкалы собственной оценки (Asendorpf, Banse,
Wilpers & Neyer, 1998). С другой стороны, усиленное внимание уделялось
развитию так называемых «внутренних рабочих моделей», когнитивной
репрезентации отношений, которая организует поведение, связанное с
отношениями (ср. Larose & Boivin, 1997).
Примечание 14.2. Краткое описание категорий опросника привязанности
для взрослых, приведенных к категориям «незнакомой ситуации» (Main, 1996)
Интервью о поведении
привязанности у взрослых
Ответ ребенка на «незнакомую
ситуацию»
Уверенно-автономный (F). Когерентная
и кооперативная коммуникация при
сообщении и оценке опыта,
относящегося к привязанности, вне
зависимости от того, описывается ли
этот опыт как приятный или как
неприятный. Собеседник или
собеседница, судя по всему,
рассматривают свои привязанности и
опыт отношений объективно.
Уверенный (В). Подает знаки, что он
заметил отсутствие родителей, при
первом расставании и кричит во время
второго расставания. Приветствует
родителей активно: например, сразу
ползет к ним, хочет, чтобы его взяли на
руки. После короткого контакта с
родителями спокойно возвращается к
игре.
Дистанцированный (D). Позитивные
описания родителей («отличная,
очень даже нормальная мать») не
подтверждаются конкретными
воспоминаниями или вообще
опровергаются ими. Негативный
опыт, должно быть, не имел эффекта.
Сообщения кратки, воспоминания
часто отсутствуют.
Неуверенно-избегающий (А). При
расставании не кричит и обращает
внимание на игрушки или окружение.
Когда вновь видит родителей, активно
избегает их или игнорирует, удаляется,
отворачивается или упирается, если его
берут на руки. Без эмоций; нет
выражения гнева.
Растерянный (Е). Сообщая об опыте
отношений, кажется разозленным,
сконфуженным и пассивным или
робким и подавленным. Некоторые
предложения грамматически
неразборчивы или наполнены
неясными выражениями. Сообщения
длинные, некоторые ответы ничего не
значат.
Неуверенно-амбивалентный (С). В фазе
расставания в тесте «незнакомая
ситуация» занят исключительно
отсутствующим родителем, отчетливо
показывает свою печаль, но при этом
ведет себя амбивалентно: с одной
стороны, ищет родителя, с другой —
при его возвращении ведет себя
пассивно или строптиво. Ребенку не
удается приластиться или помириться,
он концентрируется на родителе и
плачет.
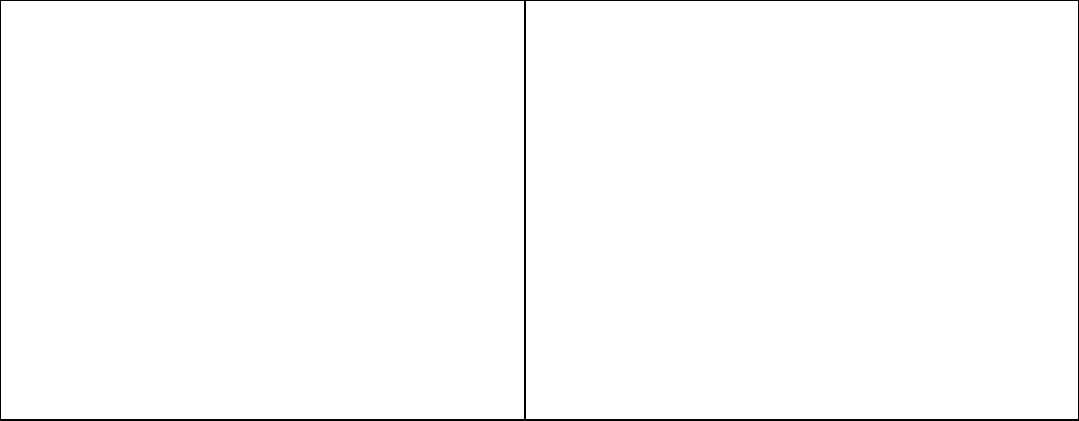
Koob.ru
Дезорганизованный (U-d). В ходе беседы
о произошедших утратах или случаях
насилия бросается в глаза недостаток
контроля за мыслью или речью;
например, говорят об умершем так,
как если бы этот человек был еще жив
в физическом смысле; вдруг
замолкают или начинают говорить
каким-то «панегирическим» языком. С
другой стороны, это поведение
хорошо подходит к категориям D, F
или Е.
Дезориентированно-дезорганизованный (D).
Беспорядочное или неориентированное
поведение обнаруживается в
присутствии родителей; например,
ребенок может застыть как будто в
трансе, вскинуть руки, встать и потом
как сраженный упасть при входе
родителей, или судорожно вцепиться,
нагнувшись. С другой стороны, это
поведение хорошо подходит к А, В или
С.
---
4.2. Гипотезы о факторах, тормозящих привязанность, и следствия
депривации
Предназначение гомеостатической системы поведения привязанности —
это формирование и сохранение привязанности. Организм способен сохранять
гомеостаз только в определенных условиях социального окружения, имеющих
свои границы, а при длительном и/или слишком сильном нарушении этих
границ развитие организма оказывается под угрозой. Если ребенку не дают
испытать тепло, близость и непрерывные отношения с матерью или каким-то
другим объектом привязанности, то этот гомеостаз нарушается. Боулби называет
это состояние депривацией. Согласно теории привязанности, патогенный эффект
депривации существенно зависит от ее размера, истории и складывающихся
вслед за ней условий.
У детей в возрасте шести месяцев и старше можно наблюдать типичную
реакцию на расставание с матерью: сначала протестное поведение, а потом реакция
горя. Если эти реакции не приводят к желаемому результату, то у ребенка
ослабевает стремление к тому, чтобы периодически снова становиться активным.
Это сужение эмоционального резонанса соответствует депрессивному
поведению. Протестное поведение и реакцию горя удалось доказать также у
животных, в частности при более коротком и более длинном физическом
отлучении детенышей обезьян от их матерей (Reite & Capitanio, 1985). Протест и
горе вводят в игру обе адаптационные системы, которые описали Энгель и
Шмейл (Engel & Schmale, 1972), — активацию («fight-flight-reaction») и
дезактивацию («conservation-withdrawal-reaction»), причем авторы предполагают
здесь наличие нейробиологической основы. Активация предназначена для того,
чтобы прекратить угрозу потери. Если это не удается, биологически адаптивной
оказывается дезактивация, требующая меньших энергетических затрат. В сфере
патологии этим двум реактивным системам соответствуют страх и депрессия.
Боулби подчеркивает, что в ответ на социальные условия в раннем детстве,
Koob.ru
тормозящие или нарушающие привязанность, возникают индивидуально
различные реакции, что зависит и от врожденных различий, и от социальных
обстоятельств, которые ребенок переживает до и после критического опыта.
Судя по всему, имеются и половые различия: мальчики реагируют
агрессивностью, девочки — «цеплянием» и тревожностью.
В рамках своей теории развития Боулби делает заключения о
дифференциальных эффектах в отношении возникновения специфических
расстройств, основываясь при этом на особенностях опыта, связанного с
привязанностью и расставанием.
- Возникновение фобий и тревожных расстройств. Переживание угрожающей
потери предрасполагает к тревоге. Если в раннем детстве ребенок переживает
неуверенность в том, что объект привязанности находится у него в
распоряжении, то, по Боулби (Bowlby, 1973), формируется тревожное и
неуверенное поведение привязанности, которое при наличии определенных
индивидуальных предпосылок может вылиться также в сверхсильное
утверждение автономии. Угроза разлуки или нарушение интеракции с объектом
привязанности в раннем детстве особенно хорошо объясняют склонность к
диффузной тревожности, к школьной фобии и агорафобии, которым
благоприятствуют и определенные схемы внутрисемейных интеракций.
- Возникновение депрессии. Если при страхе, вызванном угрозой потери,
организм мощно активируется с целью восстановить уверенность в
безопасности, то при депрессии происходит нечто противоположное, а именно
частичная или обширная дезактивация поведения привязанности из-за
переживания фактической разлуки и потери. Подготавливает эту дезактивацию
богатый опыт депривации, и особенно длительное переживание разлуки при
неблагоприятных обстоятельствах.
Согласно теории привязанности, наибольшая уязвимость при
переживаниях, связанных с разлукой, наблюдается в первые годы жизни. Но хотя
она медленно убывает к подростковому возрасту, тем не менее и в среднем
возрасте случаются подобные испытания, вызывающие тот же процесс.
Патогенное развитие можно предотвратить, если обеспечить после разлуки
благоприятную социальную поддержку.
Что касается когнитивных репрезентативных структур, которые являются
своего рода теоретическим связующим звеном между заботой со стороны
объекта привязанности и поведением привязанности у ребенка, то Розенштейн и
Горовиц (Rosenstein & Horowitz, 1996) предположили наличие внутренних
рабочих моделей, формирующихся при определенном типе заботы со стороны
матери или отца. Так, если связанные с ребенком люди отказывают ему в
общении постоянно, то можно ожидать формирования неуверенной внутренней
рабочей модели. Ребенок учится вторичным компенсаторным стратегиям
привязанности, чтобы поддерживать близость и самоорганизацию. Мейн (Main,
1990) называет это стратегией минимизации поведения привязанности в целях
самозащиты. Такие дети часто переживают чувство гнева и страх, что они будут
отвергнуты, но открыто этого не проявляют. Дети, не уверенные в отзывчивости
