Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству?
Подождите немного. Документ загружается.


из фокусов которого находится Солнце, новые воззрения объяснили, почему все
это происходит так, а не иначе. И законы, которые повелевают этими движениями
— великие законы Ньютона, оказались необычайно простыми и понятными.
Учение классического рационализма предлагало лишь вполне детерминированные
схемы происходящего во Вселенной. Его творцы убеждали своих последователей в
предсказуемости событий, их определенной предначертанности. По их мнению,
полагалось без обсуждения, как само собой разумеющееся, признавать, что законы
естествознания — это четко детерминированные положения, согласно которым
запущенный однажды механизм делает затем все остальное (все то, что происходит
или должно произойти) вполне однозначным и предсказуемым.
Я думаю, что в основе этого варианта рационализма, лежал механицизм, выросший
из небесной механики, с помощью которой ученым оказалось под силу не просто
описывать движение планет, но и с удивительной точностью предсказывать их
положение в той или иной точке космического пространства на много лет вперед
(образно говоря — на бесконечное количество лет). Своеобразная "магия неба" в
сочетании с простотой его ньютоновского описания, может быть, и была
источником классического рационализма. Вспомним, что большинство ученых
эпохи Просвещения пытались все известные тогда естественные науки свести к
механике.
83
В конце концов, уже в XIX веке Мир представлялся ученым как некоторый
необычайной сложности, но все-таки механизм, который был кем-то и когда-то
"запущен" и который вечно действует по вполне определенным, раз и навсегда
начертанным и вполне познаваемым законам.
Ну, а где же Человек? Какова его функция во Вселенной? Человека, впрочем как и
Бога, в этой схеме просто нет! Человеку отводится лишь скромная роль
наблюдателя, существа, надо сказать, достаточно странного и противоречивого.
Хотя ему и не дано вмешиваться в извечный ход событий, останавливать Солнце,
например, но — он не просто наблюдатель. Он способен познавать Истину и
ставить ее на службу самому себе, предсказывая ход событий. Именно в рамках
рационализма возникло представление об Абсолютной Истине, основанное на вере
в то, что Человек может познать, что представляет собой "на самом деле" то или
иное явление Природы.
2. Непреодолимые законы Природы
Убежденность в существовании Абсолютной Истины позволила Френсису Бэкону
сформулировать свой знаменитый тезис о покорении Природы — "Знание —
Сила". Считалось, что знания, абсолютные знания нужны Человеку для того, чтобы
ставить себе на службу силы Природы. Изменять законы, действующие в Природе,
Человек не может, но заставить силы Природы приносить пользу людям он в
состоянии. Природа представлялась ученым неким неисчерпаемым резервуаром,
предназначенным для
84
того, чтобы служить Человеку и его прихотям, удовлетворять его безгранично
растущие потребности.*
Но в XVIII веке одновременно с ощущением, казалось бы, неограниченных
возможностей науки у некоторых ученых появлялось представление и о запретах.
Оказалось, что в этом Мире, где наука рождает новые знания, существуют и
различные ограничения, непреодолимые принципиально! Выяснилось, что
существуют законы Природы, которые являются законами для всего сущего. Люди

постепенно стали понимать, что в Природе не существует и никогда не родится
джинн, подобный тому, которого однажды выпустил из бутылки мальчишка из
Басры.
Среди законов, открытых в XVIII и XIX веках, были и такие, которые носят
абсолютный характер. Первый из них — это закон сохранения энергии. Она
может переходить из одной формы в другую, но она не может возникать из ничего
и не может исчезать. О законе сохранения энергии догадывались уже в
XVIII веке, но окончательно он был понят лишь в
XIX веке Джоулем и Майером. Только после открытий, сделанных этими
учеными, было строго доказано, что вечного двигателя быть не может.
Другим эпохальным открытием рационалистического естествознания был закон о
возрастании (точ-
* Я полагаю важным заметить, что такое утилитарное мнение о науке возникло в христианском
мире. Результаты наблюдений и изучения природных явлений использовались, конечно, и
китайцами, и вавилонянами, и всеми другими народами, но только в христианской традиции
сложилось представление о науке как о созидательской силе, как о мощном оружии в руках
Человека.
85
нее — не убывания) энтропии* в замкнутой системе взаимодействующих объектов.
Сначала было установлено следствие этого закона, получившее название Второго
закона (или начала) термодинамики. В первоначальной формулировке он звучал
как невозможность превратить в механическую энергию тепло, содержащееся в
каком-либо теле, в условиях, когда это тело нагрето меньше, чем окружающая
среда. Другими словами, тепловая энергия, заключенная в нагретом теле,
совершенно бесполезна, ее нельзя использовать, превратив в механическую работу
если нет например, устройства, подобного холодильнику. Этот факт был впервые
установлен Лазарем Карно и лежит в основе всех типов тепловых машин.
Таким образом, огромные запасы энергии, которые находятся вокруг нас, нельзя
обратить на пользу Человеку. Если бы мы могли понизить температуру мирового
океана на малую долю градуса, то этой энергии хватило бы человечеству на много
лет. Но сделать этого мы не можем, так же, как и построить вечный двигатель. Кто
знает, может быть нечто аналогичное можно сказать и в отношении использования
термоядерной энергии, потенциально существующей в окружающем мире?
3. Редукционизм в прошлом и настоящем
В рамках классического рационализма сложился один из важнейших подходов к
исследованию сложных явлений и сложных систем. Он получил назва-
* Энтропией называется некоторая числовая характеристика системы, которая иногда может
интерпретироваться как мера хаоса.
86
ние редукционизма. Поскольку классический рационализм имел в своей основе
представление о полном детерминизме, то казалось вполне естественным пред-
положить, что свойства системы выводимы из свойств элементов и структуры
взаимодействия между ними. Такое представление и убежденность в том, что это
не гипотеза, а аксиома, лежало в основе редукционизма.
Широкое использование этого принципа дало замечательные результаты. В рамках
такого подхода было решено множество важнейших проблем естествознания. Я
думаю, что первыми успешными попытками реализации принципа редукционизма
мы обязаны небесной механике. Система взаимодействий здесь особенно проста —
это силы гравитации и законы Ньютона.
Одним из триумфальных успехов, достигнутых с помощью этого метода, было

открытие планеты Нептун. Оно, действительно было сделано "на кончике пера".
Дело в том, что наблюдаемые движения некоторых планет, самой отдаленной из
которых в то время считалась планета Уран, несколько отличалось от расчетного.
Для того чтобы наблюдаемые свойства нашей планетной системы можно было
признать следствием свойств ее составляющих и их взаимодействий, оказалось
достаточным предположить существование, по меньшей мере, еще одной трансу-
рановой планеты. Причем теория позволяла указать даже возможное положение
этой планеты относительно орбит других планет. Когда астрономы провели
необходимые расчеты, а затем навели телескопы в очередную
1
точку космического
пространства, то там, где и предполагалось, они обнаружили еще одну,
87
неизвестную ранее планету. Она и получила название Нептун.
Замечу, что те же самые методы небесной механики, которые позволили
знаменитому французскому астроному Лаверье открыть эту планету в середине
прошлого века, и теперь лежат в основе расчетов траекторий космических тел, в
том числе космических аппаратов.
Когда употребляют слово редукционизм, то имеют в виду также и попытки
заменить исследование реального сложного явления сильно упрощенной его
моделью, его наглядной интерпретацией. Построение такой модели всегда является
искусством. Каких-либо рецептов для такого рода "изобретений" наука предложить
не может. Схема появления в умах исследователей конкретных способов познания
реальности с помощью такого "моделирования" напоминает освещение предмета
наблюдения с какой-то одной стороны. Выбрав нужный ракурс освещения,
исследователь может даже по форме тени воспроизвести (понять) многие
особенности соответствующего явления или процесса.
Я думаю, что величие Дарвина как раз в том и состоит, что ему удалось найти
такой ракурс рассмотрения истории живого мира, с помощью которого
человечество увидело основные особенности эволюционного процесса — его
содержание и скрытый в этом процессе смысл.
То, что я сказал о Дарвине, относится и к Эйнштейну. Основные факты, на которые
опирается специальная теория относительности, были уже известны ученым к тому
моменту, когда вышла в свет его знаменитая диссертация. Но именно Эйнштейн
написал свой трактат так, что люди поняли, как сцепле-
88
ны между собой пространство, время и скорость движения материальных тел.
Идеи редукционизма, сводящие изучение сложных систем к анализу отдельных ее
составляющих и упрощающих представления об их взаимодействиях,
ознаменовали собой важнейший этап в истории не только науки, но и цивилизации.
Именно им, в первую очередь, обязано современное естествознание своими
основными успехами.
Представление о редукционизме и его месте в исследовательской деятельности в
настоящее время заметно изменилось. Но этот метод по-прежнему остается одним
из мощнейших средств научного анализа. Сведение сложного к простому, даже
элементарные интерпретации тех или иных фактов или представлений (физики
называют это демонстрациями на пальцах) были, есть и всегда будут средствами
познания. Но редукционизм отнюдь не является универсальным средством
изучения сложных систем — это один из методов научного подхода к осмыслению
объективной реальности.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА

1. Принцип дуализма и русский космизм
Однако, несмотря на очевидные успехи рационализма и связанное с ним бурное
развитие естественных наук, такой образ мышления и способ миропони-
89
мания отнюдь не превратился в некую универсальную веру и общепринятую
позицию для научного анализа. Основные позиции рационализма как фундамента
мировоззрения не могли быть приняты многими людьми и, прежде всего теми, кто
обладал склонностью к религиозному мышлению. Особенно лицами,
принадлежащими или близкими к клерикальным кругам, для которых была
неприемлемой сама постановка Лапласом вопроса о Боге, как о некой гипотезе*.
Религии, во всяком случае, католическая церковь XVIII—XIX веков не могли
также принять Бога лишь в качестве Творца Начального Импульса и Наблюдателя,
пусть даже Абсолютного, но лишенного права и возможности вмешиваться в
извечный ход событий.
В научных сферах рационалистическое видение мира тоже не вызвало
однозначного отношения, ибо логическая цельность и непротиворечивость
рационализма были совсем не очевидны. Я думаю, что Иммануил Кант был
первым, кто обратил внимание на определенное логическое несоответствие между
рациональностью всего того мира, который изучается наукой (наблюдателем) и
иррациональностью Человека. В самом деле, Человек, в силу рационалистической
парадигмы, должен был бы быть всего лишь составляющей частью механизма
мироздания и строго подчиняться его законам, подобно тому, как планеты следуют
закону всемирного тяготения. Одна-
* В литературе бытует легенда о том, что знаменитый французский математик и астроном Пьер
Лаплас на вопрос Наполеона, почему в его книге "Изложение системы мира" Бог ни разу не
упоминается, якобы ответил: "Гражданин Первый консул, в этой гипотезе я не нуждался".
90
ко, он обладает свободой воли и ведет себя "как Бог на душу положит". Под
влиянием таких фактов Кант сформулировал представление о дуализме, которое
допускало признание наличия у человека не только материального, но и духовного
начала, существующих вполне самостоятельно.
В XIX веке критика классического рационализма довольно громко прозвучала и в
России. В связи с этим имеет смысл напомнить некоторые страницы истории
научной мысли моего отечества.
До начала XVIII века общий уровень образования в России, а тем более научной
мысли, были несопоставимы с тем, что происходило в этих областях в Западной
Европе. Но благодаря энергичным действиям царя Петра Первого и его
престолонаследников, приглашавших на работу в Россию иностранных ученых,
ситуация стала быстро изменяться. В XVIII веке русскую науку представляли
преимущественно немцы или швейцарцы, которым Российское правительство
предоставляло значительно лучшие возможности для работы, чем они могли
получить у себя на родине. Многие из них восприняли Россию как новое отечество
и в своей массе с честью выполняли свои обязательства перед принявшей их в свое
лоно страной. Более того, они оказались весьма хорошими учителями первых
русских "национальных кадров". Начальный слой русских по рождению ученых
состоял преимущественно из добросовестных учеников немецких учителей.
Самостоятельно мыслящих ученых подобных Ломоносову в России на первых
порах было очень немного. Но уже в тридцатые годы XIX века появились
многочисленные русские ученики русских учите-

91
лей. Тогда-то и стала формироваться настоящая русская национальная научная
школа. Был открыт и получил известность ряд университетов — не только в
Петербурге и Москве, но также в Казани, Киеве, Варшаве, Юрьеве (Тарту). И, что
может быть самое главное, в деятельности ученых, в выборе ими тематики
исследований проявился ряд особенностей, свойственных русской культурной
традиции. Ученики перестали быть похожими на то поколение своих учителей,
которые дали им начальное воспитание. Русская наука пошла своими
непроторенными дорогами. Стали возникать национальные научные и об-
разовательные традиции, разумеется, тесно связанные с тем, что происходило в
Западной Европе.
К одной из таких русских традиций я отношу, если пользоваться современным
языком, системность мышления, т.е. стремление к построению широких
обобщающих конструкций. Научная деятельность Лобачевского и Менделеева
являются тому прекрасными примерами. И первая принципиальная критика
классического рационализма также прозвучала из России, причем из "Кружка
любомудрия", члены которого отнюдь не были естествоиспытателями. Основателю
этого кружка Владимиру Одоевскому принадлежит замечательная фраза: "Хотя
рационализм подвел нас к вратам Истины, но не ему будет суждено их открыть".
Несколько позднее прозвучал известный тезис основателя русской школы
физиологии и психиатрии Ивана Сеченова: "Человека можно познать только в
единстве его плоти, души и природы, которая его окружает". Постепенно в
сознании русского научно-
92
го сообщества начало утверждаться представление о единстве окружающего мира
и Человека, о его включенности в Природу. Это нерасторжимое единство не могло
не стать важнейшим мировоззренческим фактором и предметом глубоких научных
обобщений.
Согласно таким представлениям Человека нельзя было мыслить только
наблюдателем. Он — действующий субъект системы, включающей не только ок-
ружающую среду, но и все мироздание. Такое мировосприятие русской
философской и научной мысли получило название "русского космизма". Это ин-
теллектуальное течение в русской культуре, возникшее в середине XIX века,
включает три направления, которые были представлены такими крупными
фигурами как Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский,
А.Л.Чижевский (естественнонаучное), В.ССоловьев, ПА.Флоренский,
С.Н.Булгаков, Н.А.Бер-дяев (религиозно-философское), Ф.И.Тютчев, Н.К.Ре-рих
(поэтическо-художественное). Это течение продолжали развивать наши
современники В.Ф.Купревич и А.К.Манеев. Каждый из них внес уникальный вклад
в это весьма своеобразное, не имеющее аналогов в мировой культуре проявление
человеческого духа. Суть его можно кратко охарактеризовать, как попытку
зафиксировать и объяснить "влияние Высших космических сил через человеческий
разум на развитие планеты Земля, на организацию биосферы, околоземного
пространства и Вселенной в целом"*, оказавшую влияние на развитие всего
российского естествознания.
93
* Гурьев В.Е. Русский космизм, М. 1992. С.50.
2. Совсем непросто устроен Мир!
Дуализм Мира, необъединимость духа и материи, исключение духовной жизни из

формирующейся картины мира, были, вероятно, одними из наиболее уязвимых
мест в концепции классического рационализма. Еще одно представление, глубоко
укоренившееся в сознание ученых, тормозило развитие науки. Это —
убежденность в простоте окружающего Мира. Считалось, что он прост по своей
сути. Реальность проста, а любая слоэюность — от лукавого, — утверждали
некоторые мыслители.
В основе простоты реальности, которую изучало естествознание, лежали такие
очевидности, как представление об универсальности времени, то есть уверенность
в том, что оно всюду и всегда течет одинаково, а также убежденность в том, что
параллельные линии не пересекаются, что масса любого тела постоянна, что
скорости складываются по правилам сложения параллелограмма, а сама скорость
может быть любой и т. д. Ученые были убеждены, что эти представления суть
аксиомы, раз и навсегда определенные, что в реальности все происходит так, как
они это себе представляют, и никак иначе происходить не может. Такая
убежденность имела под собой определенные основания, ибо именно эта простота,
если угодно, реализм позволяли строить рациональные схемы, получать
практически важные следствия, объяснять происходящее, строить машины,
облегчать жизнь людей. Не всегда эти представления могли быть объяснены, но
они всегда оставались простыми и понятными, т.е. — само собой ра-
зумеющимися.От обсуждения этих истин легче все-
94
го было отказаться, следуя св. Августину, который говорил, что пока его не
спрашивают, что такое время, он это знает; когда же его об этом спрашивают, то
он ничего сказать не может.
Может быть самое трудное, что пришлось претерпеть естествознанию в конце
XIX и начале XX веков — это преодолеть представление о такой простоте,
отказаться от того, что само собой понятное — есть аксиома. Даже самым
глубоким мыслителям было не легко смириться с тем* что Мир устроен
бесконечно сложнее, чем то, как они привыкли думать, опираясь на реальность
окружающего, и признать, что классические представления лишь частный
случай того, что имеет место быть на самом деле.
Пожалуй, первый настоящий шаг, нарушающий естественную простоту
окружающего мира, сделал профессор Казанского университета Николай
Иванович Лобачевский, доказавший, что постулат Евклида о том, что две
прямые, перпендикулярные третьей, не пересекаются является самостоятельной
аксиомой. Открытие русского ученого о существовании, помимо евклидовой
геометрии, других, столь же непротиворечивых и логично построенных
геометрий, в которых прямые линии могут бесконечно расходиться или
пересекаться, было поистине научной революцией. И не столько в математике,
сколько в мышлении и миропонимании.
В конце XIX века рухнуло еще одно основополагающее представление
классического рационализма — закон сложения скоростей. Майкельсон и
Морли провели точнейшие измерения, которые показали, что скорость света не
зависит от того, направлен ли
95
световой сигнал по направлению вращения Земли или в противоположную
сторону*.
В начале XX века разрушился еще ряд опор классического рационализма.
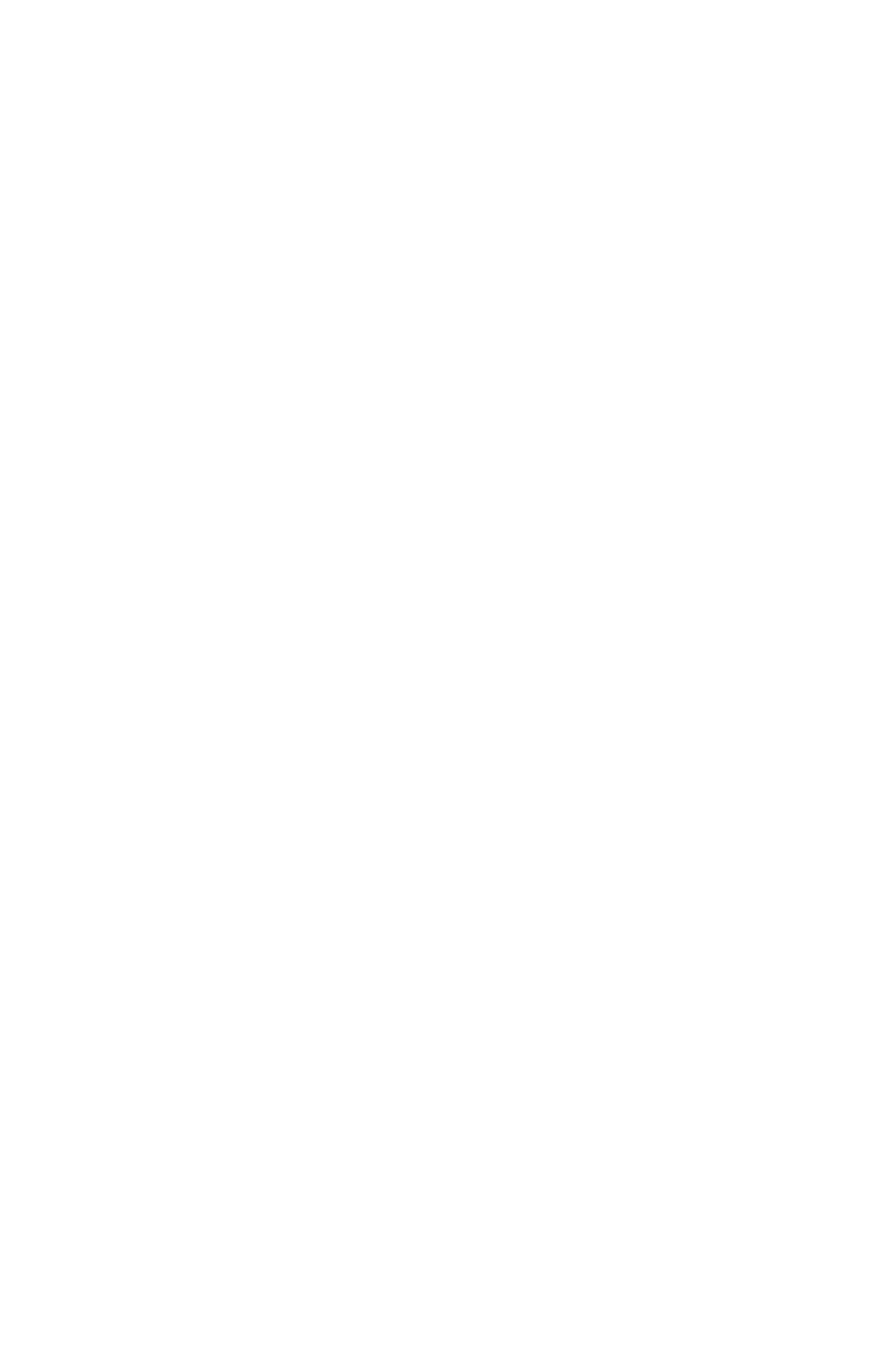
Особое значение имело изменение представления об одновременности. Когда
оказалось, что никакой сигнал не может распространяться мгновенно, т.е. с
бесконечной скоростью, то стал вопрос о том, что значит "одновременность" и
как ее проверить.
Таким образом, первоначальная система взглядов на устройство мира
усложнялась, и постепенно исчезало представление о "простоте" структуры
мира и его геометрии. Но происходило не только усложнение картины Мира.
Многое из того, что раньше представлялось очевидным и обыденным, оказалось
на самом деле просто неверным. Оказалось невозможным, например, провести
четкие различия между материей и энергией, между материей и пространством
и связать их свойства с характером движения. Оказалось, что все эти отдельные
представления — суть части единого неразрывного целого, а общепринятые их
определения крайне условны.
В результате, вырисовывавшаяся ранее перед учеными прекрасная картина
Мира своей простотой и логичностью напоминавшая творения античных зод-
* Интересно, что авторы этого знаменитого эксперимента, так и не поняли, что они
прикоснулись к одной из самых сокровенных тайн Природы. Морли до самой смерти в начале
20-х годов нынешнего столетия, уже после знаменитых работ Эйнштейна, считал свои
измерения ошибочными, противоречащими здравому смыслу, и все время думал о том, как бы
следовало построить эксперимент таким образом, чтобы определить истинную величину
суммы скорости света и скорости источника света.
96
чих, начала не просто искажаться, а утрачивать свою логичность и, главное —
наглядность. Очевидное переставало быть не только понятным, а иногда
оказывалось и элементарно неверным.
В итоге науке пришлось расстаться с простотой. И это — уже навсегда! Наукой
было понято главное — Мир в действительности сложен, и объяснение его лежит
за пределами наглядности.
3. Место Человека во Вселенной
Но несмотря на то, что критика классического рационализма раздавалась в научной
среде уже с середины XIX века, она еще долго не имела сколь-нибудь заметных
последствий. Успехи естественных наук были столь впечатляющими, а
технические новшества, полученные на основе общепринятых в то время идей,
столь сильно изменяли всю жизнь, столь обогащали ее, что критика классического
рационализма и редукционизма как единственного научного метода
теоретического анализа воспринималась как проявление философских
мудрствований. Классический рационализм оставался основой основ научного
мировоззрения, во всяком случае, в среде ученых-естественников, т.е. физиков,
математиков, биологов. Ни создание пангеометрии, ни открытие существования
предельной скорости распространения сигнала, ни даже специальная теория
относительности не были способны изменить главного содержания классического
рационализма — превратить Человека из постороннего наблюдателя, который
изучает Мир подобно биологу, рассматривающему под микроскопом устройство
крыла насекомого, в действующего субъекта.
97
Новое понимание места Человека в Природе стало формироваться, начиная с
двадцатых годов XX века, с появлением квантовой механики — науки о микро-
мире. Квантовая механика — эта величайшая из наук, созданная человечеством —
объяснила и показала на конкретных примерах, когда опора на очевидное, а также

на гипотезу о возможности разделения субъекта и объекта, никаких знаний не
приносит. Оказалось, что в действительности все между собой каким-то образом
связано. Далеко не всегда понятно как, но связано! Человек, погруженный в эти
связи, способен, сам того не желая, влиять на происходящее. Отсюда следует, что
невозможно в принципе отделить исследователя от объекта исследования, что
постороннего наблюдателя просто не существует. Он — всего лишь абстракция,
которую можно с пользой употреблять во многих ситуациях, но и только. И далеко
не всегда.
Постоянно становилось понятным, что мы — люди являемся не просто
зрителями, но и участ-никами мирового эволюционного процесса. И когда
происходит формирование новой схемы взаимоотношения Человека и
Природы, когда накопленные знания постепенно рождают новое понимание
реальности, то это означает и новые действия, как-то меняющие окружающий
мир, а, следовательно, и характер его эволюции. Даже знания, даже та картина
Мира, которая рождается в умах мыслителей и ученых, как оказалось, влияет на
характер эволюции окружающего мира, в котором мы живем. И это, может быть —
самое главное, поскольку изменяет научные представления о месте и назначении
Человека в Универсуме, вынуждает в совершенно новом
98
свете видеть место исследователя и оценивать меру его способности познавать
окружающий мир.
Я позволю себе сделать небольшое отступление биографического характера и
рассказать о том, как менялся характер моего собственного мировосприятия. В
Ростовском университете, где я работал в 50-х годах, мне было поручено вести
методический семинар, в ходе которого я должен был разоблачать философские,
установки копенгагенской школы теоретической физики. Готовясь к семинару, я
тщательно проштудировал несколько статей Нильса Бора и его коллег,
посвященных методологическим вопросам квантовой механики, и однажды
почувствовал себя жалким и невежественным учеником, которому многое
предстоит начать учить заново. Я понял также, что Бор — один из величайших,
если не самый великий из мыслителей XX века, но и увидел ничтожество и
дилетантизм той мировоззренческой схемы, которую я был обязан — именно
обязан — воспринимать как катехизис. С этого момента началась полная
перестройка моего собственного мировоззрения. Она проходила медленно и
болезненно. Усвоенные мной истины, а это были принципы классического
рационализма, оказалось не так-то просто заменить новыми.
Я никогда не видел и не слышал Бора, но именно его я считаю одним из своих
духовных учителей, наряду с Пуанкаре и Вернадским. Вместе с чтением его работ
уходила вера в непогрешимость классического рационализма, исчезало
представление о возможности существования Абсолютного Наблюдателя, а,
следовательно, и Абсолютной Истины. Принять последнее было для меня особенно
трудном, но и
99
стало самым существенным, ибо Абсолютная Истина — была главным столпом, на
котором покоилось мое тогдашнее мировоззрение. Вопрос о том, как же все
происходит на самом деле, мне казался центральным вопросом научного знания. И
отказ от самого вопроса стал революцией в моем сознании.
История моего прозрения, я думаю, достаточна типична. Научное мышление очень
консервативно, и утверждение новых взглядов, складывание новых методов

научного познания, поиски адекватного представления об Истине и формирование
в умах ученых непротиворечивой картины Мира происходили медленно и очень
непросто.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СОВРЕМЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ
1. Вселенная — единая система взаимосвязанных элементов
Отказ от привычных и понятных постулатов классического рационализма,
допустимость беспредельного расширения самых фундаментальных и, казалось бы,
незыблемых истин знаменовали еще одну революцию в научном познании —
переход рационализма в новую форму, которую я называю современным
рационализмом.
Основное отличие современного рационализма от рационализма
классического состоит в понимании фактического отсутствия внешнего
Абсолютного
100
Наблюдателя, которому постепенно становится доступной Абсолютная
Истина, а также в признании принципиально невозможным существование
самой Абсолютной Истины.
Я полагаю, что в основе всех построений современного рационализма должно
лежать следующее утверждение: "Вселенная (Мир, Универсум — для меня эти
термины имеют единый смысл) представляет собой некую единую систему, т. е.
все ее элементы, все происходящие в ней явления так или иначе связаны
между собой, хотя бы силами гравитации". Это положение известно в науке как
постулат о системности Мира.
Представителю естественных наук такое утверждение может казаться
тривиальным, т.е. положением само собой разумеющимся. Для такой оценки
имеются определенные основания. Во-первых, это утверждение не противоречит
опыту. И во-вторых, оно не может быть опровергнуто (как, впрочем, не может быть
и доказано, т.е. выведено логическим путем из других постулатов).
Действительно, если бы Универсум не был системой, то обнаружить такой "факт"
мы просто не смогли бы. Ведь любая информация, получаемая каким-либо одним
элементом о состоянии другого элемента, может возникать при непременном
условии существования того или иного взаимодействия между ними. А если
взаимодействия нет, то и информации нет! Если нет связи между элементами
(фактами), то эти факты мы просто не можем установить. Мы можем знать лишь
то, что каким-то образом связано между собой.
Но из этого рассуждения следует, что мы имеем право считать существующим
лишь то, что наблю-
101
даемо (что мы способны измерить и оценить), или может быть сделано таковым.
Это и есть знаменитый принцип Бора, который вовсе не является тривиальным, и
многими людьми может быть категорически отвергнут по разным основаниям.*
Поэтому основополагающим постулатом современного рационализма, но моему
мнению, следует считать не кажущийся тривиальным физикалиетский постулат о
системности Мира, а общефилософский принцип Бора. При этом я руководствуюсь
принципом Оккама, согласно которому не следует умножать сущностей без
надобности.
Итак, ученые однажды поняли, что Человек — это часть системы, что он
развивается вместе с системой, оставаясь всегда ее составляющей. Отсюда следует,
что наблюдения и изучение системы Вселенная происходят изнутри ее. И
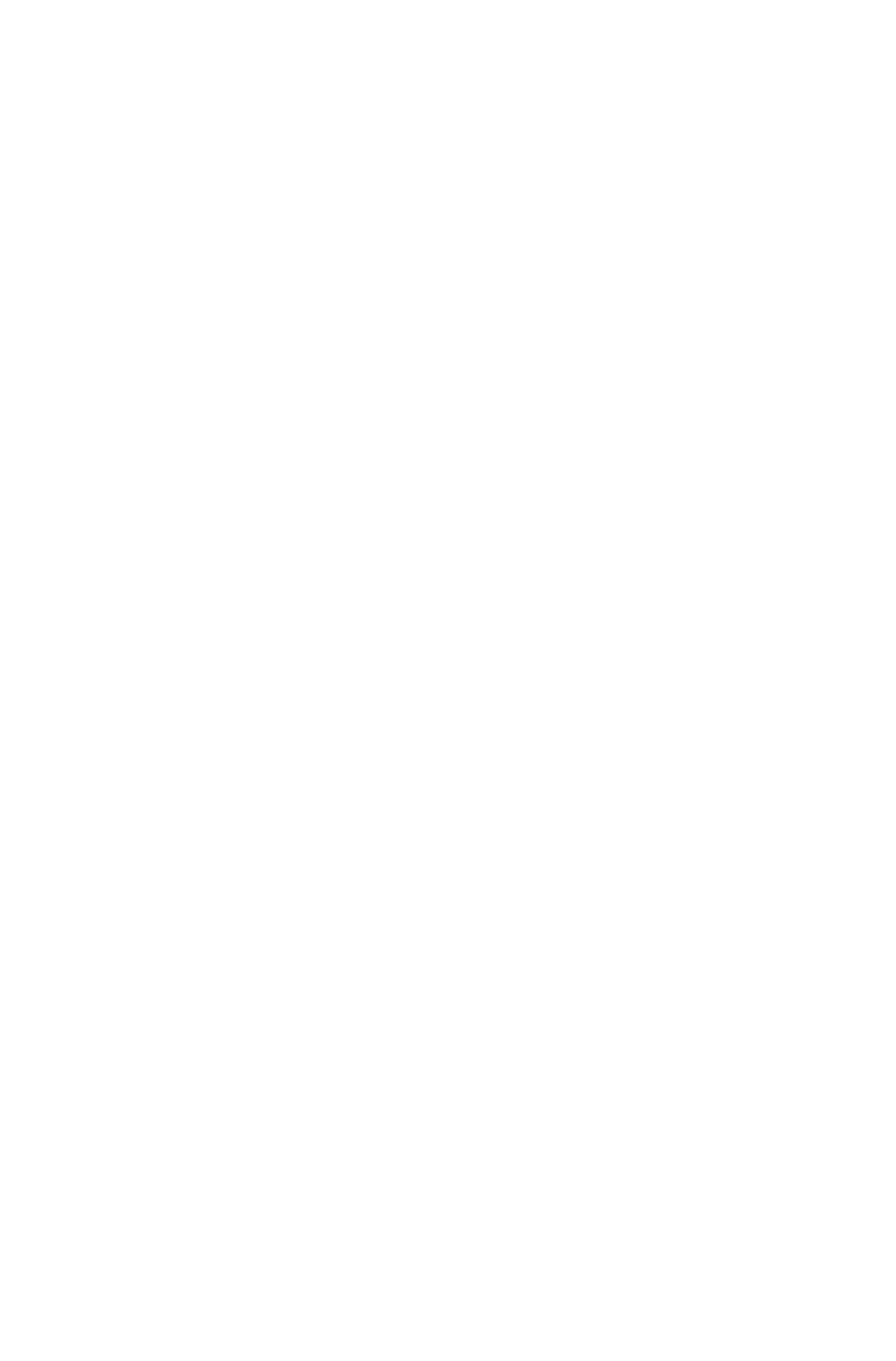
наблюдатель — как элемент системы — обладает лишь определенными,
достаточно ограниченными возможностями воздействия на нее, в том числе и
путем ее познания с помощью своей способности предвидеть то, что в ней может
происходить в зависимости от действий человека, в частности.
Согласно современным рационалистическим воззрениям, наблюдениям
оказывается доступным лишь то, что доступно нашему наблюдению при тех
* Действительно, по вопросу о том, следует ли считать ненаблюдаемое несуществующим, могут
быть иные точки зрения и иные интерпретации. Можно утверждать, например, что это "только
одному Богу известно". Но такие утверждения непроверяемы и поэтому не могут служить
источником каких-либо логических построений. В рамках теории самоорганизации подобные
утверждения не рассматриваются, так как с позиции современного рационализма они лежат вне
науки.
102
возможностях, которые сформировались в человеческом сознании в
результате развития Вселенной, т. е. при наличии таких свойств, которые
постепенно приобретает наблюдатель, неотделимый от эволюционирующей
системы. И нам неизвестно — принципиально неизвестно — где проходит
граница познания, доступного для Разума. А тем более то, что однажды станет
ему доступным.
Поэтому мы принципиально не можем ответить на вопрос о том, сколь далеко
пойдет развитие того элемента суперсистемы Вселенная, который мы называем
Homo sapiens, насколько далеко этот биологический вид продвинется в
приобретении информации о свойствах суперсистемы и в какой мере он будет
способен предсказать дальнейшее ее развитие или развитие ее составных частей.
Столь трудно очерчиваемая область познания будет, конечно, расширяться, но до
каких пределов и существует ли этот предел, мы не знаем и знать не можем.
При таком образе мышления становится бессмысленным сам вопрос: "Что есть на
самом деле?" Мы можем говорить лишь о том, что мы способны наблюдать в той
окрестности Универсума, которая нам доступна. Этот подход плохо согласуется с
традиционным представлением о Мире, апеллирующим к реальности, требует
привычки к неординарному мышлению, которое усваивается не сразу (и не
всеми!). Тем не менее, тезис о том, что каждый элемент системы, обладающий
сознанием, способен получать информацию о системе лишь в тех пределах, кото-
рые определяются его положением в системе и уровнем его эволюционного
развития, также является одним из важнейших положений современного раци-
онализма.
ЮЗ
Пытаясь найти ответ на вопрос, что же следует считать существующим на самом
деле, мы сталкиваемся с еще одной трудностью, поскольку говорим о системах, в
которых объединены элементы фактически необъединимые. В таких случаях, когда
наблюдатель, оперирующий тем или иным прибором, принадлежит к макромиру, а
объект изучения — к микромиру, результаты наблюдения и объект изучения могут
быть выражены только на разных языках. Тогда и вступает в действие другой
принцип Бора — знаменитый принцип дополнительности, который формулируется
примерно так: нельзя сколь-нибудъ сложное явление микромира описать с
помощью одного языка. Смысл этого утверждения гораздо глубже, чем это может
показаться на первый взгляд. Оно вынуждает нас совершенно по иному, чем в
классическом рационализме, ставить вопрос об Истине и возможности ее познания.
Мы не имеем никаких оснований эмпирического характера говорить об
