Микешина Л.А. (Сост.) Философия науки. Хрестоматия
Подождите немного. Документ загружается.


него, вопрошая родники, горы, леса, грозы об их смысле; не понимая, о чем именно им говорят все эти
вещи, они ощущали в растительном и космическом мире всепроникающий трепет смысла, которому они
дали имя одного из своих богов — Пан. С той поры природа изменилась, стала социальной: все, что дано
человеку, уже пропитано человеческим началом — вплоть до лесов и рек, по которым мы путешествуем.
Однако, находясь перед лицом этой социальной природы (попросту говоря — культуры), структуральный
человек, в сущности, ничем не отличается от древнего грека: он тоже вслушивается в естественный голос
культуры и все время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, «истинных» смыслов,
сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе
неустанного созидания смысла, без чего оно утратило бы свой человеческий облик. <...> (С. 259-260)
От науки к литературе
<...> природа человеческого знания непосредственно определяется социальными институтами, которые
навязывают нам свои способы членения и классификации, точно так же как язык, благодаря своим
«обязательным категориям» (а не только запретам), заставляет нас мыслить так, а не иначе. Другими
словами, определяющим для науки (под этим словом здесь и далее подразумевается совокупность
социальных и гуманитарных наук) является не особое содержание (его границы зачастую неопределенны и
подвижны), не особый метод (в разных науках он разный: что общего между исторической наукой и
экспериментальной психологией?), не особые моральные принципы (серьезность и строгость свойственны
не только науке), не особый способ коммуникации (научные знания излагаются в книгах, как и все прочее)
— но исключительно ее особый статус, то есть ее социальный признак: ведению науки подлежат все те
данные, которые общество считает достойными сообщения. Одним словом, наука — это то, что
преподается. (С. 375)
Литература обладает всеми вторичными признаками, то есть всеми неопределяющими атрибутами науки.
Содержание у нее то же, что и у науки: нет, без сомнения, ни одной научной материи, которой не касалась
когда-то мировая литература; мир литературного произведения всеобъемлющ и
834
охватывает все виды знания (социологическое, психологическое, историческое) — так что литература
являет нам то великое единство мироздания, насладиться которым дано было древним грекам и в котором
отказано нам из-за раздробленности нашего знания на отдельные науки. Кроме того, литература, подобно
науке, методична: в ней есть программы изысканий, меняющиеся в зависимости от школы и эпохи (так же,
впрочем, как и в науке), правила исследования, порой даже претензии на экспериментальность. У
литературы, как и у науки, есть своя особая мораль — представив себе свою сущность, она выводит отсюда
правила для своей деятельности и, следовательно, подчиняет свои начинания известному духу абсолюта.
И еще одна черта объединяет науку и литературу, но она же и разделяет их вернее всяких иных различий: и
та и другая суть виды дискурса (что хорошо выражено в античной идее логоса), но, формируясь в языке, они
каждая по-своему его принимают или, если угодно, исповедуют. Для науки язык лишь орудие, и его
желательно сделать как можно более прозрачным и нейтральным, поставить в зависимость от субстанции
научного изложения (операций, предположений, выводов), которая считается по отношению к нему
внеположной и первичной. Мы имеем, с одной стороны, и прежде всего, содержание научного сообщения,
в котором и есть вся суть, а с другой стороны, и только потом, выражающую его словесную форму, которая
сама по себе ничто. Отнюдь не случайность, что начиная с XVI в. одновременный подъем эмпиризма,
рационализма, а в религии — принципа непосредственной очевидности (в связи с Реформацией), то есть
научности в самом широком смысле слова, сопровождался упадком самостоятельности языка, отнесенного к
низшему разряду в качестве орудия или же «изящного стиля», тогда как в средние века человеческая
культура уделяла тайнам речи и тайнам природы почти равное место в рамках септениума. (С. 375-376)
<...> Сегодня, таким образом, одна лишь литература берет на себя полную ответственность за язык; наука,
разумеется, нуждается в языке, но, в отличие от литературы, она не живет внутри него. Наука преподается,
то есть высказывается и излагается, литература же не столько сообщается, сколько совершается (преподают
только ее историю). Наука говорится, литература пишется; одна управляется голосом, другая следует
движениям руки; за ними стоит не одно и то же тело и не одно и то же желание. (С. 377)
Структурализм-наука, можно сказать, «встречается с самим собой» на всех уровнях литературного
произведения. Прежде всего, на уровне содержания, точнее, формы содержания, ибо он стремится описать
«язык» рассказываемых историй, их составные части и единицы, логику сочленения тех и других, одним
словом, общую мифологию, к которой принадлежит любое литературное произведение. Далее, на уровне
дискурсивных форм: в силу своего метода структурализм обращает особое внимание на рубрики, разряды,
распределение единиц; главная его цель — таксономия, то есть дистрибутивная модель, которая неизбежно
обнаруживается во всем, что создано человеком (будь то книга или социальный институт), ибо без
классификации нет и культуры. <...> (С. 378)
Далее, лишь в письме — это можно считать его предварительным определением — язык осуществляется во
всей своей целостности. Пользоваться на-
835
учным дискурсом как орудием мысли — значит предполагать, что существует некий нейтральный уровень
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
431 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
431
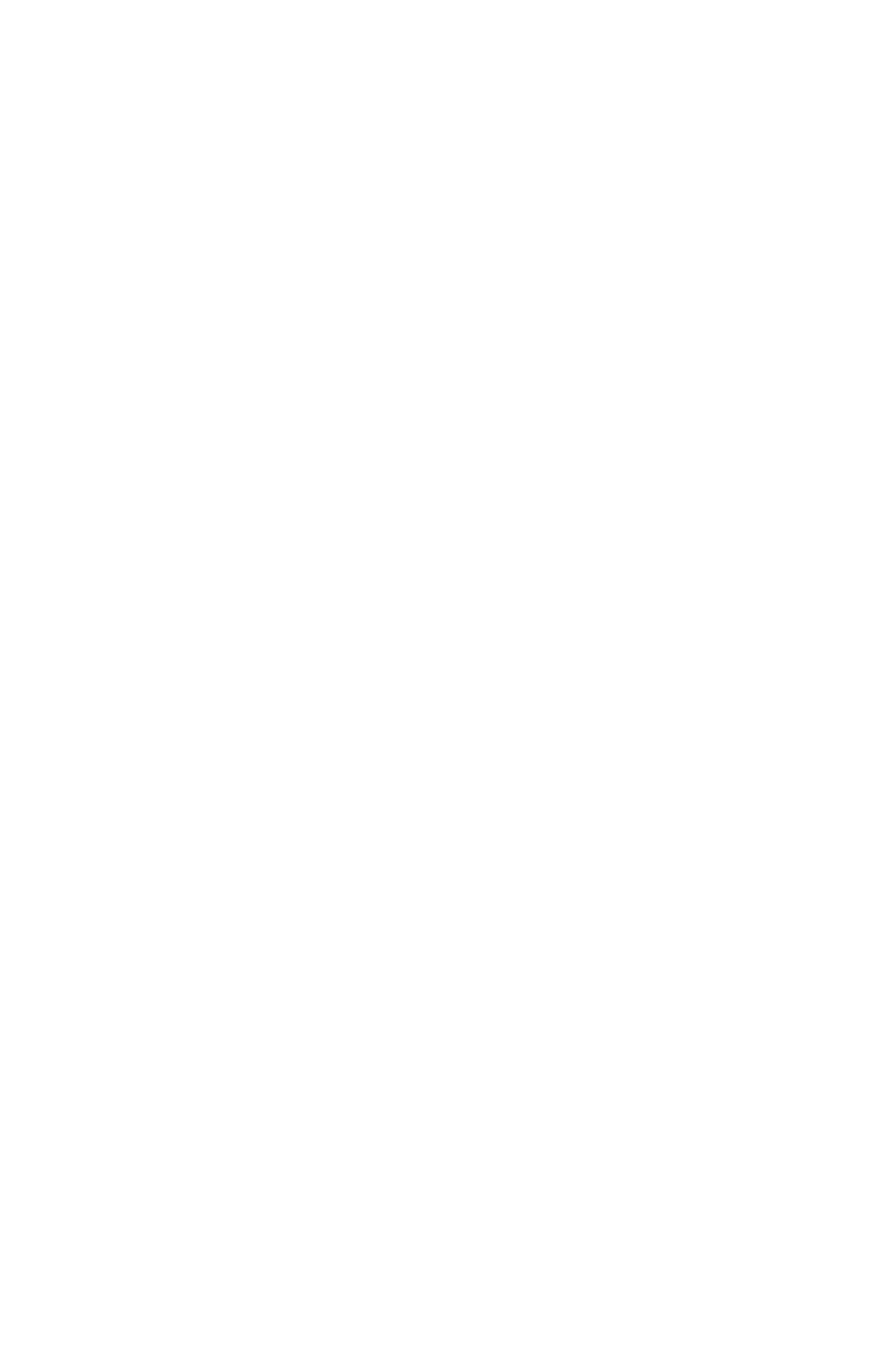
языка, а те или иные специальные языки, например литературный или поэтический, суть производные от
него, выступающие как отклонения от нормы или как украшения речи; такой нейтральный уровень служил
бы основным кодом для всех «эксцентрических» языков, а они были бы просто его частными субкодами.
Отождествляя себя с этим основным кодом, на котором якобы зиждется всякая норма, научный дискурс
присваивает себе высший авторитет, оспаривать который как раз и призвано письмо; действительно, в
понятии письма содержится представление о языке как об обширной системе кодов, ни один из которых не
является привилегированным или, если угодно, центральным; составные части этой системы находятся
между собой в отношении «плавающей иерархии». Научный дискурс считает себя высшим кодом — письмо
же стремится быть всеобъемлющим кодом, включающим в себя даже саморазрушительные силы. <...> (С.
381)
Изменить самосознание, структуру и цели научного дискурса — такова, возможно, задача современности,
при том что на первый взгляд гуманитарные науки сейчас прочно стоят на ногах, процветают и все более
теснят литературу, упрекать которую в недостатке реализма и человечности стало общим местом. На самом
деле именно литература и должна активно представлять перед глазами науки как социального института
отвергаемую этим институтом суверенность языка. При этом непосредственным возмутителем спокойствия
вполне мог бы выступить структурализм: только он, остро осознавая языковую природу произведений
культуры, способен ныне к пересмотру языкового статуса науки. Избрав своим предметом язык — все
возможные языки, — он вскоре осознал себя как метаязык всей нашей культуры; пора, однако, пойти
дальше, ибо разграничение языка-объекта и соответствующего ему метаязыка в конечном счете все еще
зависит от отеческого авторитета науки, существующей якобы вообще вне языка. Перед структуралистским
дискурсом встает задача сделаться полностью единосущным своему объекту; решить эту задачу можно
лишь на двух одинаково радикальных путях — либо посредством исчерпывающей формализации, либо
посредством тотального письма. При этом втором решении (именно оно здесь и отстаивается) наука станет
литературой в той же мере, в какой литература уже есть и всегда была наукой (кстати говоря, ее
традиционные жанры — стихотворение, рассказ, критическая статья, очерк — все более разрушаются). <...>
(С. 382-383)
Смерть автора
<...> Письмо — та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей
субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь
телесная тождественность пишущего.
Очевидно, так было всегда: если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого
воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической
деятельности как таковой, — то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-
то начинается письмо. <...> (С. 384)
836
<...> Автор и поныне царит в учебниках истории литературы, в биографиях писателей, в журнальных
интервью и в сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою личность и творчество в форме
интимного дневника. В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно
царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день все
творчество Бодлера — в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога — в его душевной
болезни, все творчество Чайковского — в его пороке; объяснение произведения всякий раз ищут в
создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность
вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица — автора. (С. 385)
<...> говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность (эту
обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста),
позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики
Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, — а это значит, как мы увидим,
восстановить в правах читателя. <...> Наконец, уже за рамками литературы как таковой (впрочем ныне
подобные разграничения уже изживают себя) ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры Автора
дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое — пустой процесс и превосходно
совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки
зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает субъекта, но не «личность», и
этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы
«вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности. (С. 385-387)
Удаление Автора <...> — это не просто исторический факт или эффект письма: им до основания
преображается весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст создается и читается таким
образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Иной стала, прежде всего временная перспектива. Для
тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой
располагаются на общей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу,
то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению,
как отец сыну. Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
432 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
432

нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы
предикатом; остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и
сейчас. Как следствие (или причина) этого смысл глагола писать должен отныне состоять не в том, чтобы
нечто фиксировать, запечатлевать, изображать, «рисовать» (как выражались Классики), а в том, что
лингвисты вслед за философами Оксфордской школы именуют перформативом — есть такая редкая
глагольная форма, употребляемая исключительно в первом лице настоящего времени, в которой акт
высказывания не заключает в себе иного содержания (иного высказывания), кроме самого этого акта <...>
Следовательно,
837
современный скриптор, покончив с Автором, не может более полагать, согласно патетическим воззрениям
своих предшественников, что рука его не поспевает за мыслью или страстью и что коли так, то он, принимая
сей удел, должен сам подчеркивать это отставание и без конца «отделывать» форму своего произведения;
наоборот, его рука, утратив всякую связь с голосом, совершает чисто начертательный (а не выразительный)
жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной точки, — во всяком случае, оно исходит
только из языка как такового, а он неустанно ставит под сомнение всякое представление об исходной точке.
Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как
бы телеологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и
спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из
цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель <...> может лишь вечно подражать тому,
что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма,
сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему
все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать», есть не что
иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до
бесконечности. <...> Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства
или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее
остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже
забытому, и так до бесконечности.
Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку»
текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным
значением, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает тогда своей
важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или же различные его ипостаси, такие как
общество, история, душа, свобода): если Автор найден, значит, текст «объяснен», критик одержал победу.
Неудивительно-поэтому, что царствование Автора исторически было и царствованием Критика, а также и
то, что ныне одновременно с Автором оказалась поколебленной и критика (хотя бы даже и новая).
Действительно, в многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего;
структуру можно прослеживать, «протягивать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех ее
повторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство письма дано нам для пробега,
а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит
систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить
письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть
окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности,
так как не останавливать течение смысла — значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его
ипостаси — рациональный порядок, науку, закон. (С. 387-390)
838
<...> Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества различных видов письма,
происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора,
однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как
утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой
цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в
предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это не человек без истории, без
биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют
письменный текст. <...> (С. 390)
Критика и истина
Таким образом, нам придется по-новому взглянуть на сам объект литературной науки. Автор, произведение
— это всего лишь отправная точка анализа, горизонтом которого является язык: отдельной науки о Данте, о
Шекспире или о Расине быть не может; может быть лишь общая наука о дискурсе. В ней вырисовываются
две большие области в соответствии с характером знаков, которые станет изучать эта наука; первая
включает в себя знаки, подначальные фразе, такие, например, как риторические фигуры, явления
коннотации, «семантические аномалии» и т.п., короче, все специфические единицы литературного языка в
целом; вторая же займется знаками, превышающими по размерам предложение; такими частями дискурса,
которые позволяют объяснить структуру повествовательного произведения, поэтического сообщения,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
433 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
433

дискурсивного текста и т.п. Очевидно, что крупные и мелкие единицы дискурса связаны между собой
отношением интеграции, подобным тому, какое существует между фонемами и словами, между словами и
предложениями; при этом, однако, все они образуют самостоятельные уровни описания. Подобный подход
позволит подвергнуть литературный текст точному анализу, хотя и ясно, что за пределами такого анализа
останется громадный материал. По большей части материал этот будет соответствовать всему тому, что мы
полагаем ныне наиболее существенным в произведении (индивидуальная гениальность автора, мастерство,
человеческое начало), если, конечно, мы не обретем новый интерес и новую любовь к истине, заключенной
в мифах.
Объективность, доступная этой новой науке о литературе, будет направлена уже не на произведение в его
непосредственной данности (в этом своем качестве произведение находится в ведении истории литературы
и филологии), а на его интеллигибельность. Подобно тому как фонология, отнюдь не отвергая
экспериментальных фонетических данных, выработала новую объективность — объективность
фонетического смысла (а не только физического звука), существует и объективность символа, отличная от
объективности, необходимой для установления буквальных значений текста. Сам по себе объект содержит
лишь те ограничения, которые связаны с его субстанцией, но в нем нет правил, регулирующих значения:
«грамматика» произведения — это вовсе не грамматика того естественного языка, на котором оно написано,
и объективность нашей новой науки будет связана именно с этой второй грамматикой, а не с первой. Науку
о литературе бу-
839
дет интересовать не сам по себе факт существования произведения, а то, что люди его понимали и все еще
продолжают понимать: источником ее «объективности» станет интеллигибельность.
Итак, придется распроститься с мыслью, будто наука о литературе сможет научить нас находить тот
единственный верный смысл, который следует придавать произведению: она не станет ни наделять, ни
даже обнаруживать в нем никакого смысла, она будет описывать логику порождения любых смыслов
таким способом, который приемлем для символической логики человека, подобно тому как фразы
французского языка приемлемы для «лингвистического чутья» французов. Разумеется, нам придется
проделать долгий путь, прежде чем мы сумеем разработать лингвистику дискурса, то есть подлинную науку
о литературе, соответствующую вербальной природе ее объекта. Ведь если лингвистика и способна оказать
нам помощь, то сама по себе она все же не в состоянии разрешить тех проблем, которые ставят перед ней
такие новые объекты, как части дискурса или вторичные смыслы. Лингвистике, в частности, понадобится
помощь истории, которая подскажет, в каких (подчас необъятных) временных границах существуют те или
иные вторичные коды (например, риторический), равно как и помощь антропологии, которая путем ряда
последовательных операций сопоставления и интеграции позволит описать всеобщую логику означающих.
(С. 359-361)
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН. (1922-1993)
Ю.М. Лотман — ученый-филолог, специалист в области истории и теории литературы, философской теории
коммуникации, семиотики, культурологии и эстетики, основатель Тартуской структурно-семиотической
школы. Участвовал в Великой Отечественной войне. По этой причине закончил филологический факультет
Ленинградского государственного университета только в 1950 году (год поступления — 1939). Начиная с
1950 года жил в г. Тарту (Эстония), работал в местном университете на кафедре русской литературы
(заведующий кафедрой — с 1960 по 1977 год). Его многолетняя исследовательская работа велась в
направлении создания новой методологии гуманитарных наук, базирующейся на структурно-семиотическом
подходе к анализу текстов культуры.
Определение семиотики как науки о знаках и текстах вывело Лотмана на новый уровень понимания
семиотического предмета, который трактовался не как просто отдельный знак, а как текст, порождаемый
культурой и существующий в ней. Знаки естественного языка, по Лотману, это «первичная моделирующая
система», тогда как тексты — соответственно, «вторичная моделирующая система». Методологические идеи
Лотмана существенно повлияли на развитие гуманитарного знания, поскольку в его историко-
семиотических исследованиях отчетливо проявился междисциплинарный подход к феноменам культуры,
учитывающий опыт конкретных наук: истории, лингвистики, литературоведения, математики,
информатики, биологии, а также результаты исследований в области синергетики и космологических
метанаучных систем. Посредством новой структурно-семиотической методологии Лотману удалось
систематизировать принципы различных областей знания в оригинальной философско-культурологической
концепции.
Основные работы Ю.М.Лотмана: «Структура художественного текста» (1970), «Семиотика кино и
проблемы киноэстетики» (1973), «Сотворение Карамзина» (1987), «Культура и взрыв» (1992) и др.
Е.В. Фидченко
Представленные ниже отрывки из текстов приводятся по книгам:
1. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.,
1996.
2. Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры // Избранные статьи.
Т. 1. Таллинн, 1992. С. 386-412.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
434 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
434

841
Риторика — механизм смыслорождения
Сознание человека гетерогенно. Минимальное мыслящее устройство должно включать в себя хотя бы две
разноустроенных системы, которые обменивались бы выработанной внутри них информацией.
Исследования по специфике функционирования больших полушарий человеческого мозга вскрывают его
глубокую аналогию с устройством культуры как коллективного интеллекта. В обоих случаях мы
обнаруживаем наличие, как минимум, двух принципиально отличных способов отражения мира и
выработки новой информации с последующими сложными механизмами обмена текстами между этими
системами. В обоих случаях мы наблюдаем, в общих чертах, аналогичную структуру: в рамках одного
сознания наличествуют как бы два сознания. Одно оперирует дискретной системой кодирования и образует
тексты, складывающиеся как линейные цепочки соединенных сегментов. В этом случае основным
носителем значения является сегмент (= знак), а цепочка сегментов (= текст) вторична, значение ее
производно от значения знаков. Во втором случае текст первичен. Он является носителем основного
значения. По своей природе он не дискретен, а континуален. Смысл его не организуется ни линейной, ни
временной последовательностью, а «размазан» в n-мерном семантическом пространстве данного текста
(полотна картины, сцены, экрана, ритуального действа, общественного поведения или сна). В текстах этого
типа именно текст является носителем значения. Выделение составляющих его знаков бывает
затруднительно и порой носит искусственный характер.
Таким образом, в рамках как индивидуального, так и коллективного сознания скрыты два типа генераторов
текстов: один основан на механизме дискретности, другой континуален. Несмотря на то, что каждый из этих
механизмов имманентен своему устройству, между ними существует постоянный обмен текстами и
сообщениями. Обмен этот совершается в форме семантического перевода. Однако любой точный перевод
подразумевает, что между единицами каких-либо двух систем установлены взаимно-однозначные
отношения, в результате чего возможно отображение одной системы на другую. Это позволяет текст одного
языка адекватно выразить средствами другого. Однако в случае, когда сополагаются дискретные и
недискретные тексты, это в принципе невозможно. Дискретной и точно обозначенной семантической
единице одного текста в другом соответствует некоторое смысловое пятно с размытыми границами и
постепенными переходами в область другого смысла. Если же там и имеется sui generis сегментация, то она
не сопоставима с типом дискретных границ первого текста. В этих условиях возникает ситуация
непереводимости, однако именно здесь попытки перевода осуществляются с особенным упорством и дают
наиболее ценные результаты. В этом случае возникает не точный перевод, а приблизительная и
обусловленная определенным общим для обеих систем культурно-психологическим и семиотическим
контекстом эквивалентность. Подобный незакономерный и неточный, однако в определенном отношении
эквивалентный перевод составляет один из существенных элементов всякого творческого мышления.
Именно эти «незакономерные» сближения дают толчки для возникновения новых смысловых связей и
принципиально новых текстов.
842
Пара взаимно несопоставимых значимых элементов, между которыми устанавливается в рамках какого-
либо контекста отношение адекватности, образует семантический троп. В этом отношении тропы являются
не внешним украшением, некоторого рода апплике, накладываемым на мысль извне — они составляют суть
творческого мышления, и сфера их даже шире, чем искусство. Она принадлежит творчеству вообще. Так,
например, все попытки создания наглядных аналогов абстрактных идей, отображения с помощью отточий
непрерывных процессов в дискретных формулах, построениях пространственных физических моделей
элементарных частиц и пр. являются риторическими фигурами (тропами). И точно так же, как в поэзии, в
науке закономерное сближение часто выступает в качестве толчка для формулирования новой
закономерности.
Теория тропов за века своего существования накопила обширную литературу по определению основных их
видов: метафоры, метонимии и синекдохи. Литература эта продолжает расти. Однако очевидно, что, при
любом логизировании тропа, один из его элементов имеет словесную, а другой — зрительную природу, как
бы замаскирован этот второй элемент ни был. Даже в логических моделях метафор, создаваемых в целях
учебных демонстраций, недискретный образ (зрительный или акустический) составляет имплицированное
последующее звено между двумя дискретными словесными компонентами. Однако чем глубже ситуация
непереводимости между двумя языками, тем острее потребность в общем для них метаязыке, который
перекидывал бы между ними мост, способствуя установлению эквивалентностей. Именно языковая
неоднородность тропов вызвала гипертрофию метаструктурных построений в «риторике фигур». Уклон в
догматизм на уровне метаописания компенсировал неизбежную неопределенность на уровне текста фигур.
Компенсация здесь получает особый смысл, поскольку риторические тексты отличаются от общеязыковых
существенной особенностью: образование языковых текстов производится носителем языка стихийно,
эксплицитные правила актуальны здесь лишь для исследователя, строящего логические модели
бессознательных процессов. В риторике процесс порождения текстов имеет «ученый», сознательный
характер. Правила здесь активно включены в самый текст не только на метауровне, но и на уровне
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
435 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
435

непосредственной текстовой структуры. (1, с. 48)
Это создает специфику тропа, который одновременно включает в себя и элемент иррациональности
(эквивалентность заведомо неэквивалентных и даже не располагаемых в одном ряду текстовых элементов),
и имеет характер гиперрационализма, связанный с включением сознательной конструкции непосредственно
в текст риторической фигуры. Это обстоятельство особенно заметно в тех случаях, когда метафора строится
не на основе столкновения слов, а как элемент, например, киноязыка. (1, с. 48-49) Текст в процессе
движения: автор — аудитория, замысел — текст Взаимоотношения текста и аудитории характеризуются
взаимной активностью: текст стремится уподобить аудиторию себе, навязать ей свою систему кодов,
аудитория отвечает ему тем же. Текст как бы включает в себя образ «своей» идеальной аудитории,
аудитория — «своего» текста. <...> (1, с. 87)
843
Общее с собеседником возможно лишь при наличии некоторой общей с ним памяти. Однако в этом
отношении существуют принципиальные различия между текстом, обращенным «ко всем», т.е. к любому
адресату, и тем, который имеет в виду некоторое конкретное и личноизвестное говорящему лицо. В первом
случае объем памяти адресата конструируется как обязательный для любого, говорящего на данном языке и
принадлежащего к данной культуре. Он лишен индивидуального, абстрактен и включает в себя лишь
некоторый несократимый минимум. Естественно, что чем беднее память, тем подробнее, распространеннее
должно быть сообщение, тем недопустимее эллипсисы и умолчания, риторика намеков и усложненных
прагматико-референциальных отношений. Такой текст конструирует абстрактного собеседника, носителя
лишь общей памяти, лишенного личного и индивидуального опыта. Он обращен ко всем и каждому.
Иначе строится текст, обращенный к лично знакомому адресату, к лицу, обозначаемому для нас не
местоимением, а собственным именем. Объем его памяти и характер ее заполнения нам знаком и интимно
близок. В этом случае нет никакой надобности загромождать текст ненужными подробностями, достаточно
отсылок к памяти адресата. Намек — средство актуализации памяти. Большое развитие получат
эллиптические конструкции, локальная семантика, тяготеющая к формированию «домашней», «интимной»
лексики. Текст будет цениться не только мерой понятности для данного адресата, но и степенью
непонятности для других. Таким образом, ориентация на тот или иной тип памяти адресата заставляет
прибегать то к «языку для других», то к «языку для себя» — одному из двух скрытых в естественном языке
противоположных структурных потенций. Владея некоторым набором языковых и культурных кодов, мы
можем на основании анализа данного текста выяснить, на какой тип аудитории он ориентирован. Последнее
будет определяться характером памяти, необходимой для его понимания. Реконструируя тип «общей
памяти» для текста и его получателей, мы обнаружим скрытый в тексте «образ аудитории». Из этого
следует, что текст содержит в себе свернутую систему всех звеньев коммуникативной цепи, и, подобно
тому, как мы извлекаем из него позиции автора, мы можем реконструировать на его основании и идеального
читателя этого текста. Этот образ активно воздействует на реальную аудиторию, перестраивая ее по своему
подобию. Личность получателя текста, представляя семиотическое единство, неизбежно вариативна и
способна «настраиваться по тексту». Со своей стороны, и образ аудитории, поскольку он не эксплицирован,
а лишь содержится в тексте как некоторая мерцающая позиция, поддается варьированию. В результате
между текстом и аудиторией происходит сложная игра позициями. (1, с. 87-88)
Мы уже останавливались на дихотомии установок на максимально точную передачу сообщения или на
создание нового сообщения в процессе передачи. Каждая из этих установок формирует свое представление
о степени адекватности адресата.
Идеалом адекватности может служить такая модель — цепь биохимических импульсов, регулирующих
физиологические процессы внутри одного организма. В этом случае получателем выступает конечное звено
цепи трансформирующихся импульсов. При этом в хорошо устроенной цепи
844
это будет пассивное считывающее устройство, ценное своей «прозрачностью» — тем, что не вносит
информацию «от себя». (1, с. 94)
Из сказанного можно сделать вывод, что в такой мере, в какой некоторый коллектив можно рассматривать
как один организм, можно говорить о меньшей роли активности получателя сообщений. Он будет
исполнителем или хранителем информации в значительно большей степени, чем ее творцом. Отсюда
следует парадоксальное заключение: мифологические ритуалы и другие действа, сливающие архаические
коллективы в определенные моменты как бы в единый организм и обеспечивающие членам этих
коллективов единство эмоций и обостренное чувство причастности (переживание себя как части)
функционально подобны метаязыковым и мета-культурным структурам индивидуалистического общества.
<...> (1, с. 95)
Механизмы диалога
Мы говорили, что элементарный акт мышления есть перевод. Теперь мы можем сказать, что элементарный
механизм перевода есть диалог. Диалог подразумевает асимметрию, асимметрия же выражается, во-первых,
в различии семиотической структуры (языка) участников диалога и, во-вторых, в попеременной
направленности сообщений. Из последнего следует, что участники диалога попеременно переходят с
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
436 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
436

позиции «передачи» на позицию «приема», и что, следовательно, передача ведется дискретными порциями с
перерывами между ними.
Однако если без семиотического различия диалог бессмысленен, то при исключительном и абстрактном
различии он невозможен. Асимметрия подразумевает уровень инвариантности.
Но для возможности диалога необходимо еще одно условие: взаимная заинтересованность участников
ситуации в сообщении и способность преодолеть неизбежные семиотические барьеры. <...> (1, с. 193)
Надо иметь, однако, в виду, что дискретность в процессе перехода от передачи к приему практически
возникает на уровне описания, когда диалогическая ситуация фиксируется внешним наблюдателем.
Дискретность — способность выдавать информацию порциями — является законом всех диалогических
систем. Однако дискретность на уровне структуры может возникать там, где в материальной его реализации
существует непрерывность разных уровней интенсивности. Так, например, если реальный процесс
осуществляется в форме циклической смены периодов максимальной активности и периодов максимального
ее снижения, то записывающий прибор, если он не фиксирует показатели ниже определенного порога,
отобразит процесс как дискретный. Так же ведет себя и аппарат самоописания культуры. Развитие культуры
циклично и, как и большинство динамических процессов в природе, подчинено синусоидным колебаниям.
Однако в самосознании культуры периоды наименьшей активности обычно фиксируются как перерывы.
Приведенные соображения имеют смысл при рассмотрении некоторых аспектов истории культуры. При
вычленении из истории мировой культуры какого-либо изолированного ряда, типа: «история английской
литературы» или «история русского романа» — мы получаем хронологически вытянутую непрерывную
линию, в которой периоды интенсивности сменяются относи-
845
тельными затишьями. Однако стоит увидеть в имманентном развитии одну партию в диалоге, чтобы стало
очевидным, что периоды т.н. «спада» часто являются временем паузы в диалоге, заполненной интенсивным
получением информации, за которой следуют периоды трансляции. Так строятся отношения между
единицами всех уровней — от жанров до национальных культур. Можно выделить следующую схему:
относительная инертность той или иной структуры выводится из состояния покоя потоком текстов, которые
поступают со стороны связанных с ней определенными отношениями структур, находящихся в состоянии
возбуждения. Следует этап пассивного насыщения. Усваивается язык, адаптируются тексты. При этом
генератор текстов, как правило, находится в ядерной структуре семиосферы, а получатель — па периферии.
Когда насыщение достигает определенного порога, приводятся в движение внутренние механизмы
текстопорождения принимающей структуры. Из пассивного состояния она переходит в состояние
возбуждения и сама начинает бурно выделять новые тексты, бомбардируя ими другие структуры, в том
числе и своего «возбудителя». Процесс этот можно описать как смену центра и периферии. При этом, что
очень существенно, происходит энергетическое возрастание: система, пришедшая в состояние активности,
выделяет энергии гораздо больше, чем ее возбудитель, и распространяет свое воздействие на значительно
более обширный регион. Из этого вытекает прогрессирующий универсализм культурных систем. (1, с. 194-
195)
О метаязыке типологических описаний культуры
Другой подход к явлениям культуры связан с признанием существования в истории человечества
нескольких (или многих) внутренне самостоятельных типов культур. В зависимости от того, на какой
позиции находится сам описывающий, т.е. в конечном итоге от того, к какой культуре он сам принадлежит,
определяется и метаязык типологического описания: в основу кладутся оппозиции психологического,
религиозного, национального, исторического или социального типа.
При всем различии в названных системах описания они имеют и существенные черты общности.
Язык описания не отделен от языка культуры того общества, к которому принадлежит сам исследователь.
Поэтому составляемая им типология характеризует не только описываемый им материал, но и культуру, к
которой он принадлежит. Так, сопоставление взглядов на основные вопросы типологии культуры,
зафиксированных в текстах различных периодов, является интересным и давно уже оцененным с этой точки
зрения материалом для типологических изучений.
Неудобства, связанные с использованием языка своей культуры в качестве метаязыка описания, особенно
рельефно выступают при попытках типологического изучения своей культуры — подобное описание может
дать только самые тривиальные результаты: «своя» культура выглядит как лишенная специфики.
Язык описания не отделен по содержанию от тех или иных научных концепций, связан с тем или иным
объяснением сущности культуры. Отбрасывание той или иной концепции в химии или алгебре не может
распростра-
846
ниться на метаязык, которым данная наука пользуется. Существенным свойством языка науки является то,
что полезность его проверяется не теми критериями, которыми определяется правильность тех или иных
научных идей. Между тем описание явлений культуры на языке психологических, исторических или
социологических оппозиций является частью определенного научного истолкования сущности изучаемого
явления и не может быть использовано при другом содержательном истолковании.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
437 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
437

Любой из названных выше способов описания культуры абсолютизирует различия в изучаемом материале и
не дает возможности выделить общие универсалии культуры человечества. Так, например, понятие
историзма, принятое в науке предшествующего периода, возникшее под влиянием философских
представлений Гегеля, создавало механизм для описания исторического движения как последовательной
смены различных эпох. Рассматривая историю человечества как этап в универсальном развитии идеи,
Гегель принципиально исходил из того, что единственно возможная история есть человеческая история, а
единственно возможная культура есть культура человечества. Более того, на каждом отдельном этапе
своего развития всемирная идея реализуется лишь в одной какой-то национальной культуре, которая в этот
момент выступает с точки зрения всемирно-исторического процесса как единственная. Но единственное
явление не может иметь своеобразия, которое требует хотя бы двух сопоставляемых систем. Поэтому такая
концепция историзма не только подчеркивает, но и абсолютизирует различие между эпохами. То, что при
сравнении не выступает как различие, вообще не маркируется.
История культуры преодолевает эту трудность, дополняя историко-типологическое описание социально-
типологическим, психолого-типологическим и т.п. В предлагаемой статье мы не касаемся вопроса научной
обоснованности того или иного подхода к изучению самого содержания историко-культурного материала, а
занимаемся проблемой лишь метаязыка науки. Следует отметить, что с этой последней точки зрения
подобный путь не представляется удачным: он принципиально исключает возможность единообразия в
описании материала.
Таким образом, можно сформулировать следующую проблему: изучение типологии культуры предполагает
осознание в качестве особой задачи выработки такого метаязыка, который удовлетворял бы требованиям
современной теории науки, то есть давал бы возможность сделать предметом научного рассмотрения не
только ту или иную культуру, но и тот или иной метод ее описания, выделив это как самостоятельную
задачу.
Создание единообразной системы метаязыка, которая ни для одной из частей описания не совпадала бы с
языком объекта, <...> является предпосылкой определения универсалий культуры, без чего говорить о
типологическом изучении, видимо, вообще не имеет смысла.
Общенаучной предпосылкой изучения культуры с точки зрения универсалий является возможность
осмыслить все многообразие реально данных культурных текстов как единую, структурно организованную
систему. (2, с. 387-388)
ЭВАЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ ИЛЬЕНКОВ. (1924-1979)
Э.В. Ильенков — специалист по теории диалектики, истории философии, методологии, психологии,
эстетике. Известный философ, внесший значительный вклад в развитие отечественной философии. Окончил
философский факультет и аспирантуру МГУ. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые
вопросы материалистической диалектики в работе К. Маркса "К критике политической экономии"», а в
1968-м — докторскую: «К вопросу о природе мышления». В процессе осмысления проблемы логико-
диалектической теории научного мышления он продемонстрировал оригинальные методологические
возможности истолкования политико-экономических идей Маркса («Диалектика абстрактного и
конкретного в «Капитале» Маркса», 1960). Ввел в философский оборот новую методологическую
проблематику, которая значительно расширяла сферу философских и специально-научных
(психологических, педагогических, эстетических) исследований того времени. Его интерес к логико-
методологической проблематике и теории научного знания воплотился в концептуальных философских
построениях, посвященных гуманистическим, по своей сути, вопросам о природе личности, творчества,
деятельности, воображения, фантазии. Разрабатывал оригинальную философскую концепцию «идеального»
как «формы вещи, но вне этой вещи, а именно в человеке», причем создаваемую в ходе процесса труда.
Опубликовал ряд фундаментальных произведений, посвященных теоретическим проблемам диалектической
логики («науки о мышлении») и диалектики как метода восхождения от абстрактного к конкретному.
Основные произведения: «Об эстетической природе фантазии» (1967), «Диалектика абстрактного и
конкретного в научно-теоретическом мышлении» (1997), «Диалектическая логика» (1974, доп. изд. 1984),
«Искусство и коммунистический идеал» (1983).
Приведенный отрывок — параграф центрального труда Ильенкова, в котором представлен его
методологический подход к истолкованию Марксовой философской концепции процесса научного
познания. Текст приводится по книге: Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-
теоретическом мышлении. М., 1997.
С. М. Соловьев
848
Взгляд Маркса на процесс научного развития
Вопрос об отношении абстрактного к конкретному встал перед Марксом, как известно, в свете другого,
более общего философского вопроса: «Как развивать науку?»
Уже в самой формулировке вопроса скрыто предполагаемое понимание того факта, что действительно
научное понимание действительности может быть достигнуто только на пути дальнейшего развития того
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
438 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
438

теоретического понимания этой действительности, которое уже имеется.
Само собой разумеется, что это «дальнейшее развитие» теории осуществляется только путем ее
критического преодоления с точки зрения новых эмпирических фактов, через ее конструктивную критику,
удерживающую «рациональное зерно» предшествующей теории и одновременно отсеивающую все
исторически преходящее ее содержание. (С. 219-220)
Чем революционнее теория, тем в большей мере она является наследницей всего предшествующего
теоретического развития. В этом (на первый взгляд парадоксальном) отношении проявляется опять-таки та
самая диалектика, которой не понял Фейербах.
Это вообще необходимый закон развития науки, научного мышления: новое теоретическое понимание
фактов (новая теория) всегда и везде возникает не «прямо из фактов», не на пустом месте, а только через
строжайшую критику старого теоретического понимания этих фактов с точки зрения этих фактов.
Так что сведение критических счетов с ранее развитыми теориями есть вовсе не побочное, вовсе не
второстепенной важности занятие, а есть необходимая форма разработки самой теории, единственно
возможная форма теоретического анализа реальных фактов.
«Капитал» совсем не случайно имеет своим подзаголовком, своим вторым названием: «Критика
политической экономии».
При этом способе подхода к науке анализ эмпирических фактов и анализ теоретических понятий, категорий
(развитых на предшествующей стадии развития науки) совпадают органически, по существу.
Эти два момента научного исследования по существу сливаются в один процесс. Ни один из них немыслим
и невозможен без другого. Как критический анализ понятий не может быть осуществлен без анализа
эмпирических фактов, так и теоретический анализ эмпирических фактов невозможен без анализа понятий,
их выражающих.
Уже поэтому в диалектике совершается сознательное, преднамеренное совпадение «индуктивного» и
«дедуктивного» моментов, как неразрывных, взаимно предполагающих моментов исследования.
Старая (рассудочно-метафизическая) логика более или менее последовательно понимала под «индукцией»
процесс анализа эмпирических фактов, процесс образования аналитических определений факта. Поэтому
индукция и казалась если не единственной, то, во всяком случае, основной формой достижения нового
знания.
Дедукция же рассматривалась, главным образом, как процесс анализа понятия, как процесс установления
различий внутри понятия. Как таковая
849
она представлялась по преимуществу как процесс и форма разъяснения, изложения готового знания, знания,
которое уже имеется в голове, а не как форма образования нового знания, новых понятий.
Но с этой точки зрения совершенно необъяснимым становится реальный процесс развития науки, реальный
процесс образования новых понятий.
Дело в том, что человек (при том, разумеется, условии, если он действительно мыслит факты) всегда
приступает к анализу эмпирических фактов не с «пустым» сознанием, а с сознанием, развитым в ходе
образования. Иными словами, он всегда приступает к фактам с точки зрения тех или иных «понятий». Хочет
он того или не хочет — без этого он вообще не может активно мыслить факты, а может, в лучшем случае,
лишь пассивно созерцать их.
Наивная иллюзия эмпиризма, не учитывающего активной роли имеющихся понятий в процессе
воспринимания фактов в мышлении, по существу не видит отличия между отражательной деятельностью
человека и поведением животного в акте отражения. Животное действительно ведет себя как «чистый»,
«идеальный» эмпирик: оно бессознательно и чисто «индуктивно» «обобщает факты», не производя при этом
никаких сознательных операций с понятиями.
У человека же, — в самом простеньком обобщении, — «индукция» неразрывно связана с «дедукцией»: он
выражает факты в понятии, а это значит, что новое аналитическое определение фактов образуется
одновременно как новое — более конкретное — определение того понятия, с точки зрения которого он
осмысливает эти факты. В противном случае «аналитическое определение факта» вообще не образуется.
Хочет того человек или не хочет, но каждое новое «индуктивное» определение факта образуется им в свете
того или иного готового, так или иначе усвоенного им от общества понятия, в свете той или иной системы
понятий.
И тот, кто полагает, что он выражает факты «абсолютно непредубежденно», без всяких «заранее принятых»
понятий, тот вовсе не свободен от понятий. Напротив, он неизбежно оказывается рабом как раз самых
плоских и вздорных понятий.
Свобода и здесь заключается не в устранении от необходимости, а в сознательном овладении ею. Подлинная
«непредубежденность» состоит не в том, чтобы выражать факты вообще без всяких «заранее принятых»
понятий, а в том, чтобы выражать их с помощью сознательно усвоенных правильных понятий. (С. 220-222)
Эмпирик, полагающий, что он мыслит только факты, на самом деле всегда «оперирует преимущественно
традиционными представлениями, устаревшими, большею частью продуктами мышления своих
предшественников».
Эмпирик поэтому легко путает абстракции — с реальностью, реальность — с абстракциями, субъективные
иллюзии легко принимает за объективные факты, а объективные факты и выражающие их понятия — за
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
439 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
439

абстракции и иллюзии. Как правило, он в виде определений фактов «конкретизирует» ходячие абстракции.
Следовательно, сама «эмпирическая индукция» всегда и везде совершается как процесс конкретизации тех
представлений и понятий, с которыми
850
приступаются к фактам, — то есть как «дедукция», как процесс наполнения исходных понятий новыми
более детальными определениями, почерпаемыми из фактов путем абстракции.
Но тут-то и оказывается, что понятия, усвоенные человеком в процессе образования, есть вовсе не
пассивный груз в кладовой его памяти, а активнейшая форма, с помощью которой он только и может
воспринимать факты в свое сознание. Как таковая она заранее предопределяет характер тех определений
факта, которые получатся в результате, в итоге применения этих понятий к анализу факта. (С. 223)
Те определения чувственно воспринимаемого факта, которые одновременно не являются новыми
определениями понятия, в свете которого рассматривается факт, человек справедливо оставляет без
внимания. Так что исходное понятие предопределяет даже отбор чувственно воспринимаемых свойств, —
оценку их как «существенных» или «несущественных» с точки зрения данной науки, данной познавательной
задачи и т.д.
Но этого мало. В еще большей степени зависит от исходного понятия научное истолкование этих абстрактно
выделенных (в качестве «существенных») чувственно воспринимаемых свойств.
Совершенно ясно, что человек, усвоивший определение, положим, «стоимости» как продукта труда, увидит
в «прибыли» также «продукт труда». Если же стоимость является в его представлении выражением
«предельной полезности вещи», то он с самого начала будет ориентирован на совершенно иные определения
«прибыли». Он абстрагирует в качестве ее определений совсем иные свойства, нежели те, которые
проистекают из труда. (С. 224)
В материалистической диалектике рационально снята старинная противоположность «дедукции» и
«индукции».
«Дедукция» перестает быть способом формального выведения определений, заключенных априори в
понятии, и превращается в способ действительного развития знаний о фактах в их развитии, в их
внутреннем взаимодействии. Такая «дедукция» органически включает в себя «эмпирический» момент, —
она совершается именно через строжайший анализ эмпирических фактов, через «индукцию».
Но в данном случае названия «дедукция» и «индукция» выражают лишь внешнее формальное сходство
метода материалистической диалектики с соответствующими методами рассудочной логики.
На самом деле это и не «индукция», и не «дедукция», а нечто третье, заключающее в себе как свои «снятые
моменты» и то и другое. Здесь они осуществляются одновременно, как взаимно предполагающие
противоположности, которые именно своим взаимодействием образуют новую, более высокую форму
логического развития.
И эта более высокая форма, органически сочетающая в себе процесс анализа фактов, с процессом анализа
понятий, и есть тот «метод восхождения от абстрактного к конкретному», о котором говорит Маркс. Это и
есть та логическая форма развития знания, которая единственно соответствует диалектике. Дело в том, что
лишь с ее помощью объективная конкретность может быть воспроизведена в мышлении как реальность,
исторически возникшая и развившаяся. <...> (С. 228-229)
851
Как таковой, способ восхождения от абстрактного к конкретному ни в коем случае не есть лишь способ
«изложения» готового, каким-то иным способом заранее полученного знания, — как то не раз пытались
представить ревизионисты учения Маркса, извращавшие метод «Капитала» в духе плоского неокантианства.
(С. 229)
Столь же мало способ восхождения от абстрактного к конкретному может быть истолкован как способ
чисто логического «синтеза» готовых (заранее, чисто аналитическим путем полученных) абстракций — в
систему. Представление о том, что в ходе познания сначала будто бы совершается «чистый анализ», в ходе
которого вырабатываются многочисленные абстракции, а уж затем — столь же чистый «синтез»,
принадлежит к числу таких же фантазий метафизической гносеологии, как и представление об «индукции»
без «дедукции».
В обоснование этого нелепого взгляда иногда приводят в пример научное развитие XVI-XVII столетий. Но
при этом совершают невольное насилие над фактами. Если даже согласиться с тем, что для этого периода
действительно характернее «аналитическая» форма отношения к фактам (хотя «синтез», на самом деле,
вопреки иллюзиям теоретиков, осуществляется и здесь), — то нельзя забывать, что это — вовсе не «первая»
ступень в научном развитии человечества и что сам «односторонний анализ», характерный для этой эпохи,
предполагает в качестве своей предпосылки древнегреческую науку. Для античной же науки — для
действительно первой стадии научного развития Европы — гораздо характернее как раз «обобщенно-
синтетический» взгляд на вещи. Так что если уж ссылаться на историю метафизики XVI-XVIII вв., то не
следует забывать, что она сама есть не первая, а скорее вторая великая эпоха развития мышления. Но в
таком случае скорее «синтез», а не «анализ» выступает как исторически первая стадия переработки фактов в
мышлении...
Пример, таким образом, доказывает как раз обратное тому, что хотели с помощью его доказать.
«Анализ» и «синтез» есть (и всегда были) такими же неразрывными внутренними противоположностями
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
440 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
440
