Микешина Л.А. (Сост.) Философия науки. Хрестоматия
Подождите немного. Документ загружается.


явлений. Изучать исторически что-либо — значит изучать в движении. Это и есть основное требование
диалектического метода. Охватить в исследовании процесс развития какой-либо вещи во всех его фазах и
изменениях — от момента возникновения до гибели—и означает раскрыть его природу, познать его
сущность, ибо только в движении тело показывает, что оно есть. Итак, историческое исследование
поведения не есть дополнительное или вспомогательное к изучению теоретическому, но составляет основу
последнего. (1, с. 62-63)
Н.Ах также подчеркивает, что направление внимания приводит к образованию понятия. В главе о понятиях
мы увидим, что действительно слово, которое обозначает понятие, выступает вначале в роли указателя,
выделяющего те или иные признаки предмета, обращает внимание на эти признаки и только потом слово
становится знаком, обозначающим эти предметы. Слова, говорит Ах, есть средство направления внимания,
так что в ряде предметов, которые носят одно и то же имя, начинают выделяться общие свойства на основе
имени, что, таким образом, приводит к образованию понятия. (1, с. 231)
В образовании понятий имеются две линии развития, и в области природных функций есть нечто, что
соответствует той культурной сложной функции поведения, которая называется словесным понятием. (1, с.
270)
<...> даже в натуральной форме мышления понятие не образуется из простого смешения отдельных черт,
наиболее часто повторяющихся; понятие образуется через сложное видоизменение того, что происходит при
973
превращении образа в момент движения или в момент осмысленной композиции, т.е. отбора некоторых
значимых черт; все это происходит не путем простого смешения элементов отдельных образов. (1, с. 272)
Если попытаться сформулировать результаты исторических работ над проблемой мышления и речи в
научной психологии, можно сказать, что все решение этой проблемы, которое предлагалось различными
исследователями, колебалось всегда и постоянно — от самых древних времен и до наших дней — между
двумя крайними полюсами — между отождествлением, полным слиянием мысли и слова и между их столь
же метафизическим, столь же абсолютным, столь же полным разрывом и разъединением. <...> (2, с. 9)
<...> Таким образом, вопрос упирается в метод исследования, и нам думается, что, если с самого начала
поставить пред собой проблему отношений мышления и речи, необходимо также наперед выяснить себе,
какие методы должны быть применимы при исследовании этой проблемы, которые могли бы обеспечить ее
успешное разрешение.
Нам думается, что следует различать двоякого рода анализ, применяемый в психологии. Исследование
всяких психологических образований необходимо предполагает анализ. Однако этот анализ может иметь
две принципиально различные формы, из которых одна, думается нам, повинна во всех тех неудачах,
которые терпели исследователи при попытках разрешить эту многовековую проблему, а другая является
единственно верным начальным пунктом для того, чтобы сделать хотя бы самый первый шаг по
направлению к ее решению.
Первый способ психологического анализа можно назвать разложением сложных психологических целых на
элементы. Его можно было бы сравнить с химическим анализом воды, разлагающим ее на водород и
кислород. Существенным признаком такого анализа является то, что в результате его получаются продукты,
чужеродные по отношению к анализируемому целому, — элементы, которые не содержат в себе свойств,
присущих целому как таковому, и обладают целым рядом новых свойств, которых это целое никогда не
могло обнаружить. С исследователем, который, желая разрешить проблему мышления и речи, разлагает ее
на речь и мышление, происходит совершенно то же, что произошло бы со всяким человеком, который в
поисках научного объяснения каких либо свойств воды <...> прибег бы к разложению воды на кислород и
водород как к средству объяснения этих свойств. Он с удивлением узнал бы, что водород сам горит, а
кислород поддерживает горение, и никогда не сумел бы из свойств этих элементов объяснить свойства,
присущие целому. Так же точно психология, которая разлагает речевое мышление в поисках объяснения его
самых существенных свойств, присущих ему именно как целому, на отдельные элементы, тщетно потом
будет искать эти элементы единства, присущие целому. В процессе анализа они испарились, улетучились, и
ему не остается ничего другого, как искать внешнего механического взаимодействия между элементами, для
того чтобы с его помощью реконструировать чисто умозрительным путем пропавшие в процессе анализа, но
подлежащие объяснению свойства.
В сущности говоря, такого рода анализ, который приводит нас к продуктам, утратившим свойства,
присущие целому, и не является с точки зрения
974
той проблемы, к решению которой он прилагается, анализом в собственном смысле этого слова. Скорей, мы
вправе его рассматривать как метод познания, обратный по отношению к анализу и в известном смысле
противоположный ему. <...> (2, с. 10-11)
<...> Нигде результаты этого анализа не сказались с такой очевидностью, как именно в области учения о
мышлении и речи. Само слово, представляющее собой живое единство звука и значения и содержащее в
себе, как живая клеточка, в самом простом виде все основные свойства, присущие речевому мышлению в
целом, оказалось в результате такого анализа раздробленным на две части, между которыми затем
исследователи пытались установить внешнюю механическую ассоциативную связь. (2, с. 12)
Нам думается, что решительным и поворотным моментом во всем учении о мышлении и речи, далее,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
501 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
501

является переход от этого анализа к анализу другого рода. Этот последний мы могли бы обозначить как
анализ, расчленяющий сложное единое целое на единицы. Под единицей мы подразумеваем такой продукт
анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и
который является далее неразложимыми живыми частями этого единства. <...> (2, с. 13)
Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. Она должна заменить методы
разложения на элементы методом анализа, расчленяющего на единицы. Она должна найти эти
неразложимые, сохраняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в которых в
противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться разрешить
встающие пред ними конкретные вопросы.
Что же является такой единицей, которая далее неразложима и в которой содержатся свойства, присущие
речевому мышлению как целому? Нам думается, что такая единица может быть найдена во внутренней
стороне слова — в его значении. (2, с. 13)
Методы, которые мы намерены применить к изучению отношений между мышлением и речью, обладают
тем преимуществом, что они позволяют соединить все достоинства, присущие анализу, с возможностью
синтетического изучения свойств, присущих какому-либо сложному единству как таковому. <...> (2, с. 15)
Мы не станем здесь излагать те конкретные достижения, которых добились лингвистика и психология,
применяя этот метод. Скажем только, что эти достижения являются в наших глазах лучшим
доказательством благотворности того метода, который по своей природе совершенно идентичен с методом,
применяемым настоящим исследованием и противопоставленным нами анализу, разлагающему на
элементы.
Плодотворность этого метода может быть испытана и показана еще на целом ряде вопросов, прямо или
косвенно относящихся к проблеме мышления и речи, входящих в ее круг или пограничных с ней. Мы
называем только в самом суммарном виде общий круг этих вопросов, так как он, как уже указано, позволяет
раскрыть перспективы, стоящие пред нашим исследованием в дальнейшем, и, следовательно, выяснить его
значение в контексте всей проблемы. Речь идет о сложных отношениях речи и мышления, о сознании в
целом и его отдельных сторонах.
975
Если для старой психологии вся проблема межфункциональных отношений и связей была совершенно
недоступной для исследования областью, то сейчас она становится открытой для исследователя, который
хочет применить метод единицы и заменить им метод элементов.
Первый вопрос, который возникает, когда мы говорим об отношении мышления и речи к остальным
сторонам жизни сознания, — это вопрос о связи между интеллектом и аффектом. Как известно, отрыв
интеллектуальной стороны нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из
основных и коренных пороков всей традиционной психологии. Мышление при этом неизбежно
превращается в автономное течение себя мыслящих мыслей, оно отрывается от всей полноты живой жизни,
от живых побуждений, интересов, влечений мыслящего человека и при этом либо оказывается совершенно
ненужным эпифеноменом, который ничего не может изменить в жизни и поведении человека, либо
превращается в какую-то самобытную и автономную древнюю силу, которая, вмешиваясь в жизнь сознания
и в жизнь личности, непонятным образом оказывает на нее влияние.
Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин
самого мышления, потому что детерминистический анализ мышления необходимо предполагает вскрытие
движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют
движение мысли в ту или другую сторону. Так же точно, кто оторвал мышление от аффекта, тот наперед
сделал невозможным изучение обратного влияния мышления на аффективную, волевую сторону
психической жизни, ибо детерминистическое рассмотрение психической жизни исключает как
приписывание мышлению магической силы определить поведение человека одной своей собственной
системой, так и превращение мысли в ненужный придаток поведения, в его бессильную и бесполезную тень.
Анализ, расчленяющий сложное целое на единицы, снова указывает путь для разрешения этого жизненно
важного для всех рассматриваемых нами учений вопроса. Он показывает, что существует динамическая
смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Он
показывает, что во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к
действительности, представленной в этой идее. Он позволяет раскрыть прямое движение от потребности и
побуждений человека к известному направлению его мышления и обратное движение от динамики мысли к
динамике поведения и конкретной деятельности личности.
Мы не станем останавливаться на других еще проблемах <...> Скажем лишь, что применяемый нами метод
позволяет нe только раскрыть внутреннее единство мышления и речи, но позволяет плодотворно
исследовать и отношение речевого мышления ко всей жизни сознания в целом и к его отдельным
важнейшим функциям. (2, с. 18-19)
ЖАН ПИАЖЕ. (1896-1980)
Ж. Пиаже (Piaget) — швейцарский психолог, основатель Женевской школы генетической психологии и
эпистемологии. Основные труды посвящены происхождению и развитию интеллекта и мировоззрения. На
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
502 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
502

основе анализа умственных операций у детей создал периодизацию развития мышления (так называемая
операциональная концепция интеллекта): Был профессором университетов Невшталя (1926-1929), Женевы
(с 1929) и Лозанны (1937-1954); создатель Международного центра генетической эпистемологии в Париже;
директор института Ж.-Ж.Руссо (с 1929) в Женеве.
Первые книги Пиаже вышли в 20-е годы: «Речь и мышление ребенка» (1923); «Суждение и умозаключение
ребенка» (1924); «Представление ребенка о мире»(1926); «Физическая причинность у ребенка» (1927). 30-е
годы принято считать временем изменения теоретической позиции Пиаже, именно в это время он подходит
к формулировке основных принципов операциональной концепции интеллекта, выводя «операцию» в
качестве основной детерминанты интеллектуального развития. Эта теория изложена в его работе «Генезис
числа у ребенка» ( 1941 ). Развернутое обоснование его концепция получила в книге «Психология
интеллекта» (1946). Пиаже одновременно знаменит и как философ науки, который избрал ребенка как
«инструмент» изучения познания; как ученый, который уже в 1920 году ухватил основные интуиции
кибернетики; эпистемолог, на чьи ежегодные теоретические семинары собирались ученые со всего света.
Л.Т. Ретюнских
Интеллект и биологическая адаптация
Всякое психологическое объяснение рано или поздно завершается тем, что опирается на биологию или
логику (или на социологию, хотя последняя сама, в конце концов, оказывается перед той же альтернативой).
Для некоторых исследователей явления психики понятны лишь тогда, когда они связаны с биологическим
организмом. Такой подход вполне применим при изучении элементарных психических функций
(восприятие, моторная функ-
Отрывки из статей: «Психология интеллекта», «Генезис числа у ребенка», «Логика и психология» —
приводятся по изданию: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.
977
ция и т.д.), от которых интеллект зависит в своих истоках. Но совершенно непонятно, каким образом
нейрофизиология сможет когда-либо объяснить, почему 2 и 2 составляют 4 или почему законы дедукции с
необходимостью налагаются на деятельность сознания. Отсюда другая тенденция, которая состоит в том,
чтобы рассматривать логические и математические отношения как не сводимые ни к каким другим и
использовать их для анализа высших интеллектуальных функций. Остается только решить вопрос: сможет
ли сама логика, понимаемая как нечто выходящее за пределы экспериментально-психологического
объяснения, тем не менее послужить основой для истолкования данных психологического опыта как
такового? Формальная логика, или логистика, является аксиоматикой состояний равновесия мышления, а
реальной наукой, соответствующей этой аксиоматике, может быть только психология мышления. При такой
постановке задач психология интеллекта должна, разумеется, учитывать все достижения логики, но
последние никоим образом не могут диктовать психологу собственные решения: логика ограничивается
лишь тем, что ставит перед психологом проблемы.
Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая и биологическая, — вот из чего нам следует
исходить. (С. 61)
<...> Интеллект — это определенная форм равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на
базе восприятия, навыка и элементарных сенсо-моторных механизмов. Ведь в самом деле нужно понять, что
если интеллект не является способностью, то это отрицание влечет за собой необходимость некой
непрерывной функциональной связи между высшими формами мышления и всей совокупностью низших
разновидностей когнитивных и моторных адаптаций. И тогда интеллект будет пониматься как именно та
форма равновесия, к которой тяготеют все эти адаптации. Это, естественно, не означает ни того, что
рассуждение состоит в согласовании перцептивных структур, ни того, что восприятие может быть сведено к
бессознательному рассуждению (хотя оба эти положения могли бы найти известное обоснование), так как
непрерывный функциональный ряд не исключает ни различия, ни даже гетерогенности входящих в него
структур. Каждую структуру следует понимать как особую форму равновесия, более или менее постоянную
для своего узкого поля и становящуюся непостоянной за его пределами. Эти структуры, расположенные
последовательно, одна над другой, следует рассматривать как ряд, строящийся по законам эволюции таким
образом, что каждая структура обеспечивает более устойчивое и более широко распространяющееся
равновесие тех процессов, которые возникли еще в недрах предшествующей структуры. Интеллект — это не
более чем родовое имя, обозначающее высшие формы организации или равновесия когнитивных
структурирований.
Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что интеллект играет главную роль не только в
психике человека, но и вообще в его жизни. Гибкое и одновременно устойчивое структурное равновесие
поведения — вот что такое интеллект, являющийся но своему существу системой наиболее жизненных и
активных операций. Будучи самой совершенной из психических адаптаций, интеллект служит, так сказать,
наиболее необходимым и эффективным орудием во взаимодействиях субъекта с окружающим
978
миром, взаимодействиях, которые реализуются сложнейшими путями и выходят далеко за пределы
непосредственных и одномоментных контактов, для того чтобы достичь заранее установленных и
устойчивых отношений. Однако, с другой стороны, этот же способ рассуждения запрещает нам ограничить
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
503 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
503

интеллект его исходной точкой: интеллект для нас есть определенный конечный пункт, а в своих истоках он
неотделим от сенсо-моторной адаптации в целом, так же как за ее пределами — от самых низших форм
биологической адаптации. (С. 65-66)
Нет, однако, никакого сомнения в том, что все интерпретации интеллекта можно разделить, исходя из
одного существенного признака, на две группы: 1) те, которые хотя и признают сам факт развития, но не
могут рассматривать интеллект иначе, чем как некое исходное данное, и, таким образом, сводят всю
психическую эволюцию к своего рода постепенному осознанию этого исходного данного (без учета
реального процесса его создания), 2) те интерпретации, которые стремятся объяснить интеллект исходя из
его собственного развития. При этом отметим, что оба направления ведут совместную работу по
нахождению и анализу новых экспериментальных данных. Именно поэтому-то и следует различать все
современные истолкования интеллекта в соответствии с тем, в какой мере все они стремятся осветить тот
или иной особый аспект подлежащих истолкованию фактов; линию же разграничения между
психологическими теориями и философскими учениями надо усматривать в различном отношении к опыту,
а не в исходных гипотезах.
Среди «фиксистских» теорий следует, прежде всего, отметить те, которые, несмотря ни на что, остаются
верными идее, что и интеллект представляет собой способность непосредственного, прямого знания
физических предметов и логических или математических идей, т.е. знания, обусловленного
«предустановленной гармонией» между интеллектом и действительностью (I
1
). Надо признать, что весьма
немногие из психологов-экспериментаторов придерживаются этой гипотезы. Но вопросы, возникшие на
границах психологии и анализа математического мышления, дали возможность некоторым логикам, как,
например, Б. Расселу, наметить подобного рода концепцию интеллекта и даже попытаться применить ее к
психологии как таковой (С. 72-73).
«Психология мышления» и психологическая природа логических
операций
<...> Изучение формирования операций у ребенка привело нас, напротив, к убеждению, что логика является
зеркалом мышления, а не наоборот.
Иными словами, логика — это аксиоматика разума, по отношению к которой психология интеллекта —
соответствующая экспериментальная наука. Нам представляется необходимым остановится на этой стороне
несколько подробнее.
Аксиоматика — это наука исключительно гипотетико-дедуктивная, т.е. такая, которая сводит обращение к
опыту до минимума (и даже стремится полностью его устранить), с тем, чтобы свободно строить свой
предмет на
979
основе недоказуемых высказываний (аксиом) и комбинировать их между собой во всех возможных
вариантах и с предельной строгостью. Так, например, геометрия сделала большой шаг вперед, когда,
стремясь отвлечься от какой бы то ни было интуиции, построила самые различные пространства, просто
определив первичные элементы, взятые гипотетически, и операции, которым они подчинены.
Аксиоматический метод является, таким образом, преимущественно математическим методом и находит
многочисленные применения как в чисто математических науках, так и в различных областях прикладной
математики (от теоретической физики до математической экономики). Аксиоматика по самом своему
существу имеет значение не только для доказательства (хотя строгий метод она образует лишь в этой
области): когда речь идет о сложных областях реальности, не поддающихся исчерпывающему анализу,
аксиоматика дает возможность конструировать упрощенные модели реального и тем самым представляет
незаменимые средства для его детального изучения. Одним словом, аксиоматика, как это хорошо показал
Ф.Гонсет, представляет собой «схему» реальности, и уже в силу одного того, что всякая абстракция ведет к
схематизации, аксиоматический метод в целом является продолжением самого интеллекта.
Но именно вследствие своего «схематического» характера аксиоматика не может претендовать ни па то,
чтобы образовать фундамент, ни тем более на то, чтобы выступить в качестве замены соответствующей
экспериментальной науки, т.е. науки, относящейся к той области реальности, схематическим выражением
которой является аксиоматика. Так, например, аксиоматическая геометрия бессильна показать нам, что
представляет собой пространство реального мира (точно так же, как «чистая экономика» никогда не
исчерпает сложности конкретных экономических фактов). Аксиоматика не могла бы заменить
соответствующую ей индуктивную науку по той основной причине, что ее собственная чистота является
лишь пределом, который полностью никогда не достигается. Как это говорил еще Гонсет, в самой
очищенной схеме всегда сохраняется интуитивный остаток (и точно так же во всякую интуицию входит уже
элемент схематизации). Уже одного этого вывода достаточно для того, чтобы стало совершенно ясно,
почему аксиоматика никогда не сможет «образовать фундамента» экспериментальной науки и почему
всякой аксиоматике может соответствовать экспериментальная паука (соответственно, конечно, и наоборот).
(С. 86-87)
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
504 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
504

Сохранение непрерывных величин
Всякое знание, независимо от того, является ли оно научным или просто вытекающим из здравого смысла,
предполагает — явно или скрыто — систему принципов сохранения. Нет необходимости напоминать о том,
каким образом введение принципа сохранения прямолинейного и равномерного движения (принцип
инерции) в области экспериментальных наук сделало возможным развитие современной физики, или о том,
как постулат сохранения веса дал Лавуазье возможность противопоставить рациональную химию
качественной алхимии. Что касается здравого смысла, то нет нужды специально подчеркивать применение в
нем принципа тождества:
980
по мере того как всякое мышление стремится организовать систему понятий, оно вынуждено вводить
известное постоянство в свои определения. Более того, начиная уже с восприятия — этой чрезвычайно
существенной схемы постоянного предмета, воспроизведению генезиса которой была посвящена другая
наша работа, — происходит выработка подлинного принципа сохранения, правда, в наиболее элементарной
его форме. То, что сохранение, являющееся формальным условием всякого эксперимента, как и любого
рассуждения, не исчерпывает ни представления реальности, ни динамизма интеллектуального построения
— это другой вопрос: в данном случае мы просто утверждаем, что сохранение составляет необходимое
условие всякой рациональной деятельности, и не занимаемся вопросом о том, достаточно ли этого условия
для понимания этой деятельности или для выражения природы реальности.
Если признать справедливым сказанное выше, то очевидно, что арифметическое мышление отнюдь не
является исключением из общего правила. Множество (или совокупность) постигается лишь тогда, когда его
общее значение остается неизменным вне зависимости от изменений, внесенных в отношение между
элементами. Операция внутри одного и того же множества, которые называются «группой перестановок»,
доказывает как раз возможность совершения любой перестановки элементов при сохранении
инвариантности общей «мощности» множества. Число также может быть постигнуто интеллектом лишь в
той мере, в какой оно остается тождественным самому себе, независимо от размещения составляющих его
единиц: именно это свойство и называется «инвариантностью» числа. Такая непрерывная величина, как
длина или объем, может быть использована в деятельности разума лишь в той мере, в какой она образует
постоянное целое, независимо от возможных комбинаций в размещении ее частей. Короче говоря, идет ли
речь о непрерывных или дискретных величинах, о воспринимаемых количественных аспектах чувственного
мира или о множествах и числах, постигаемых мышлением, идет ли речь об элементарном контакте
числовой деятельности с экспериментом или о самой чистой аксиоматизации любого наглядного
содержания, всегда и всюду сохранение чего-либо постулируется разумом в качестве необходимого условия
всякого математического мышления.
С психологической же точки зрения потребность в сохранении составляет разновидность функционального
априоризма мышления, означающего, что по мере развития мышления или исторического взаимодействия
устанавливающегося между внутренними факторами его созревания и внешними условиями опыта, эта
потребность выступает как необходимая.
Однако нужно ли отсюда делать вывод о том, что арифметические понятия прогрессивно структурируются
под влиянием развития этих требований сохранения, или же следует считать, что сохранение предшествует
любой числовой и даже количественной организации и составляет не только функцию, но также и
априорную структуру, особую разновидность врожденной идеи, с необходимостью возникающую с первых
актов интеллекта и первых контактов с опытом? Психогенетический анализ должен решить этот вопрос, и
мы попытаемся доказать, что лишь первое решение соответствует фактам. (С. 243-244)
981
Логика и психология
История и состояние проблемы
В XIX веке, пока Буль, Де-Морган, Джевонс и другие не создали алгебру логики и пока экспериментальная
психология не стала наукой, конфликта между логикой и психологией не существовало. Классическая
логика верила, что она в состоянии раскрыть действительную структуру процессов мышления, общие
структуры, лежащие в основе внешнего мира, равно как и нормативные законы разума. Классическая
философская психология, в свою очередь, считала, что законы логики и законы этики находят выражение в
умственном функционировании каждого нормального индивида. В таких условиях логика и психология не
имели оснований для разногласий.
Но с развитием молодой науки экспериментальной психологии логические факторы были исключены из
рассмотрения — интеллект начали объяснять через чувства, образы, ассоциации и другие механизмы. Это
вызвало совершенно необоснованную реакцию: так, некоторые представители Вюрцбургской школы
психологии мышления при анализе суждения стали вводить логические отношения, чтобы дополнить ими
действие психологических факторов.
Логика, таким образом, была использована для причинного объяснения фактов, которые сами по себе
являлись психологическими. Такому неправильному употреблению логики в психологии было присвоено
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
505 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
505

имя «логицизм», и если психологи в целом не доверяют логике, то это объясняется главным образом их
страхом впасть в ошибки логицизма. Большинство современных психологов стараются объяснить интеллект
без какого-либо обращения к логической теории.
В то время как психологи старались отделить свою науку от логики, основатели современной логики, или
«логистики», по аналогичным причинам ратовали за отделение последней от психологии. Правда, Буль —
основатель алгебры, носящей его имя, — еще более верил, что описывает «законы мысли», но это
объяснялось тем, что он рассматривал их природу как по сути дела алгебраическую. С развитием же
дедуктивной строгости и формального характера логических систем одной из важнейших задач
последующих логиков стало освобождение логики от апелляции к интуиции, т.е. от какого бы то ни было
обращения к психологическим факторам. Наличие обращения к таким факторам в логике было названо
«психологизмом», и этот термин употреблялся логиками при ссылке на недостаточно формализованные
логические теории, точно так же, как и психологи употребляли термин «логицизм», ссылаясь на
психологические теории, недостаточно проверенные опытом.
Большинство современных логиков не касается более вопроса о том, имеют ли законы и структуры логики
какое-либо отношение к психологическим структурам. В начале нашего века один французский
последователь Бертрана Рассела даже утверждал, что понятие операции, по существу, антропоморфно, но
фактически логические операции чисто формальны и не имеют какого-либо сходства с психологическими
операциями. Как только логика достигла в своем развитии завершенной формальной строгости, ло-
982
гики перестали интересоваться изучением актуальных мыслительных процессов. П. Бернайс, например,
полагал — и с точки зрения полностью формализировашюй аксиоматической логики он несомненно прав,
— что логические отношения строго применимы только к математической дедукции, в то время как любая
другая форма мышления имеет просто аппроксимирующий характер.
Когда мы стремимся выявить сущности, соответствующие логическим структурам, то обнаруживаем, что в
ходе постепенной формализации логики были даны четыре возможных объяснения по этому поводу.
Каждое из них следует кратко рассмотреть с точки зрения его отношения к психологии.
Первое объяснение — платонизм, свойственный ранним работам Б.Рассела и А.Уайтхеда,
стимулировавший работу Г.Шольца и остающийся осознанным или неосознанным идеалом большинства
логиков. Согласно этому взгляду, логика соотносится с системой универсалий, существующих независимо
от опыта и непсихологических по своему происхождению. В таком случае следует объяснить, как разум
приходит к открытию таких универсалий. Платоническая гипотеза только отодвигает проблему и не
приближает нас к ее решению.
Второе объяснение — конвенционализм, полагающий, что существование логических сущностей и их
законы определяются системой соглашений или общепризнанных правил. Однако такое объяснение
приводит нас к новой проблеме: за счет чего эти соглашения оказываются столь плодотворными и
удивительно эффективными в своем применении?
В силу этого конвенционализм уступает место концепции правильно построенного языка {well-formed
language). Это третье объяснение выдвинуто Венским кружком, испытавшим сильное влияние логического
эмпиризма. В этом объяснении различают эмпирические истины, или нетавтологические отношения, и
тавтологии, или чисто синтаксические отношения, которые с помощью соответствующей семантики могут
быть использованы для выражения эмпирических истин. Такая теория имеет несомненное психологическое
значение; ее можно эмпирически проверить. Однако применительно к психологии она вызывает ряд
затруднений.
Во-первых, мы не можем говорить о чистом опыте, или «эмпирических истинах», не зависящих от
логических отношений. Другими словами, опыт не может быть интерпретирован в абстракции от
понятийного и логического аппарата, который и делает возможной такую интерпретацию. В наших
экспериментах с Б. Инельдср маленьких детей просили ответить на вопрос: когда поверхность воды в
наклонной стеклянной трубке горизонтальна и когда пет? Мы обнаружили, что дети не воспринимают
«горизонтальность» до тех пор, пока они не окажутся способными построить каркас пространственных
отношений. Для построения такого каркаса они нуждаются в геометрических операциях, а при построении
этих операций необходимо употребление логических операций.
Во-вторых, в течение всего развития детей логические отношения никогда не появляются в качестве
простой системы лингвистических или символических выражений, они всегда включаются в группу
операций. СС.574-576)
983
Имеется, наконец, третье затруднение, препятствующее принятию тезиса о том, что логика есть просто
язык. Если бы этот тезис был справедлив, то логика должна была бы вскрыть существенные черты детского
интеллекта. Мы могли бы ожидать от нее, с одной стороны, простого объяснения чувственных фактов, а с
другой — простого перевода этих фактов на словесную основу, т.е. рассмотрения их как языка в
собственном смысле. Но если восприятия предполагают предварительную смысловую интерпретацию,
включающую логические отношения, а эти отношения, в свою очередь, предполагают действия и операции,
то должен пройти порядочный период времени, прежде чем установится такое взаимодействие между
восприятием и операциями. И действительно, логика в мышлении детей появляется относительно поздно
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
506 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
506

<...> (С. 578)
Это приводит нас к четвертому и последнему из возможных способов объяснения логических отношений —
операционализму. Первооснователем этого направления является П.Бриджмен (США). В настоящее время во
многих странах имеются последователи этого направления (операционалистское движение в Италии —
Чекатто и другие). Непохожий на предшествующие интерпретации, операционализм обеспечивает
действительную основу для связи логики и психологии. С тех пор как логика основывается на абстрактной
алгебре и занимается символическими преобразованиями, операции (вопреки Л.Кутюра!) играют в ней
чрезвычайно важную роль. С другой стороны, операции — актуальные элементы психической деятельности,
и любое знание основывается на системе операций.
Следовательно, для того, чтобы определить зависимости между логикой и психологией, необходимо: (1)
построить психологическую теорию операций в терминах их генезиса и структуры, (2) проанализировать
логические операции, рассматривая их как алгебраические исчисления и структурированные целые, и (3)
сравнить результаты, полученные в (1) и (2). (С. 578-579)
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯРОШЕВСКИЙ (1916-2001)
М.Г. Ярошевский — российский философ и психолог, историк и методолог науки; был действительным
членом Нью-Йоркской академии наук (1994), почетным академиком РАО. Окончил факультет русского
языка и литературы Ленинградского пединститута (1937). В 1938 году подвергся репрессиям в связи с делом
Л.Н. Гумилева и был вынужден уехать в Среднюю Азию, где проработал 15 лет, возглавляя кафедру
психологии пединститута г. Душанбе (1955-1965). В 1965-1989 годах Ярошевский - зав. сектором
психологии научного творчества Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва). В 1991
году официально реабилитирован.
Основные направления научных исследований Ярошевского: теория и история психологии научной
деятельности, проблемы научного творчества. Особое внимание он сосредоточил на проблемах
исторической методологии психологической науки, рассматривая основные проблемы психологии в
контексте ее истории (История и теория психологии. М., 1996; 100 выдающихся психологов мира. М., 1996
и др.). Его исследование по истории отечественной психологии (Наука о поведении: русский путь. М., 1996)
и работа над энциклопедическим словарем «Выдающиеся психологи Москвы» (1997) способствовали
углубленной разработке исторических условий возникновения и развития психологических идей в России.
В ряде работ (Оппонентный круг и научное открытие // Вопросы философии, 1983, № 10; Историческая
психология науки. М., 1995) Ярошевский разрабатывал концепцию оппонентного круга как одного из
основных социопсихологических факторов научного творчества, анализируя принципы его формирования и
функционирования в научном сообществе; исследовал феномен авторства в контексте проблемы «цитат-
поведения» (использования учеными в своих публикациях научных ссылок) в современном
компьютеризированном научном мире. В контексте проблемы отношения между когнитивными и
социальными координатами науки Ярошевский обосновывал необходимость исследования личностно-
психологического аспекта научного творчества, позволяющего эксплицировать роль субъекта в структуре
научной деятельности.
T.Г. Щедрина
Текст приводится по изданию: Ярошевский М.Г. Социальные и психологические координаты научного
творчества // Вопросы философии, 1995. № 12. С. 118-128.
985
Наука, как живая система, — это производство не только идей, но и творящих их людей. Внутри самой
системы идет непрерывная незримая работа по построению умов, способных решать ее назревающие
проблемы. Школа, как единство исследования, общения и обучения творчеству, является одной из основных
форм научно-социальных объединений, притом древнейшей формой, характерной для познания на всех
уровнях его эволюции. В отличие от организаций типа научно-исследовательского учреждения школа в
науке является неформальным, т.е. не имеющим юридического статуса объединением. Ее организация не
планируется заранее и не регулируется административным регламентом.
В этом отношении она подобна таким неформальным объединениям ученых, как «незримые колледжи».
Этим термином обозначена не имеющая четко очерченных границ сеть личных контактов между учеными и
процедур взаимного обмена информацией (например, так называемыми препринтами, т.е. сведениями о еще
не опубликованных результатах исследований).<...> (С. 122.)
Не всякая школа лидирует в перспективном направлении исследований. Возможны ситуации, когда
программа себя исчерпала, но школа продолжает ее отстаивать. В этих случаях школа объективно
становится преградой на пути исследования проблем, в которых она прежде успешно продвигалась. Однако
и эти случаи утраты некогда жизнеспособным научным коллективом своей продуктивности заслуживают
серьезного анализа, поскольку они позволяют выявить факторы, от действия которых эта продуктивность
зависела. <...> (С. 122-123)
К социопсихологическим факторам научного творчества относится оппонентный круг ученого. Понятие о
нем введено нами с целью анализа коммуникаций ученого под углом зрения зависимости динамики его
творчества от конфронтационных отношений с коллегами. Из этимологии термина «оппонент» явствует, что
имеется в виду «тот, кто возражает», кто выступает в качестве оспаривающего чье-либо мнение. Речь пойдет
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
507 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
507

о взаимоотношениях ученых, возражающих, опровергающих или оспаривающих чьи-либо представления,
гипотезы, выводы. У каждого исследователя имеется «свой» оппонентный круг. Его может инициировать
ученый, когда бросает вызов коллегам. Но его создают и сами эти коллеги, не приемлющие идеи ученого,
воспринимающие их как угрозу своим воззрениям (а тем самым и своей позиции в науке) и потому
отстаивающие их в форме оппонирования. Поскольку конфронтация и оппонирование происходят в зоне,
которую контролирует научное сообщество, вершащее суд над своими членами, ученый вынужден не
только учитывать мнение и позицию оппонентов с целью уяснить для самого себя степень надежности
своих оказавшихся под огнем критики данных, но и отвечать оппонентам. Его отношение к их возражениям
не исчерпывается согласием или несогласием. Полемика, хотя бы и скрытая, становится катализатором
работы мысли. <...> Стало быть, в ходе познания мысль ученого регулируется общением не только с
объектами, но и с другими исследователями, высказывающими по поводу этих объектов суждения,
отличные от его собственных. Соответственно текст, по которому история науки воссоздает движение
знания, следует рассматривать
986
как эффект не только интеллектуальной (когнитивной) активности автора этого текста, но и его
коммуникативной активности. При изучении творчества главный акцент принято ставить на первом
направлении активности, прежде всего понятийном (и категориальном) аппарате, который применил
ученый, строя свою теорию и получая новое эмпирическое знание. Вопрос же о том, какую роль при этом
сыграло его столкновение с другими субъектами — членами научного сообщества, представления которых
были им оспорены, затрагиваются лишь в случае открытых дискуссий. Между тем, подобно тому как за
каждым продуктом научного труда стоят незримые процессы, происходящие в творческой лаборатории
ученого, к ним обычно относят построение гипотез, деятельность воображения, силу абстракции и т.п., в
производстве этого продукта незримо участвуют оппоненты, с которыми он ведет скрытую полемику.
Очевидно, что скрытая полемика приобретает наибольший накал в тех случаях, когда выдвигается идея,
претендующая на радикальное изменение устоявшегося свода знаний. И это неудивительно. Сообщество
обладать своего рода «защитным механизмом», который препятствовал бы «всеядности», немедленной
ассимиляции любого мнения. Отсюда и то естественное сопротивление сообщества, которое приходится
испытывать каждому, кто притязает на признание за его достижениями новаторского характера.
Понятие оппонентного круга позволяет преодолеть доминирующий в изучении социального параметра
науки анализ деятельности ученых с точки зрения их объединения, консолидации, идентификации с малой и
большой общностью. В плане исторической рефлексии это понятие дает возможность пересмотреть
традиционный взгляд на «влияние» как восприятие добытого другими, а не противодействие им в качестве
детерминанты творческого поиска. В плане методологической рефлексии понятие вновь делает зримым
трехаспектность научного творчества, ибо предполагает неразделимость различий личностных установок
исследователей, своеобразие стиля их общения и особенности предметно-логических креплений
образуемого ими круга, который тем самым становится важнейшим фактором производства нового знания.
<...> (С. 122-123).
Феномен авторства в науке сталкивается с проблемой соотношения в пей индивидуального и коллективного.
Успешность реализации ученым своей социальной функции определяется степенью новизны его
результатов. <...> В каждом научном тексте представлена наряду с информацией об исследованных
объектах информация о людях, в общении со взглядами которых на объекты сформировалось собственное
видение ученого. Он ведет себя определенным образом как по отношению к изучаемым вещам (наблюдая,
экспериментируя, вычисляя и т.д.), так и по отношению к другим индивидам, занятым сходной
деятельностью. Зафиксированным выражением его отношения к этим другим является его особое поведение
в научном мире, которое может быть условно названо цитат-поведением.
Под «цитат-поведением» мы понимаем деятельность ученых по использованию в своих публикациях
научных ссылок. <...> (С. 124-125)
Ссылка фиксирует круг общения ученого. Но он может быть и оппонентным кругом, т.е. включать
исследователей, с которыми автор полемизи-
987
рует, подвергает критике и идеи и факты, противопоставляя им собственные. Эта полемика также влияет на
цитат-поведение, притом не всегда в открытой форме. <...> (С. 127.)
<...> При каждом акте цитирования ученый, учитывая приобретенную отныне, благодаря новой
информационной технологии неведомую прежним временам социальную значимость этого акта, должен
действовать столь же ответственно, как и при представлении на суд сообщества своих научных результатов.
Требуется высоконравственное отношение к любой вносимой в текст ссылке на другой источник, на другого
автора, ибо она будет подсчитана компьютером при составлении «карты науки», на которую в дальнейшем
смогут ориентироваться другие исследователи и организаторы науки <...> (С. 127.)
И здесь мне видится уже последняя великая задача западной философии, единственная задача, которая
предстоит еще старческой мудрости фаустовской культуры, та самая задача, которая как бы заповедана нам
веками развития нашей душевности. Ни одна культура не вольна выбирать путь и осанку своего мышления;
но здесь впервые культура может предусмотреть, какой именно путь уготовила ей судьба.
Мне видится некий сугубо западный тип исследования истории в высшем смысле, никогда еще не
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
508 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
508

возникавший и неизбежно остававшийся чуждым для античной и всякой иной души: всеобъемлющая
физиогномика целокупного существования, морфология становления всего человечества, продвинувшегося
на своем пути до высочайших и последних идей; задача проникновения в мирочувствование не только
собственной, но и всех душ, в которых вообще до сих пор проявлялись великие возможности и выражением
которых в картине действительного выступают отдельные культуры. Этот философский взгляд, право на
который дают нам, и одним только нам, аналитическая математика, контрапунктическая музыка,
перспективная живопись, предполагает — далеко поверх дарований систематика — наличие глаза
художника, и притом такого художника, который ощущает, как окружающий его чувственный и осязаемый
мир совершенно растворяется в глубокой бесконечности таинственных отношений. Так чувствовал Данте,
так чувствовал и Гете. Выделить из сплетения мирового свершения тысячелетие органической культурной
истории, взятое как единство, как лик, и осмыслить его в его сокровеннейших душевных условиях — такова
цель. Подобно тому как мы проникаем в черты рембрандтовского портрета или бюста одного из Цезарей,
так и новое искусство сводится к тому, чтобы созерцать и понимать великие, роковые черты лика какой-
нибудь культуры как человеческой индивидуальности высшего порядка. Как это выглядит в случае того или
иного поэта, пророка, мыслителя, завоевателя — это уже пытались узнать, но проникнуть в античную,
египетскую, арабскую душу вообще, чтобы сопережить ее во всей ее выраженности в типических людях и
обстоятельствах, в религии и государстве, стиле и тенденции, мышлении и нравах, — это уже некий новый
род «жизненного опыта». Каждая эпоха, каждый великий гештальт, каждое божество, города, языки, нации,
искусства, все, что было когда-то и будет некогда, — все это есть физиогномический штрих высо-
988
чайшей символики, истолковать который является задачей знатока людей в совершенно новом смысле
слова. Поэтические творения и битвы, празднества Исиды и Кибелы и католические мессы, доменные
заводы и гладиаторские игры, дервиши и дарвинисты, железные дороги и римские улицы, «прогресс» и
нирвана, газеты, скопища рабов, деньги, машины — все это равным образом суть знаки и символы в картине
мира прошлого, многозначительно воскрешаемого душой. «Все преходящее есть лишь подобие». Здесь
кроются решения и перспективы, о которых пока даже не догадывались. Проясняются темные вопросы,
лежащие в основе наиболее глубоких из всех человеческих прачувствований, страха и тоскующего
вожделения, и облаченные мыслью в проблемы времени, необходимости, пространства, любви, смерти,
первопричин. Есть какая-то неслыханная музыка сфер, которая хочет быть услышанной, которая будет
услышана некоторыми из наших глубочайших умов. Физиогномика мирового свершения становится
последней фаустовской философией. (С. 320-322)
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
509 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
509
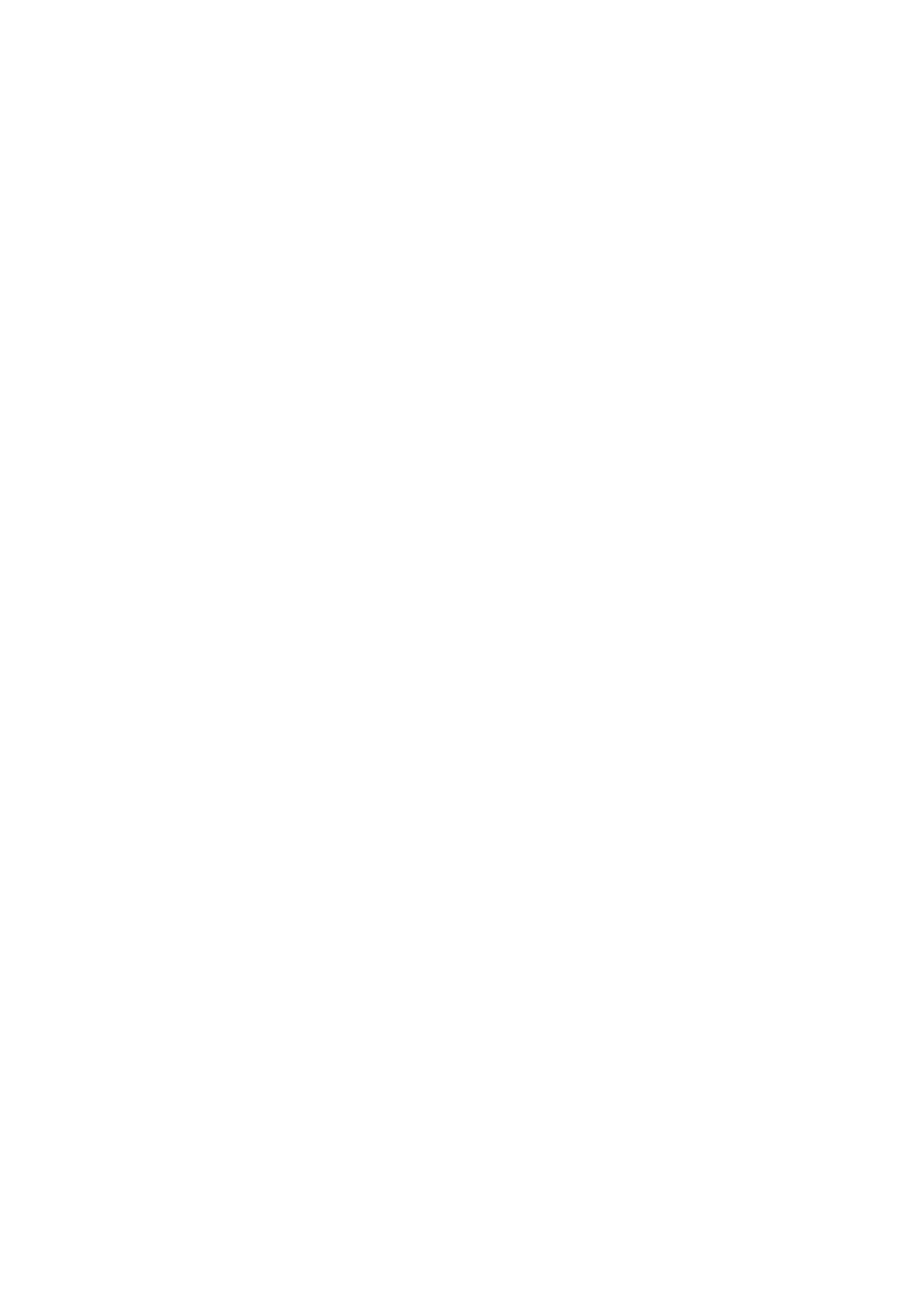
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ......................................................5
Глава 1
Эпистемология как основание и предпосылка
философии и методологии науки..................................................9
ПЛАТОН...................................................................................................................................11
ДЖОН ЛОКК.............................................................................................................................17
ДАВИД ЮМ ..............................................................................................................................24
ИММАНУИЛ КАНТ................................................................................................................ .....31 .
ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ ...............................................................................36
БЕРТРАН РАССЕЛ ......................................................................................................................46
МАКС ШЕЛЕР.............................................................................................................................52
ЭРНСТ КАССИРЕР........................................................................................................................57
МАКС БОРН................................................................................................................................66
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КОПНИН............................................................................................74
ХИЛАРИ ПАТНЭМ..........................................................................................................................83
УМБЕРТО МАТУРАНА......................................................................................................................89
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕКТОРСКИЙ ............................................................95
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БРУШЛИНСКИЙ ...............................................................109
ГЕРХАРД ФОЛЛМЕР.......................................................................................................................114
Глава 2
Философия науки: социологические
и методологические аспекты.....................................................123
АРИСТОТЕЛЬ...............................................................................................................................125
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ .......................................................................................................... .....133 ..
ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ.......................................................................................137
ДЖАМБАТТИСТА ВИКО...............................................................................................................143
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ.......................................................................................................148
ОГЮСТ КОНТ...............................................................................................................................153
ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС ......................................................................................................................160
ФРИДРИХ НИЦШЕ ........................................................................................................................169
ВИЛЬГЕЛЬМ ВИНДЕЛЬБАНД................................................................................................. .174 .
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ..................................................................................179
АНРИ БЕРГСОН.......................................................................................................................183
ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ........................................................................................................................189
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ ...........................................................................198
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ......................................................................205
КАРЛ ЯСПЕРС..............................................................................................................................209
ГАСТОН БАШЛЯР.............................................................................................................................2 8 1
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР ....................................................................................................................226
990
АЛЕКСАНДР КОЙРЕ.......................................................................................................................234
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛОСЕВ..............................................................................................240
ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ....................................................................................................................244
НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ МОИСЕЕВ .....................................................................................253
МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ МАМАРДАШВИЛИ .........................................................262
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЗОВ...................................................................................268
ПИАМА ПАВЛОВНА ГАЙДЕНКО.............................................................................................275
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ОГУРЦОВ.....................................................................................284
Глава 3
Общая методология науки........................................................291
ФРЭНСИС БЭКОН ...........................................................................................................................293
РЕНЕ ДЕКАРТ .....................................................................................................................................300
ЧАРЛЬЗ САНДЕРС ПИРС .............................................................................................................309
ГЕНРИХ РИККЕРТ...........................................................................................................................314
ИВАН ИВАНОВИЧ ЛАПШИН....................................................................................................322
ФИЛИПП ФРАНК..............................................................................................................................327
МАЙКЛ ПОЛАНИ..............................................................................................................................335
КАРЛ РАЙМУНД ПОППЕР...........................................................................................................343
БОНИФАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ КЕДРОВ..............................................................................352
УИЛЛАРД ВАН ОРМАН КУАЙН.............................................................................................. .359 .
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ШТОФФ.................................................................................369
ГЕОРГ ХЕНРИК ФОН ВРИГТ.....................................................................................................378
СТИВЕН ЭДЕЛСТОН ТУЛМИН........................................................:.......................................385
ИМРЕ ЛАКАТОС................................................................................................................................392
СЭМЮЭЛ ТОМАС КУН..................................................................................................................400
КАРЛ-ОТТО АПЕЛЬ .........................................................................................................................409
ПОЛ КАРЛ ФЕЙЕРАБЕНД ............................................................................................................415
ЯААККО ХИНТИККА......................................................................................................................419
ЭРИК ГРИГОРЬЕВИЧ ЮДИН ....................................................................................................426
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
510 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
510
