Микешина Л.А. (Сост.) Философия науки. Хрестоматия
Подождите немного. Документ загружается.


концептуальной системе, мы можем сказать, в языке, если под языком понимать систему понятий. Я
употребляю здесь термин «язык» в том смысле, в каком употребляют его логики, а не в смысле английского
или китайского языков. Мы имеем язык физики, язык антропологии, язык теории множеств и т.п. В этом
смысле язык устанавливается с помощью правил составления словаря, правил построения предложений,
правил логического вывода из этих предложений и других правил. Виды понятий, которые встречаются в
научном языке, крайне важны. Вот почему я хочу сделать ясным, что различие между качественным и
количественным есть различие между языками. (1, с. 106) <...>
912
Соглашения играют очень важную роль при введении количественных понятий. Мы не должны
недооценивать эту роль. С другой стороны, мы должны также позаботиться о том, чтобы не переоценивать
эту конвенциональную сторону. Это делается не часто, но некоторые философы поступают так. В качестве
примера может служить Гуго Динглер в Германии. Он пришел к полностью конвенционалистской точке
зрения, которую я считаю ошибочной. Он говорит, что все понятия и даже законы науки являются делом
конвенций. По моему мнению, он идет слишком далеко. Пуанкаре также обвиняли в конвенционализме в
этом радикальном смысле, но, я думаю, это происходит из-за непонимания его сочинений. Он
действительно часто подчеркивал важную роль, которую играют конвенции в науке, но также хорошо
осознавал роль эмпирических компонентов. Он знал, что мы не всегда свободны сделать произвольный
выбор при построении системы науки; мы должны приспособить нашу систему к фактам природы, когда
обнаруживаем их. Природа обеспечивает факторы в ситуации, которые находятся вне нашего контроля.
Пуанкаре может быть назван конвенционалистом только в том случае, если под этим имеется в виду
исключительно то, что он был философом, который больше, чем предыдущие, подчеркивал огромную роль
конвенций. Но он не был радикальным конвенционалистом. (1, с. 108) <...>
Преодоление метафизики логическим анализом языка
Начиная с греческих скептиков вплоть до эмпиристов XIX столетия имелось много противников
метафизики. Вид выдвигаемых сомнений был очень различным. Некоторые объявляли учение метафизики
ложным, так как оно противоречит опытному познанию. Другие рассматривали ее как нечто сомнительное,
так как ее постановка вопросов перешагивает границы человеческого познания. Многие антиметафизики
подчеркивали бесплодность занятий метафизическими вопросами; можно ли на них ответить или нет, во
всяком случае не следует о них печалиться; следует целиком посвятить себя практическим задачам, которые
предъявляются каждый день действующим людям.
Благодаря развитию современной логики стало возможным дать новый и более острый ответ на вопрос о
законности и праве метафизики. Исследования «прикладной логики» или « теории познания», которые
поставили себе задачу логическим анализом содержания научных предложений выяснить значение слов
(«понятий»), встречающихся в предложениях, приводят к позитивному и негативному результатам.
Позитивный результат вырабатывается в сфере эмпирической науки; разъясняются отдельные понятия в
различных областях науки, раскрывается их формально-логическая и теоретико-познавательная связь. В
области метафизики (включая всю аксиологию и учение о нормах) логический анализ приводит к
негативному выводу, который состоит в том, что мнимые предложения этой области являются полностью
бессмысленными. Тем самым достигается радикальное преодоление метафизики, которое с более ранних
антиметафизических позиций было еще невозможным. (2, с. 69)
913
Язык состоит из слов и синтаксиса, т. е. из наличных слов, которые имеют значение, и из правил
образования предложений; эти правила указывают, каким путем из слов можно образовывать предложения
различного вида. Соответственно имеются два вида псевдопредложений: либо встречается слово,
относительно которого лишь ошибочно полагают, что оно имеет значение, либо употребляемые слова хотя и
имеют значение, но составлены в противоречие с правилами синтаксиса, так что они не имеют смысла. Мы
увидим на примерах, что псевдопредложения обоих видов встречаются в метафизике. Затем мы должны
будем выяснить, какие основания имеются для нашего утверждения о том, что вся метафизика состоит из
таких предложений. <...>
Если слово (внутри определенного языка) имеет значение, то обыкновенно говорят, что оно обозначает
«понятие»; но если только кажется, что слово имеет значение, в то время как в действительности оно
таковым не обладает, то мы говорим о «псевдопонятии». (2, с. 70) <...>
Возьмем в качестве примера метафизический термин «принцип» (а именно как принцип бытия, а не как
познавательный принцип или аксиому). Различные метафизики дают ответ на вопрос, что является
(высшим) «принципом мира» (или «вещи», «бытия», «сущего»), например: вода, число, форма, движение,
жизнь, дух, идея, бессознательное, действие, благо и тому подобное. Чтобы найти значение, которое имеет
слово «принцип» в этом метафизическом вопросе, мы должны спросить метафизика, при каких условиях
предложение вида «х есть принцип у» истинно и при каких ложно; другими словами: мы спросим об
отличительных признаках или о дефиниции слова «принцип». <...> Но метафизик нам скажет, что он
подразумевал не эту эмпирически устанавливаемую связь, ибо в таком случае его тезисы были бы простыми
эмпирическими предложениями того же рода, что и предложения физики. Слово «происходить» не имеет-де
здесь значения условно-временной связи, которое ему присуще обычно. Однако для какого-либо другого
значения метафизиком критерий не указывается. Следовательно, мнимого «метафизического» значения,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
471 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
471

которое слово якобы должно иметь здесь в отличие от эмпирического значения, вообще не существует.
Обращаясь к первоначальному значению слова «принципиум» (и соответствующему греческому слову
«архэ» — первоначало), мы замечаем, что здесь имеется тот же ход развития. Первоначальное значение
«начало» у слова было изъято; оно не должно было больше означать первое по времени, а должно означать
первое в другом, специфически-метафизическом смысле. Но критерии для этого «метафизического смысла»
не были указаны. В обоих случаях слово было лишено раннего значения, без придания ему нового; от слова
осталась пустая оболочка. Тогда, когда оно еще обладало значением, ему ассоциативно соответствовали
разные представления, они соединяются с новыми представлениями и чувствами, возникающими на основе
той связи, в которой отныне употребляется слово. Но благодаря этому слово значения не получает, оно
остается и далее не имеющим значения, пока не указан путь для верификации.
Другой пример — слово «Бог». Независимо от вариантов употребления слова в различных областях мы
должны различать его употребление в трех
914
исторических периодах, которые по времени переходят один в другой. В мифологическом употреблении
слово имеет ясное значение. Этим словом (соответственно аналогичным словам других языков) обозначают
телесное существо, которое восседает где-то на Олимпе, на небе или в преисподней и, в большей или
меньшей степени, обладающее силой, мудростью, добротой и счастьем. Иногда это слово обозначает
духовно-душевное существо, которое хотя и не имеет тела, подобно человеческому, но которое как-то
проявляет себя в вещах и процессах видимого мира и поэтому эмпирически фиксируемо. В метафизическом
употреблении слово «Бог» означает нечто сверхэмпирическое. Значение телесного или облаченного в
телесное духовного существа у слова было отобрано. Так как нового значения слову не было дано, оно
оказалось вовсе не имеющим значения. Правда, часто выглядит так, будто слово «Бог» имеет значение и в
метафизическом употреблении. Но выдвигаемые дефиниции при ближайшем рассмотрении раскрываются
как псевдодефиниции; они ведут либо к недопустимым словосочетаниям <...> либо к другим
метафизическим словам (например: «первопричина», «абсолют», «безусловное», «независимое»,
«самостоятельное» и т. п.), но ни в коем случае не к условиям истинности его элементарного предложения.
У этого слова не выполнено даже первое требование логики, а именно требование указания его синтаксиса,
т. е. формы его вхождения в элементарное предложение. <...>
Между мифологическим и метафизическим употреблением слова «Бог» стоит его теологическое
употребление. <...>
Аналогично рассмотренным примерам слов «принцип» и «Бог» большинство других специфических
метафизических терминов не имеют значения, например: «идея», «абсолют», «безусловное»,
«бесконечное», «бытие сущего», «не-сущее», «вещь в себе», «абсолютный дух», «объективный дух»,
«сущность», «бытие-в-себе», «в-себе-и-для-себя-бытие», «эманация», «проявление», «вычленение», «Я»,
«не-Я» и т. д. <...> Метафизические мнимые предложения, которые содержат такие слова, не имеют смысла,
ничего не обозначают, являются лишь псевдопредложениями. (2, с. 74-76) <...>
Как представляется, большинство логических ошибок, которые встречаются в псевдопредложениях,
покоятся на логических дефектах, имеющихся в употреблении слова «быть» в нашем языке (и
соответствующих слов в остальных, по меньшей мере, в большинстве европейских языков). Первая ошибка
— двузначность слова «быть»: оно употребляется и как связка («человек есть социальное существо»), и как
обозначение существования («человек есть»). Эта ошибка усугубляется тем, что метафизику зачастую не
ясна эта многозначность <...>. Большинство метафизиков, начиная с глубокого прошлого, ввиду вербальной,
а потому предикативной, формы глагола «быть» приходили к псевдопредложениям, например «я есть», «Бог
есть». Пример этой ошибки мы находим в «cogito, ergo sum» Декарта. (2, с. 82). <...>
На основе наших предыдущих выводов можно прийти к представлению, что метафизика содержит много
опасностей впасть в бессмысленность и метафизик в своей деятельности должен тщательно их избегать. Но
в действительности дело обстоит таким образом, что осмысленных метафизических
915
предложений вообще не может быть. Это вытекает из задачи, которую поставила себе метафизика: она
хочет найти и представить знание, которое недоступно эмпирической науке.
Ранее мы определили, что смысл предложения находится в методе его верификации. Предложение означает
лишь то, что в нем верифицируемо. Поэтому предложение, если оно вообще о чем-либо говорит, говорит
лишь об эмпирических фактах. О чем-либо лежащем принципиально по ту сторону опытного нельзя ни
сказать, ни мыслить, ни спросить.
Предложения (осмысленные) подразделяются на следующие виды: прежде всего имеются предложения,
которые по одной своей форме уже являются истинными («тавтологии» по Витгенштейну; они
соответствуют примерно кантовским «аналитическим суждениям»); они ничего не высказывают о
действительности. К этому виду принадлежат формулы логики и математики; сами они не являются
высказываниями о действительности, а служат для преобразования таких высказываний. Во-вторых,
имеется противоположность таких высказываний («контрадикции»); они противоречивы и, в соответствии
со своей формой, являются ложными. Для всех остальных предложений решение об их истинности или
ложности зависит от протокольных предложений; они являются поэтому (истинные или ложные) опытными
предложениями и принадлежит к области эмпирической науки. Желающий образовать предложение,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
472 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
472

которое не принадлежит к этим видам, делает его автоматически бессмысленным. Так как метафизик не
высказывает аналитических предложений, не хочет оказаться в области эмпирической науки, то он с
необходимостью употребляет либо слова, для которых не дается критерия, а поэтому они оказываются
лишенными значения, либо слова, которые имеют значение, и составляет так, что не получается ни
аналитического (соответственно контрадикционного), ни эмпирического предложения. В обоих случаях с
необходимостью получаются псевдопредложения.
Логический анализ выносит приговор бессмысленности любому мнимому знанию, которое претендует
простираться за пределы опыта. Этот приговор относится к любой спекулятивной метафизике, к любому
мнимому знанию из чистого мышления и чистой интуиции, которые желают обойтись без опыта. Приговор
относится также к тому виду метафизики, которая, исходя из опыта, желает посредством особого ключа
познавать лежащее вне или за опытом (например, к неовиталистскому тезису о действующей в
органических процессах «энтилехии», которая физически непознаваема; к вопросу о «сущности
каузальности», выходящему за пределы определенной закономерности следования; к речам о «вещи-в-
себе»). Приговор действителен для всей философии ценностей и норм, для любой этики или эстетики как
нормативной дисциплины. Ибо объективная значимость ценности или нормы не может быть (также и по
мнению представителей ценностной философии) эмпирически верифицирована или дедуцирована из
эмпирических предложений; они вообще не могут быть высказаны осмысленными предложениями.
Другими словами: либо для «хорошо» и «прекрасно» и остальных предикатов, употребляемых в
нормативной науке, имеются эмпирические характеристики, либо они недейственны. Предложение
916
с такими предикатами становится в первом случае эмпирическим фактуальным суждением; но не
ценностным суждением; во втором случае оно становится псевдопредложением; предложение, которое
являлось бы ценностным суждением, вообще не может быть образовано.
Приговор бессмысленности касается также тех метафизических направлений, которые неудачно называются
теоретико-познавательными, а именно реализма (поскольку он претендует на высказывание большего, чем
содержат эмпирические данные, например, что процессы обнаруживают определенную закономерность и
что отсюда вытекает возможность применения индуктивного метода) и его противников: субъективного
идеализма, солипсизма, феноменализма, позитивизма (в старом смысле).
Что остается тогда для философии, если все предложения, которые нечто означают, эмпирического
происхождения и принадлежат реальной науке? То, что остается, есть не предложения, не теория, не
система, а только метод, т.е. логический анализ. Применение этого метода в его негативном употреблении
мы показали в ходе предшествующего анализа; он служит здесь для исключения слов, не имеющих
значения, бессмысленных псевдопредложений. В своем позитивном употреблении метод служит для
пояснения осмысленных понятий и предложений, для логического обоснования реальной науки и
математики. Негативное применение метода в настоящей исторической ситуации необходимо и важно. Но
плодотворнее, уже в сегодняшней практике, его позитивное применение. (2, с. 84-86) <...>
Если мы скажем, что предложения метафизики полностью бессмысленны, то этим ничего не скажем и, хотя
это соответствует нашим выводам, нас будет мучить чувство удивления; как могли столько людей
различных времен и народов, среди них выдающиеся умы, с таким усердием и пылом заниматься
метафизикой, если она представляет собой всего лишь набор бессмысленных слов? И как понять такое
сильное воздействие на читателей и слушателей, если эти слова даже не являются заблуждениями, а вообще
ничего не содержат? Подобные мысли в некотором отношении верны, так как метафизика действительно
нечто содержит; однако это не теоретическое содержание. (Псевдо-)предложения метафизики служат не для
высказываний о положении дел, ни существующем (тогда они были бы истинными предложениями); ни не
существующими (тогда они были бы, по меньшей мере, ложными предложениями); они служат для
выражения чувства жизни. <...>
Какова историческая роль метафизики? Пожалуй, в ней можно усмотреть заменитель теологии на ступени
систематического, понятийного мышления. (Мнимый) сверхъестественный познавательный источник
теологии был заменен здесь естественным, но (мнимым) сверхэмпирическим познавательным источником.
При ближайшем рассмотрении, в неоднократно менявшейся одежде, узнается то же содержание, что и в
мифе: мы находим, что метафизика также возникла из потребности выражения чувства жизни, состояния, в
котором живет человек, эмоционально-волевого отношения к миру, к ближнему, к задачам, которые он
решает, к судьбе, которую переживает. Это чувство жизни выражается в большинстве случаев
бессознательно, во всем, что человек делает и говорит; оно фиксируется в чертах его лица,
917
может быть, также в его походке. Некоторые люди сверх этого имеют еще потребность особого выражения
своего чувства жизни, более концентрированного и убедительнее воспринимаемого. Если такие люди
художественно одарены, они находят возможность самовыражения в создании художественных
произведений. То, как в стиле и виде художественного произведения проявляется чувство жизни, уже
выяснено другими (например, Дильтеем и его учениками). (Часто при этом употребляют слово
«мировоззрение»; мы воздержимся от его употребления ввиду двузначности, в результате которой стирается
различие между чувством жизни и теорией, что для нашего анализа является решающим.) Для нашего
исследования существенно лишь то, что искусство адекватное, метафизика, напротив, неадекватное
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
473 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
473

средство для выражения чувства жизни. В принципе против употребления любого средства выражения
нечего возразить. В случае с метафизикой дело, однако, обстоит так, что форма ее произведений имитирует
то, чем она не является. Эта форма есть система предложений, которые находятся в (кажущейся)
закономерной связи, т.е. в форме теории. Благодаря этому имитируется теоретическое содержание, хотя, как
мы видели, таковое отсутствует. Не только читатель, но также сам метафизик заблуждается, полагая, что
метафизические предложения нечто значат, описывают некоторое положение вещей. Метафизик верит, что
он действует в области, в которой речь идет об истине и лжи. В действительности он ничего не высказывает,
а только нечто выражает как художник. То, что метафизик находится в заблуждении, еще не следует из того,
что он берет в качестве посредника выражения язык, а в качестве формы выражения повествовательные
предложения; ибо то же самое делает и лирик, не впадая в самозаблуждение. Но метафизик приводит для
своих предложений аргументы, он требует, чтобы с содержанием его построений соглашались, он
полемизирует с метафизиками других направлений, ищет опровержения их предложений в своих статьях.
Лирик, напротив, в своем стихотворении не пытается опровергать предложения из стихотворений другого
лирика; он знает, что находится в области искусства, а не в области теории. (2, с. 86-88)
РОМАН ОСИПОВИЧ ЯКОБСОН. (1896-1982)
P.O. Якобсон — ученый-лингвист, основатель Пражской лингвистической школы. Закончил славяно-
русское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Был одним из
создателей «Общества по изучению поэтического языка» в Петербурге в 1916 году, в течение пяти лет (с
1915 по 1920 год) возглавлял Московский лингвистический кружок. С 1920 по 1941 год жил и работал в
Европе (Чехия, Дания, Норвегия, Швеция), затем — в США. Выступал как представитель достижений
российского гуманитарного знания в мире, до конца жизни считая себя русским филологом.
Его методологическая концепция формировалась в процессе осмысления таких влиятельных философских и
научных течений, как структурализм Ф. Де Соссюра, лингвистическое учение (в особенности фонология)
И.А. Бодуэна де Куртене и феноменология Э. Гуссерля. Тематическая сфера его научного поиска — не
только специально филологические исследования, но и проблемы, далеко выходящие за рамки лингвистики
и литературоведения. Являясь одним из сторонников генетико-типологического подхода и структурно-
исторического метода в языкознании, а также в исторической и формальной поэтике, занимался
исследованием диахронической фонологии, создал так называемую теорию дифференциальных
фонологических признаков (фонологическую теорию оппозиций), основные категории которой
распространил на морфологию, ввел ряд новых понятий в лексикологию, синтаксис и стилистику.
Якобсон одним из первых заявил о необходимости создания общей науки о знаковых системах —
семиотики. Ему принадлежат классификация знаков в семиотике, признанная классической семиотическая
модель коммуникации, мысль о необходимости создания общей науки о коммуникации, в которую входили
бы лингвистика, изучающая обмен словесными сообщениями, и этнология (культурная антропология),
исследующая другие типы обменов в обществе. Занимался также вопросами соотношения лингвистики с
науками естественного и гуманитарного цикла. Среди сотен работ Якобсона на русском языке
представлены: «Новейшая русская поэзия. Набросок первый» (М., 1921), «Славянская филология в России
за годы войны и революции» (в соавторстве с П. Богатыревым) (М., 1923), «Морфологические наблюдения
над славянским склонением» (1958), «Смерть Владимира Маяковского» (в соавторстве с Д. Святоподк-
919
Мирским) (1975), «Работы по поэтике» (1985), «Язык и бессознательное» (М., 1996).
Е.В. Фидченко
Язык в отношении к другим системам коммуникации
Эдуард Сепир указывал на тот очевидный факт, что «язык является коммуникативным процессом в чистом
виде в каждом известном нам обществе». Наука о языке исследует строение речевых сообщений и лежащий
в их основе код. Структурные характеристики языка интерпретируются в свете задач, которые они
выполняют в различных процессах коммуникации, и, следовательно, лингвистику можно кратко определить
как изучение коммуникации, осуществляемой с помощью речевых сообщений. Мы анализируем эти
сообщения с учетом всех относящихся к ним факторов, таких, как неотъемлемые свойства сообщения
самого по себе, ero адресанта и адресата, либо действительного, либо лишь предполагаемого адресантом в
качестве реципиента. Мы изучаем характер контакта между этими двумя участниками речевого акта; мы
пытаемся найти характерные общие черты, а также различия между операциями кодирования,
осуществляемыми адресантом, и способностью декодирования, присущей адресату. Наконец, мы пытаемся
определить место, занимаемое данным сообщением в контексте окружающих сообщений, которые либо
принадлежат к тому же самому акту коммуникации, либо связывают вспоминаемое прошлое с
предполагаемым будущим, и мы задаемся основополагающим вопросом об отношении данного сообщения к
универсуму дискурса. (С. 319)
О лингвистических аспектах перевода
Мы различаем три способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того
же языка, на другой язык или же в другую, невербальную системы символов. Этим трем видам перевода
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
474 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
474

можно дать следующие названия:
1) Внутриязыковой перевод, или переименование, — интерпретация вербальных знаков с помощью других
знаков того же языка.
2) Межъязыковой перевод, или собственно перевод, — интерпретация вербальных знаков посредством
какого-либо иного языка.
3) Межсемиотический перевод, или трансмутация, — интерпретация вербальных знаков посредством
невербальных знаковых систем.
При внутриязыковом переводе слова используется либо другое слово, более или менее синонимичное
первому, либо парафраза. <...> (С. 362)
Точно так же на уровне межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалентности между единицами
кода, но сообщения, в которых они используются, могут служить адекватными интерпретациями
иностранных кодовых единиц или целых сообщений. <...> (С. 362)
Фрагменты работ — «Лингвистика в ее отношении к другим наукам», «Язык в отношении к другим системам
коммуникации», «О лингвистических аспектах перевода» — цитируются по изданию: Якобсон Р. Избранные
работы. М., 1985.
920
Однако чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых
единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой
косвенную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из какого-то источника.
Таким образом, в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах.
Эквивалентность при существовании различия — это кардинальная проблема языка и центральная проблема
лингвистики. Как и любой получатель вербального сообщения, лингвист является его интерпретатором.
Наука о языке не может интерпретировать ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в
другие знаки той же системы или в знаки другой системы. Любое сравнение двух языков предполагает
рассмотрение их взаимной переводимости. Широко распространенная практика межъязыковой
коммуникации, в частности переводческая деятельность, должна постоянно находиться под пристальным
наблюдением лингвистической науки. Трудно переоценить, насколько велика насущная необходимость, а
также какова теоретическая и практическая ценность двуязычных словарей, которые давали бы тщательно
выполненные сравнительные дефиниции всех соответственных единиц в отношении их значения и сферы
употребления. Точно так же необходимы двуязычные грамматики, в которых указывалось бы, что
объединяет и что различает эту пару языков в выборе и разграничении грамматических категорий. И в
практике и в теории перевода предостаточно запутанных проблем, и время от времени делаются попытки
разрубить гордиев узел, провозглашая догму непереводимости. <...> (С. 363)
Способность говорить на каком-то языке подразумевает также способность говорить об этом языке. Такая
«метаязыковая» процедура позволяет пересматривать и заново описывать используемую языком лексику.
Взаимодополнительность этих уровней — языка-объекта и метаязыка — впервые отметил Нильс Бор: все
хорошо описанные экспериментальные факты выражаются посредством обычного языка, «в котором
практическое употребление каждого слова находится в комплиментарном отношении к попыткам дать ему
точную дефиницию». Весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом
существующем языке. Там, где отсутствует понятие или слово, можно разнообразить и обогащать
терминологию путем слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических сдвигов и, наконец, с
помощью парафраз. <...> (С. 363-364)
Языки различаются между собой главным образом тем, что в них должно быть выражено, а не тем, что в
них может быть выражено. С каждым глаголом данного языка обязательно связан целый ряд вопросов,
требующих утвердительного или отрицательного ответа, как, например: было ли описываемое действие
связано с намерением его завершить? Есть ли указание на то, что описываемое действие совершалось до
момента речи или нет? Естественно, что внимание носителей языка будет постоянно сосредоточено на таких
деталях, которые обязательны в их вербальном коде.
В своей когнитивной функции язык в наименьшей степени зависит от грамматических моделей, потому что
определение нашего опыта находится в комплиментарном отношении к метаязыковым операциям;
когнитив-
921
ный уровень языка не только допускает, но и прямо требует перекодирующей интерпретации, то есть
перевода. Предполагать, что когнитивный материал невозможно выразить и невозможно перевести —
значит впадать в противоречие. Предполагать, что когнитивный материал невозможно перевести — значит
впадать в противоречие. Но в шутках, фантазиях, сказках, то есть в том, что мы называем «вербальной
мифологией», и, конечно, прежде всего в поэзии, грамматические категории имеют важное семантическое
значение. В таких случаях проблема перевода становится гораздо более запутанной и противоречивой. (С.
365-366)
В поэзии вербальные уравнения стали конструктивным принципом построения текста. Синтаксические и
морфологические категории, корни, аффиксы, фонемы и их компоненты (различительные признаки) —
короче, любые элементы вербального кода противопоставляются, сопоставляются, помещаются рядом по
принципу сходства или контраста и имеют свое собственное автономное значение. Фонетическое сходство
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
475 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
475

воспринимается как какая-то семантическая связь. В поэтическом искусстве царит каламбур, или,
выражаясь более ученым языком и, возможно, более точным, парономазия, и независимо от того,
беспредельна эта власть или ограничена, поэзия по определению является непереводимой. Возможна только
творческая транспозиция, либо внутриязыковая — из одной поэтической формы в другую, либо
межъязыковая — с одного языка на другой, и, наконец, межсемиотическая транспозиция — из одной
системы знаков в другую, например из вербального искусства — в музыку, танец, кино, живопись. (С.367)
Место лингвистики среди других наук о человеке
<...> проблемы взаимосвязей наук о человеке сконцентрированы вокруг лингвистики. Этот факт объясняется
прежде всего исключительно регулярной и замкнутой структурированностью языка и той важной ролью,
которую он играет в культуре; с другой стороны, как антропологи, так и психологи признают, что
лингвистика является наиболее продвинутой и точной наукой о человеке и, следовательно, является
методологической моделью для остальных смежных наук. <...> (С.370)
Именно богатый и разносторонний научный опыт побудил нас задаться следующими вопросами: какое
место занимает лингвистика среди наук о человеке и каковы перспективы междисциплинарного
сотрудничества па взаимовыгодной основе без ущерба для внутренних потребностей и свойств каждой из
этих наук? Иногда высказываются сомнения относительно того, удастся ли наукам о человеке образовать
такое «превосходное междисциплинарное содружество», какое связывает естественные науки, поскольку
строгая логическая преемственность и иерархическая упорядоченность базисных понятий по степени
обобщенности и сложности, заданные в явном виде при взаимодействии естественных наук, по-видимому,
отсутствуют в науках о человеке. Вероятно, подобные сомнения отражают те ранние попытки
классификации наук, которые не учитывали роли науки о языке. Однако если в качестве точки отсчета при
попытке упорядочения наук о человеке будет избрана именно лингвистика, то подобная система,
базирующа-
922
яся на «принципиальном родстве классифицируемых объектов», встанет на твердую теоретическую основу.
Внутренняя логика, присущая наукам о человеке, в свою очередь требует их последовательного
упорядочения, параллельного связям и сцеплениям, существующим в естественных науках. Язык является
одной из систем знаков, а лингвистика как наука о речевых знаках — это не что иное, как часть семиотики,
общей науки о знаках, которая была предугадана, названа и очерчена в «Опыте о человеческом разуме»
Джона Локка. <...> (С. 371)
<...> семиотика занимает центральное место в рамках науки о коммуникации в целом и является основой
для всех остальных областей этой науки, в то время как в рамках семиотики центральное место отводится
лингвистике, которая влияет на все остальные разделы семиотики. Образуются концентрические круги:
1. Исследование коммуникации посредством речевых сообщений = лингвистика.
2. Исследование коммуникации посредством сообщений любого вида = семиотика (сюда включается и
коммуникация посредством речевых сообщений).
3. Исследование коммуникации = социальная антропология вместе с экономикой (сюда включается и
коммуникация посредством любых сообщений).
Ведущиеся в настоящее время исследования в рамках таких пересекающихся направлений, как
социолингвистика, антропологическая лингвистика, этнолингвистика фольклора, представляют зримый
протест против все еще существующих пережитков соссюровской тенденции ограничения задач и целей
лингвистики. Тем не менее такое ограничение задач и целей, налагаемое отдельным лингвистом или
лингвистическим направлением на предмет своего исследования, нельзя считать «пагубным»; всякое
пристальное исследование ограниченной области внутри лингвистики, любое самоограничение и узкая
специализация заслуживают права на существование. Ошибочным и пагубным можно считать только
пренебрежение к другим сферам языка как к якобы несущественным и второстепенным; особенно же
вредны попытки полного изъятия таких сфер из «истинной» лингвистики. В рамках лингвистического
эксперимента допустимо намеренное абстрагирование от тех или иных свойств языка. <...> (С. 380-381)
Лингвистика и естественные науки
Если от собственно антропологии мы переходим к биологии, науке о жизни всего органического мира, то
исследования различных типов человеческой коммуникации составляют лишь часть более широкой области
исследований. Эту более широкую область можно обозначить как исследование способов и форм
коммуникации живых существ. Мы оказываемся перед решающей дихотомией: не только язык, но все
системы коммуникации человека (а эти системы так или иначе опираются на язык) существенно отличаются
от систем коммуникации прочих живых существ, потому что для человечества каждая система
коммуникации коррелирует с языком, и внут-
923
ри общей сети человеческой коммуникации язык играет доминирующую роль. (С. 387)
Переход от «зоосемиотики» к человеческому языку являет собой качественный скачок, вопреки
устаревшему бихевиористскому утверждению, что «язык» животных отличается от языка человека
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
476 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
476
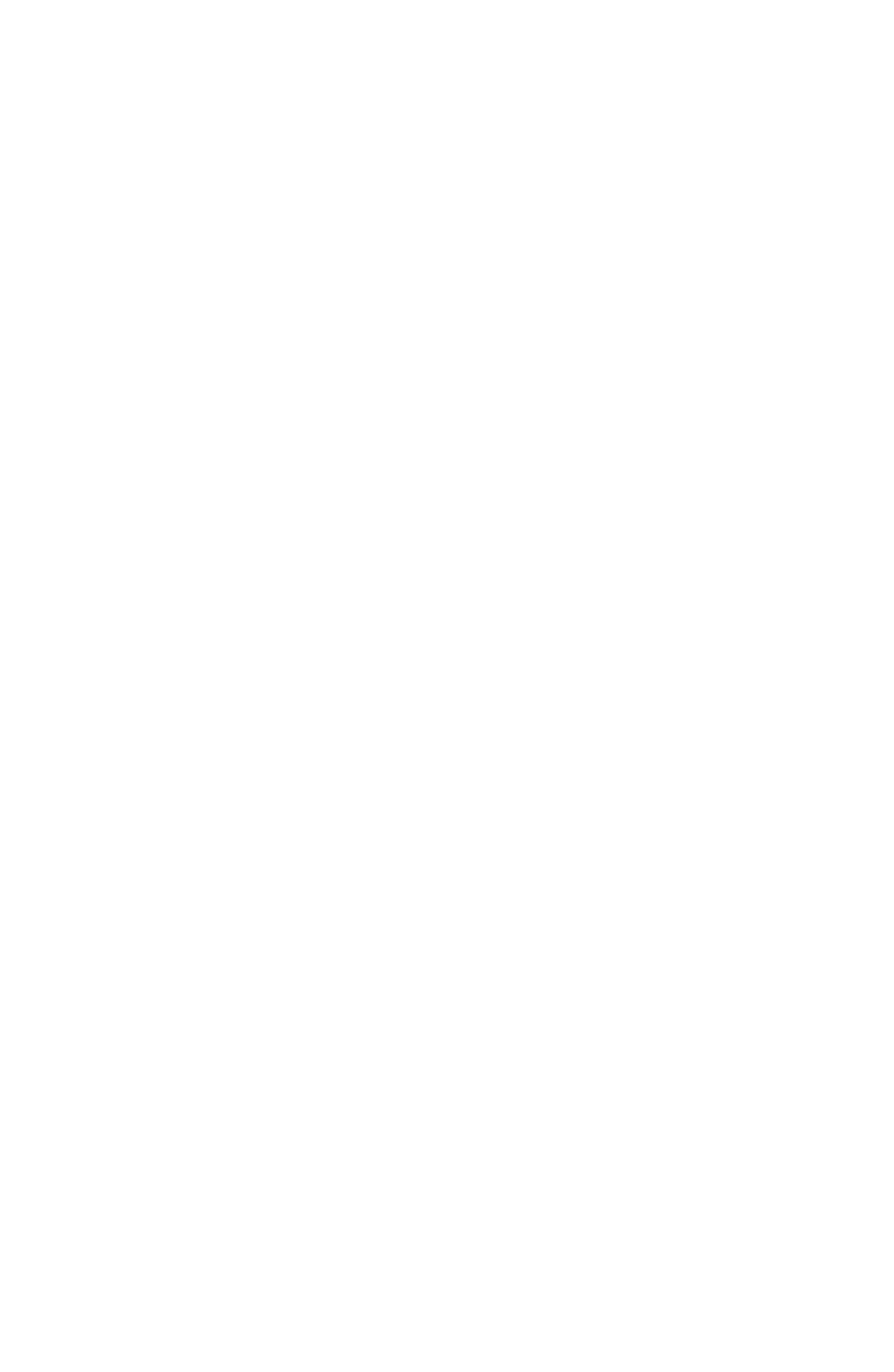
степенью, но не качеством. В то же время мы не можем поддерживать недавние возражения лингвистов
против «изучения коммуникативных систем животных теми же средствами, что и изучение языка человека»;
эти возражения мотивируются вероятным отсутствием «преемственности (в эволюционном смысле) между
грамматиками языков человека и коммуникативными системами животных». Однако никакая революция,
сколь бы радикальной она ни была, не разрывает эволюционной преемственности, и систематическое
сопоставление речи человека и других семиотических структур и видов деятельности с этологическими
данными о коммуникативных средствах всех остальных живых существ обещает более строгое
разграничение двух названных областей, а также более глубокое понимание их субстанциальной общности
и не менее существенных различий. Такой сравнительный анализ будет способствовать расширению общей
теории знака. (С. 388)
<...> поскольку наука — это языковое представление опыта, взаимодействие между имеющимися объектами
и языковыми средствами их представления требует контроля над этими средствами, что является
необходимой предпосылкой существования любой науки. Эта задача требует обращения к науке о языке,
науку же о языке в свою очередь следует призвать к расширению границ ее аналитических операций.
Сущность и цели современной лингвистики
Исследование языковой структуры является основной задачей всех направлений современной лингвистики,
а кардинальный принцип такого структурного (или, по другой терминологии, номотетического) подхода к
языку, разделяемый всеми направлениями лингвистики, можно определить как сочетание инвариантности и
относительности. <...> Исследование языковой структуры требовало все более глубокого проникновения во
внутренние связи и в сугубо относительный и иерархический характер всех составляющих этой структуры.
Следующим необходимым шагом было единообразное описание общих законов, управляющих разными
языковыми системами, а затем выявление связи между этими законами. Итак, выявление и интерпретация
языковой структуры в целом, или, иначе говоря, «стремление к объяснительной адекватности», было
основной задачей сложившегося в период между мировыми войнами научного направления, которое было
названо «структурной лингвистикой» и получило права гражданства в Праге в 1928-1929 годы. (С. 405)
ДОНАЛЬД ДЭВИДСОН. (род. 1917)
Д. Дэвидсон (Davidson) — известный американский философ и логик, представитель аналитической
философии. Преподавал в ряде университетов США — Стэнфорде, Принстоне, в последние десятилетия
работает в Беркли. Разрабатывает различные семантические, логические, эпистемологические проблемы
естественных языков — истина и значение, радикальная интерпретация, роль языковой коммуникации и
различных типов метафоры в познании, понимание отдельных предложений естественного языка на основе
понимания всего языка, значение и характер конвенций и концептуальных схем в языковом общении и
многие другие. Принимая относительность истины в концептуальной схеме, не отказывается от понятия
объективной истины. Теоретические результаты его исследований значимы не только для естественного
языка, функционирующего в науке, но и для собственно научного языка, применительно к случаям истины,
интерпретации, конвенции и метафор. Отечественным исследователям хорошо известны его работы:
«Истина и значение» (Truth and Meaning // Synthese. V. 17), «Исследования истины и интерпретация»
(Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, 1985), «Что означают метафоры» // Теория метафоры (M.,
1990).
Л. А. Микешина
Философы многих направлений склонны рассуждать о концептуальных схемах. Считается, что
концептуальные схемы являются способами организации опыта; их рассматривают как системы категорий,
придающих форму чувственным данным; они также уподобляются точкам зрения индивидов, культур и
эпох на происходящие события. И если перевод из одной схемы в другую вообще не существует, то тогда
два человека, принадлежащих к различным концептуальным схемам, не смогут поставить в истинное
соответствие свои мнения, желания, надежды и фрагменты знания. Даже сама реальность относительна к
схеме: то, что считается реальным в одной системе понимания, может не считаться таковым в другой.
Приводятся фрагменты из следующих работ:
1. Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.
2. Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 213-233.
925
Есть мыслители, которые не сомневаются в том, что существует только одна концептуальная схема, однако
и они находятся под влиянием понятия схемы, ведь и монотеисты имеют религию. И когда кто-нибудь
пытается описать «нашу концептуальную схему», то если быть точным, его собственная задача
предполагает возможность наличия соперничающих систем.
Я считаю концептуальный релятивизм опьяняющей и экзотической концепцией, и прежде чем спешить ее
принимать, необходимо тщательно прояснить смысл этой концепции. Но, как это часто бывает в
философии, трудно достичь ясного понимания, пока вокруг проблемы кипят страсти. Во всяком случае,
именно это я и хочу показать.
Обычно нам предлагают считать, что мы понимаем сильные концептуальные изменения или глубокие
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
477 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
477

контрасты, если признаем некоторые хорошо известные примеры. Иногда какая-нибудь идея — типа идеи
одновременности в теории относительности — приобретает такое важное значение, что с ее появлением
целая область науки начинает рассматриваться с совершенно новой точки зрения. Бывает, что пересмотр
списка предложений, ранее считавшихся истинными в некоторой дисциплине, является настолько
существенным, что входящие в них термины изменяют свое значение. Языки, которые развивались во
временной и пространственной дистанции, могут сильно различаться в способах обращения с тем или иным
уровнем явлений. Что легко входит в один язык, может с трудом входить в другой, и это различие
отзывается несходством стилей и ценностей. (1, с. 144-145)
Может быть предложена также альтернативная идея, заключающаяся в том, что любой язык будто бы
искажает реальность, но ведь это подразумевает, что только бессловесное сознание способно постигать
вещи так, как они реально существуют. Такое понимание языка как инертного посредника (хотя и
вносящего «искажения»), независимого от человеческой деятельности, нам не следует поддерживать. Кроме
того, если само сознание может без искажений соприкоснуться с реальностью, то оно не должно иметь
категории и понятия, а эта бескачественность нам хорошо известна из теорий, расположенных на
совершенно другой части философского ландшафта. Среди них, например, есть теории, предполагающие,
что свобода состоит из решения, принятого независимо от всех желаний, привычек и склонностей человека.
К ним следует также отнести теории знания, в которых считается, что сознание может обозревать
тотальность своих собственных восприятий и идей. В обоих случаях понимание сознания в отрыве от
конституирующих его черт является следствием определенного способа рассуждений, но такого способа,
который сам побуждает нас отвергнуть его предпосылки.
Мы можем отождествить концептуальные схемы с языками, а это предполагает (учитывая, что несколько
языков могут выражать одну и ту же схему) взаимопереводимость языков. Не следует мыслить языки
отделимыми от сознания, поскольку владение языком не является тем психологическим свойством, которое
человек может утратить, сохраняя при этом способность мыслить. Поэтому нет никакой возможности занять
преимущественную позицию для сравнения концептуальных схем, временно отбрасывая свою собственную.
Можем ли мы тогда сказать, что два человека имеют раз-
926
личные концептуальные схемы, если они говорят на языках, которые не поддаются взаимному переводу? (1,
с. 146-147)
Взаимозависимость убеждения и значения проистекает из взаимозависимости двух аспектов интерпретации
речевого поведения: приписывания говорящему убеждений и интерпретации предложений. Ранее мы
заметили, что можем объединить концептуальные схемы с языками вследствие их зависимости друг от
друга. Теперь мы можем сформулировать это положение более строгим образом. Будем считать, что речь
человека может интерпретироваться только тем, кто хорошо знает убеждения говорящего (или того, чего тот
хочет, намеревается сделать). Тонкие различения убеждений невозможно произвести без понимания речи.
Но как в таком случае нам следует интерпретировать речь или производить приписывание убеждений и
других установок? Ясно, что мы должны иметь теорию, которая одновременно объясняет установки и
интерпретирует речь. (1, с. 156-157)
То, что некоторые предложения кем-то считаются истинными, есть, таким образом, вектор двух сил:
проблема интерпретации должна суммировать имеющуюся в наличии рабочую теорию значения и
приемлемую теорию убеждений. (1, с. 157)
Наш метод задуман не для того, чтобы исключить разногласия, да он и не может этого сделать. Его цель —
сделать возможным осмысленное разногласие, а это полностью зависит от наличия некоторого основания в
согласии. Согласие либо принимает форму совместного полагания предложений истинными говорящими на
«одном и том же языке», либо будет в большой степени опосредствовано теорией истины, принимаемой
интерпретатором для говорящего на другом языке.
Поскольку доверие (charity) является не просто свободным выбором, а условием для того чтобы иметь
работоспособную теорию, бессмысленно полагать, будто, одобряя его, мы делаем серьезную ошибку. До тех
пор, пока мы не имеем систематической корреляции предложений, истинных для говорящего, с
предложениями, истинными для интерпретатора, мы вообще не делаем никакой ошибки. Доверие
воздействует на нас, хотим мы этого или нет, и если мы стремимся понимать других, мы должны считать их
правыми по существу. Создав теорию, которая согласовывает доверие и формальные условия для теории,
мы сделаем все, что может быть сделано для обеспечения коммуникации. Больше невозможно, да ничего
больше и не требуется.
Мы придаем максимум смысла словам и мыслям других, когда интерпретируем их способом,
оптимизирующим согласие, которое предусматривает место и для эксплицируемой ошибки, т. е. разницы во
мнениях. Остается ли тогда место для концептуального релятивизма? Ответ, я думаю, заключается в том,
что нам следует сказать по поводу различия в концептуальных схемах то же самое, что уже было сказано о
различиях в убеждениях: мы проясняем различие схем или убеждений, если разделяем базис переводимого
языка или одинаковых убеждений, между которыми нельзя провести четкой границы. <...> (1, с. 158)
Отбрасывая свою зависимость от понятия неинтерпретируемой реальности как чего-то находящегося вне
всех схем и науки, мы не отказываем-
927
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
478 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
478

ся от понятия объективной истины. Напротив, как раз приняв догму дуализма схемы и реальности, мы
получаем концептуальный релятивизм и относительность истины к схеме. Без этой догмы релятивизм
остается в стороне. Конечно, истина предложений является относительной к языку, но она объективна
насколько это возможно. Отказываясь от дуализма схемы и реальности, мы не отбрасываем мир, а
восстанавливаем непосредственный доступ к знакомым объектам, чьи «гримасы» делают наши предложения
и убеждения истинными или ложными. (1, с. 159)
Общение и конвенциональность
<...> мы можем полностью описать язык, определив, что такое значимое выказывание и что означает каждое
фактическое или потенциальное высказывание. Но такие определения подразумевают априорное наличие у
нас знания того, что же мы имеем в виду, когда говорим, что данное высказывание имеет данное конкретное
значение. Чтобы пролить свет на эту проблему — традиционную проблему значения, — нам потребуется
осветить связь между понятием «значение» и убеждениями, желаниями, намерениями и целями. Именно
обеспечение связи (или связей) между лингвистическими значениями, с одной стороны, и установками и
действиями людей, описываемыми в нелингвистических терминах, с другой, является той областью, в
которой конвенции должны прежде всего играть свою роль.
В этом отношении существует много различных теорий, которые я подразделяю на три группы. Во-первых,
это теории, утверждающие конвенциональный характер связи произносимого предложения, стоящего в том
или ином грамматическом наклонении, с намерениями говорящего или с какой-либо более общей целью.
Во-вторых, это теории, анализирующие конвенциональный характер каждого предложения. В-третьих, это
теории, доказывающие наличие конвенции, связывающей конкретные слова с экстенсией или интенсией. (2,
с. 214)
Объект нашего поиска — это неязыковые намерения, присутствующие в высказываемых фразах, то есть их
скрытые цели (это понятие можно соотнести с тем, что Остин называл перлокуционными актами —
perlocutionary acts).
<...> высказывания всегда обладают скрытой целью <...> Действие можно назвать языковым только в том
случае, если для него существенно буквальное значение. Но там, где существенно значение, всегда имеется
скрытая цель. Говорящий всегда нацелен на то, чтобы, скажем, дать указание, произвести впечатление,
развеселить, оскорбить, убедить, предупредить, напомнить и т. д. Можно говорить даже с единственной
целью утомить своих слушателей, но никогда — в надежде на то, что никто не будет пытаться уловить
значение вашей речи.
Если я прав относительно того, что каждый случай использования языка характеризуется скрытой целью, то
человек всегда должен стремиться достичь какого-то неязыкового эффекта, рассчитывая на
соответствующую интерпретацию его слов аудиторией. (2, с. 222-223)
<...> какова должна быть роль конвенций, если они призваны осуществлять связь между неязыковыми
целями высказывания предложения (то
928
есть скрытыми целями) и буквальным значением этого предложения при ero произнесении. Конвенция
должна отбирать — ясным как для говорящего, так и для слушающего способом (причем эта ясность
должна быть намеренной) — те случаи, в которых скрытая цель непосредственно указывает на буквальное
значение. <...> (2, с. 224)
Вместе с тем критерии для определения буквального значения высказываний — теории истинности или
значения высказываний для слушателя — не могут служить опорой при решении вопроса о том, достиг
говорящий своих скрытых целей или нет. Не существует также никакого общего правила, согласно
которому говорящий должен представлять себя обладающим какой-то дальней целью, лежащей за
использованием им слов в каком-то определенном значении и с определенной силой. Конечная цель может
быть, а может и не быть очевидной; она может способствовать определению слушателем буквального
значения, а может и не способствовать этому. (2, с. 225-226)
Согласно Дэвиду Льюису, конвенция есть регулярность в действиях (или в действиях и убеждениях),
причем включенными в эту регулярность должны быть минимум два человека. Регулярность R обладает
следующими свойствами:
1. Каждый человек, включенный в R, подчиняется R.
2. Каждый человек, включенный в R, верит, что другие также подчиняются R.
3. Убежденность в том, что другие подчиняются R, дает остальным людям, включенным в R,
достаточные основания подчиняться R.
4. Все заинтересованные стороны желают, чтобы существовала подчиненность R.
5. R не единственная возможная регулярность, отвечающая двум последним требованиям.
6. Каждый человек, включенный в R, знает свойства 1 — 5 и знает, что все остальные также их знают и
т.п. (2, с. 227-228)
На какой же предмет должна с необходимостью заключаться конвенция? Это не может быть требование,
чтобы и говорящий, и слушатель, произнося одни и те же фразы, придавали бы им одно' и то же значение,
поскольку такое единообразие, хотя, возможно, весьма распространенное, не является обязательным для
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
479 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
479

общения. Каждый говорящий может говорить на своем особом языке, но это не будет препятствовать
общению, коль скоро каждый слушатель понимает того, кто говорит.
Вполне может быть, что каждому говорящему с самого начала будет свойственно говорить в уникальной,
лишь ему одному присущей манере (что, безусловно, похоже на фактическое положение дел). У разных
говорящих разный набор имен собственных, разный словарь и до какой степени разные значения, которые
придаются словам. В некоторых случаях это снижает уровень понимания людьми друг друга, но так
происходит совсем не обязательно: как интерпретаторы мы с успехом даем правильную интерпретацию
словам, которые мы никогда раньше не слышали, или словам, которые мы никогда не встречали в
значениях, придаваемых им говорящим.
929
Следовательно, общению не требуется, чтобы говорящий и слушатель подразумевали под одними и теми же
словами одно и то же, в то время как конвенция предполагает единообразное со стороны по крайней мере
двух людей. Тем не менее остается еще один аспект необходимого согласия: при успешном общении
говорящий и слушатель должны вкладывать в слова говорящего одно и то же значение. Далее, как мы уже
видели, говорящий должен иметь намерение вызвать у слушателя такую интерпретацию своих слов, какую
он сам намеренно в них вкладывает, и иметь достаточно оснований считать, что слушатель справится с этой
задачей. Как говорящий, так и слушатель справится с этой задачей. Как говорящий, так и слушатель должны
быть уверены, что говорящий говорит именно с таким намерением и т. д.
Короче, многие из положений Льюиса выглядят обоснованными. Правда, в этом случае понятия практики и
конвенции приобретают весьма размытый смысл, далеко отстоящий от обычного понятия совместной
практики.
Тем не менее здесь есть возможность настаивать на том, что именно такой взаимосогласованный метод
интерпретации является конвенциональной сердцевиной языкового общения. (2, с. 228-229)
Таким образом, знание языковых конвенций является практической подпоркой для интерпретации,
подпоркой, без которой мы не в состоянии обойтись в реальной жизни. Однако в оптимальных условиях
общения мы можем в конце концов отбросить эту подпорку, а теоретически мы могли бы обойтись без нее с
самого начала.
Факт повсеместного применения радикальной интерпретации (иными словами, факт использования
шаблонного метода интерпретации в качестве полезного отправного пункта в понимании нами говорящего)
скрыт от нас многими вещами, и прежде всего тем, что синтаксис значительно более социален, чем
семантика. Упрощенно говоря, причина этого заключается в следующем: скелетом того, что мы называем
языком, является шаблон умозаключений и структур, образуемый логическими константами. Если мы
вообще можем применять к говорящему общий метод интерпретации — то есть если возможно хотя бы
начальное понимание говорящего на основании подобия его и нашего языков, — это может происходить
только благодаря тому, что мы можем подходить к его структурообразующим механизмам как к своим
собственным. Это позволяет фиксировать логическую форму его предложений и определять части речи. (2,
с. 231-232)
Такое представление о процессе интерпретации позволяет увидеть проблемы приложения формальных
методов к естественным языкам в новом свете. Оно помогает понять, почему с наибольшим успехом
формальные методы применяются в синтаксисе: здесь, по крайней мере, есть все основания ожидать, что
одна и та же модель будет работать для целого ряда говорящих. К тому же нет видимых причин, в силу
которых каждый гипотетический метод интерпретации не мог бы стать формальной семантикой для того,
что упрощенно можно назвать языком.
Чего мы, однако, не можем ожидать, так это формализации рассуждений, посредством которых индивид
приспосабливает свои теории интерпретации к потоку новой информации. <...> (2, с. 232)
930
<...> Как убеждения, желания, намерения — это условия существования языка, так и язык является
условием для их существования. Однако возможность приписания тому или иному существу убеждений и
желаний есть условия для того, чтобы иметь с ним общие конвенции. Но если изложенные в данной статье
мысли верны, конвенция не является условием существования языка. Поэтому я считаю, что философы,
рассматривающие конвенцию как необходимый элемент языка, ставят все с ног на голову: на самом деле
язык есть условие для выработки конвенций. (2, с. 232-233)
ДЖОН СЕРЛ. (Род. 1932)
Дж. Серл (Searle) — американский философ, представитель аналитического направления в современной
западной лингвистической философии, родился в г. Денвер, США. С 1959 года — профессор
Калифорнийского университета. Как философ Серл сформировался под влиянием Д. Остина, в частности
его теории «речевых актов». Философию языка рассматривает как часть философии сознания. По Серлу,
философское исследование языка есть исследование правил деятельности по употреблению языковых
выражений, а любое действие человека берет начало в его сознании — в его намерениях, желаниях,
полаганиях. Дальнейшее развитие теории речевых актов он связывает с понятиями интенциональности и
иллокутивного акта (утверждения, вопроса, приказания, обещания). Серл считает, что концептуальные
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
480 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
480
