Микешина Л.А. (Сост.) Философия науки. Хрестоматия
Подождите немного. Документ загружается.


(нравственных, ценностных, эмоциональных и пр.) оснований и форм духовной жизни, культуры в целом.
Таким образом, истолкование философской рефлексии как специфического метода философского
мышления дает возможность более широко
436
поставить проблему метода в философии. Вместе с тем при таком подходе к методу философского познания
историю философии можно изобразить как историю углубления самосознания и самопознания человеческой
культуры, как восхождение на все более высокие уровни такого самосознания. А это, несомненно, более
широкая и плодотворная точка зрения, чем та, которая представляет философию и ее историю как историю
ошибок в истолковании растущего фонда «позитивных» научных знаний. Принятие этого тезиса позволяет
построить целостное изображение развития философии как процесса углубления и расширения
философской проблематики на основе углубления философского метода и, наоборот, совершенствования
метода на основе развития проблематики (С. 104-105). <...>
Будучи теоретическим самосознанием эпохи, философия, естественно, делает одним из важных объектов
своего анализа и науку — важнейший компонент духовной жизни современного общества. Более того,
философию роднит с наукой и общность ряда фундаментальных принципов, характеризующих строение и
логическую структуру всякого теоретического знания. Вместе с тем философия, как мы старались показать,
ни по объекту, ни по некоторым существенным характеристикам получаемого ею знания не тождественна
специальным наукам или даже их совокупности. Отсюда следует, что и функции философии в развитии
научного познания являются специфическими. Ее отношение к науке не является просто метанаучным, как
это имеет место, например, в науковедении, социологии науки или в таких научно-методологических
направлениях и концепциях, как структурализм, общая теория систем и т.п. (С. 108-109).
Это интегральное представление можно конкретизировать в виде трех основных функций философии по
отношению к научному познанию: во-первых, функции чисто конструктивного исследования предпосылок и
условий, лежащих в основании данного типа научного мышления; во-вторых, функции определения
исторически конкретных границ научного познания при данном способе его организации, т.е. выявления тех
социально-культурных и гносеологических рамок, в которых движется данная форма организации науки; в-
третьих, функции выявления того типа социально-практической ориентации, который определяется тем или
иным местом науки в системе культуры. Продуктом выполнения первой из этих функций является
представление о категориальном строе научного мышления и о принятых в нем принципиальных схемах
объяснения; продуктом реализации второй — предельная характеристика совокупности проблем, доступных
научному познанию на данном его уровне, т.е. установление для этого уровня критерия различения
научного и ненаучного знания; продуктом выполнения третьей — функциональная характеристика науки
как социально-культурного феномена, выявление ее роли в решении мировоззренческих проблем и, в
частности, анализ нравственных аспектов развития и применения науки. Легко видеть, что реализация всех
этих функций позволяет философии играть не столько негативную, сколько эвристически-конструктивную
роль в движении научного познания (С. 109-110).
РИЧАРД РОРТИ. (Род. 1931)
Р. Рорти (Rorty)— современный американский философ, профессор университета Вирджинии и
Стэнфордского университета. Резко критикуя современный облик философии, Рорти противопоставляет ему
философский синтез идей Дьюи, Гегеля и Дарвина, соединяя идеи историцизма и натурализма в новой
версии прагматизма — эпистемологическом бихевиоризме.
Основной объект критики Рорти — современная теория познания — «репрезентативизм», укорененный в
философском проекте Нового времени с его базовыми понятиями истины, объективности, бытия,
дихотомиями «объективное — субъективное», «видимость — реальность», «открытое — изобретенное» и
идеей обоснования знания. По мнению Рорти, в основе репрезентативизма и обосновывающей его
корреспонденткой теории истины лежит «зеркальная» метафора, порождающая заблуждение о возможности
получения единственного истинного описания действительности, независимого от позиции исследователя.
Традиционные философские дихотомии в очень большой степени зависят от контекста употребления, а вне
его превращаются в голые абстракции. Рорти предлагает заменить корреспондентную теорию истины
инструменталистской доктриной, в рамках которой знание будет оцениваться не с точки зрения истинности
или ложности, а в категориях полезного или бесполезного и лучшего для конкретных целей человеческого
сообщества, а эпистемология в качестве особого проекта обоснования знания должна уступить свое место
культурной политике.
Наука, с точки зрения Рорти, не дает нам привилегированного словаря для описания действительности. Она
— всего лишь одна из многих культурных форм приспособления человека к окружающему миру. В этом
ракурсе становятся излишними проблемы метода науки и дихотомии наук о природе и наук о духе. Новая
задача философии, как она представляется Рорти, — это осознание причастности к ценностям сообщества, в
котором мы живем (для Рорти это демократические ценности американского общества), случайным по
своей природе, так как представляют собой иронический этноцентризм и герменевтическую по своей сути
коммуникацию несоизмеримых вер.
Основные философские работы: Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton University Press,
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
231 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
231
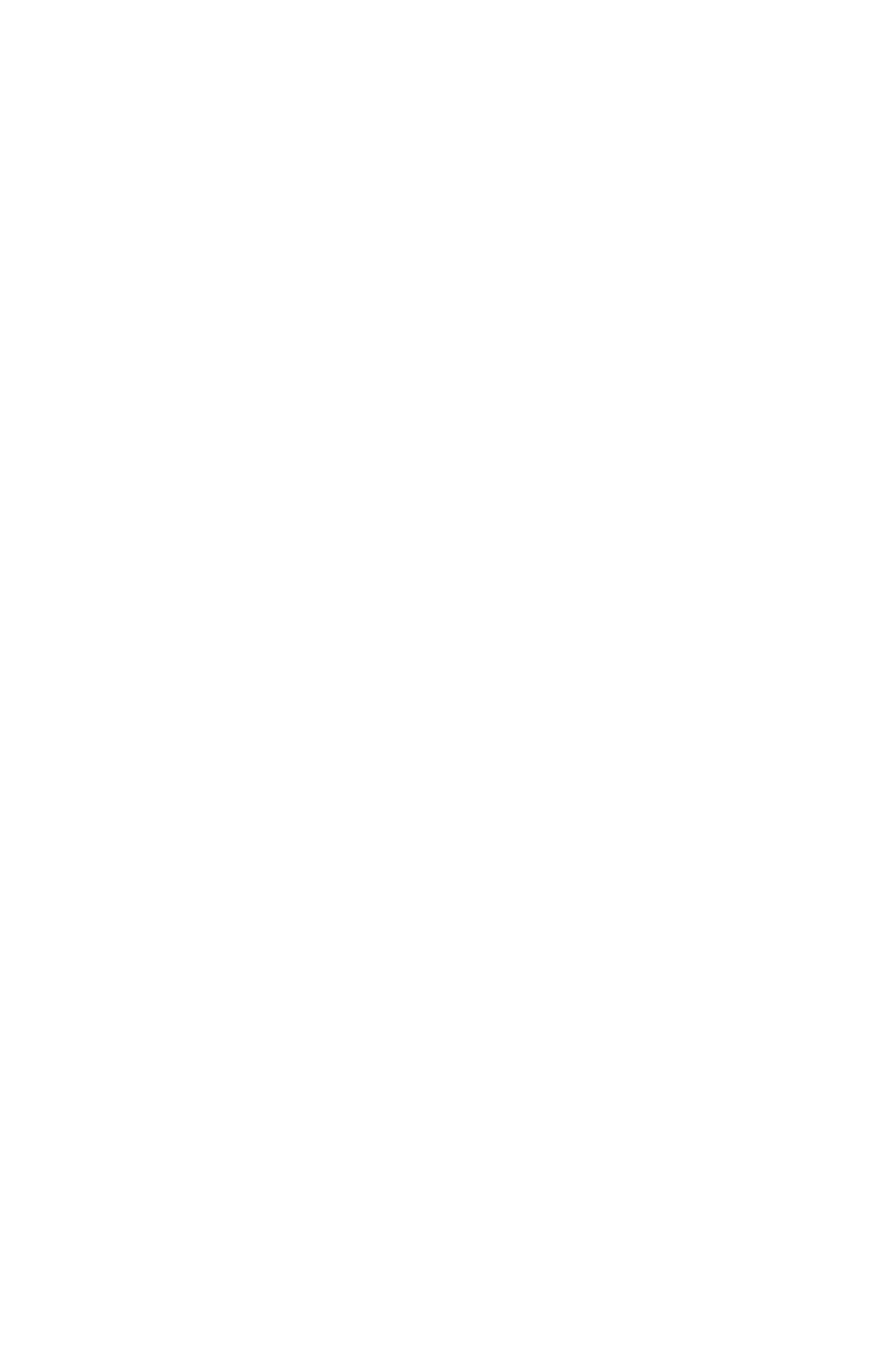
1979 («Философия и зеркало природы»). Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota
438
Press, 1982 («Следствия прагматизма»). Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University
Press, 1989 («Случайность, ирония и солидарность»).
О.В. Вышегородцева
До сих пор я говорил о «нас, так называемых релятивистах» и о «нас, антиплатониках». Теперь я должен
говорить более конкретно и назвать некоторые имена. Как я сказал в самом начале, та группа философов,
которую я имею в виду, связана с традицией постницшеанской европейской философии, а также с
традицией постдарвиновской американской философии, с традицией прагматизма. Среди великих имен
первой традиции — Хайдеггер, Сартр, Гадамер, Деррида, Фуко. Среди великих имен второй традиции —
Джемс, Дьюи, Кун, Куайн, Патнэм, Дэвидсон. Всех этих философов яростно обвиняли в релятивизме.
Обе традиции попытались поставить под сомнение кантовско-гегелевское различение субъекта и объекта,
точнее говоря, те картезианские различения, исходя из которых Кант и Гегель формулировали свои
проблемы, и те еще греческие различения, которые легли в основу философии Декарта. Самое важное, что
объединяет великие имена обеих традиций и сами эти традиции, — это подозрительное отношение к одним
и тем же греческим различениям (оппозициям), к тем различениям, которые делают возможными,
естественными и почти неизбежными вопросы вроде: «Это найдено или сделано?» — «Это абсолютно или
относительно?» — «Это реальное или кажущееся?»
Но прежде чем продолжить разговор о том, что объединяет эти две традиции, я должен сказать немного о
том, что их разделяет. Хотя европейская традиция многим обязана Дарвину (воздействие которого шло
через Ницше и Маркса), европейские философы характерным образом проводили весьма жесткое
различение между деятельностью ученого-эмпирика и деятельностью философа. Философы этой традиции
часто пренебрежительно отзываются о «натурализме», «эмпиризме», «редукционизме». Они иногда
осуждают современную англоязычную философию, не вникнув в нее, потому что думают, что она заражена
названными болезнями.
Американская прагматистская традиция, напротив, ставит себе в заслугу то, что она сломала перегородки
между философией, наукой и политикой. Представители этой традиции часто называют себя
«натуралистами», хотя и отказываются признавать себя «редукционистами» или «эмпириками». Их критика
— как в адрес традиционного британского эмпиризма, так и в адрес сциентистского редукционизма,
характерного для Венского кружка, — заключается как раз в том, что обе названные традиции недостаточно
«натуралистичны». На мой взгляд (быть может, окрашенный шовинизмом), мы, американцы, более
последовательны, чем ев-
Приводимый текст взят из работы:
Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский
контекст. М, 1997. С. 18-33.
439
ропейцы. Потому что американские философы осознали, что представление о некоей особой деятельности
под названием «философия», автономной в рамках остальной культуры, — такое представление оказывается
сомнительным, когда ставится под сомнение тот язык, тот словарь, который господствовал в этой
деятельности. Когда исчезают платоновские дихотомии, различие между философией и остальной
культурой оказывается под угрозой.
Другое различие между двумя традициями заключается в том, что европейцы в свойственной им манере
провозглашали тот или иной новый, постницшеанский «метод», под знамена которого призывались все
философы. Так, ранний Хайдеггер и ранний Сартр говорили о «феноменологической онтологии», а поздний
Хайдеггер о чем-то довольно таинственном и чудесном, что называется «Мышлением» (Denken). У
Гадамера — это «герменевтика», у Фуко — «археология знания» и «генеалогия». Только Деррида как будто
избежал подобного соблазна. Его «грамматология» была скорее мимолетным капризом, причудой, нежели
серьезной попыткой провозгласить некий новый философский метод или новую философскую стратегию.
В отличие от европейцев, американцы не очень увлекались провозглашением новых методов. Правда, Дьюи
много говорил о привнесении в философию «научного метода», но он так никогда и не смог объяснить, в
чем именно заключается этот метод и что именно он должен был добавить к традиционным добродетелям
философа: любознательности, открытости и способности к диалогам. Джемс иногда говорил о
«прагматическом методе», но это означало в основном лишь настойчивое повторение антиплатоновского
вопроса: «Имеют ли наши провозглашенные теоретические расхождения какое-либо значение для нашей
практики?» Подобное упорство было не столько применением некоего метода, сколько просто
последовательным проведением скептического подхода к традиционным философским проблемам и
вокабулам. Куайн, Патнэм и Дэвидсон — все трое — носят ярлык «аналитический философ», но никто из
них не помышляет о себе как о приверженце метода под названием «концептуальный анализ» или еще
какого-нибудь метода. Так называемый «постпозитивистский» вариант аналитической философии,
созданию которого способствовали эти три философа, примечателен именно свободой от какого-либо
методопоклонства (methodolatry).
Различные современные продолжатели прагматистской традиции не очень склонны настаивать ни на особой
природе философии, ни на том, что философия якобы занимает выдающееся место в культуре в целом.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
232 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
232

Никто из этих продолжателей не считает, что философы размышляют или должны размышлять неким
весьма особым образом, не так, как, например, физики или политики. Они, эти продолжатели, все согласны
с Томасом Куном в том, что наука, как и политика, — это решение проблем. О самих себе они были бы
готовы сказать, что они решают философские проблемы. Но главная проблема, которую они хотят
разрешить, — это происхождение тех проблем, которые завещаны нам философской традицией: почему,
спрашивается, стандартные философские проблемы, из-
440
вестные нам по учебникам, столь интригующи и столь бесплодны? Почему философы — сегодня, как и во
времена Цицерона — спорят, не приходя ни к каким бесспорным заключениям, ходят все по тем же
диалектическим кругам, ни в чем не убеждая друг друга, но тем не менее привлекая к себе студентов?
Этот вопрос, вопрос о природе тех проблем, которые мы получили в наследство от греков, Декарта, Канта и
Гегеля, приводит нас обратно к различению «найденного» и «сделанного» («выдуманного»). Названная
философская традиция утверждает, что эти проблемы найдены (found), т.е. что на них неизбежно натыкается
любой размышляющий ум. Традиция же прагматизма настаивает на том, что они, эти проблемы, сделаны
(made), что они скорее искусственны, чем естественны, и что они могут быть переделаны, сведены на нет
(unmade), если использовать иной словарь, иной язык — не те, которыми пользовалась названная
философская традиция. Но само это различение «найденного» и «сделанного», «естественного» и
«искусственного», как я уже сказал, совсем не устраивает прагматистов. Поэтому, с их точки зрения, лучше
просто сказать, что тот язык, на котором сформулированы традиционные проблемы западной философии,
был полезен в свое время, но уже перестал быть таковым. Подобная формулировка позволяет избежать
утверждений, которые могут быть поняты в том смысле, что, мол традиция имела дело с проблемами,
которых на самом деле нет и не было, а мы, прагматисты, обращаемся к проблемам, которые реально
существуют.
Конечно же, мы, прагматисты, так сказать не можем. Потому что мы отвергаем различение «реальное»-
«кажущееся», как и различение «най-денное»-«сделанное». Мы надеемся заменить различение «реаль-ное»-
«кажущееся» различением «более полезное»-«менее полезное». Поэтому мы говорим, что язык греческой
метафизики и христианской теологии — язык, который использовала (говоря словами Хайдеггера)
«онтотеологическая традиция», — этот язык был полезен для целей наших предков, но у нас теперь другие
цели, для которых нужен другое язык. Наши предки взбирались по лестнице, которую мы теперь можем
отбросить.
Но не потому, что мы достигли некой конечной точки, где можно почивать на лаврах, а именно потому, что
у нас теперь иные проблемы, нежели те, что занимали наших предков.
До сих пор я описывал отношение прагматистов к их оппонентам и те трудности, с которыми они, т.е.
прагматисты, сталкиваются, стараясь избежать использования тех терминов, которые бы вновь приводили к
тем же самым проблемам. Теперь я хотел бы описать несколько более подробно, как выглядит человеческое
познание с точки зрения прагматизма, т.е. как оно выглядит, если не рассматривать его как попытку
соотнестись с истинной сущностью реальности, а начать рассматривать его как стремление обеспечить
преходящие интересы и разрешить преходящие проблемы.
Прагматисты надеются порвать с тем представлением (the picture), которое, по словам Витгенштейна, «берет
нас в плен», т.е. с картезианско-лок-
441
ковским представлением о сознании (a mind), стремящемся войти в контакт с внешней реальностью.
Поэтому прагматисты исходят из Дарвинова описания человеческих существ как неких животных, которые
стараются как можно лучше приспособиться к окружающей среде, совладать с нею, стараются создать такие
инструменты, которые бы позволяли испытывать как можно больше удовольствий и как можно меньше
страданий. Слова — это тоже инструменты, созданные этими умными животными.
Инструменты никак не могут лишить нас контакта с реальностью. Что бы ни представлял из себя
инструмент (будь это молоток, или ружье, или верование, или некое утверждение), использование
инструмента — это часть взаимодействия организма с окружающей средой. Если мы будем рассматривать
использование слов как использование неких инструментов для взаимодействия с окружающей средой, а не
как попытки представить и обозначить некую истинную сущность этой среды, то мы таким образом
избавимся, отрешимся от вопроса, может ли человеческий разум войти в контакт с реальностью, — вопроса,
который задает эпистемологический скептик. Все организмы — человеческие или нечеловеческие — в
одинаковой степени находятся в контакте с реальностью. Сама мысль о том, что некто может быть «вне
контакта с реальностью», подразумевает не-дарвиновское, картезианское представление о сознании (a mind),
которое каким-то образом освободилось от того причинно-следственного мира, в котором существует тело.
Согласно картезианским взглядам, сознание — это некая сущность, чьи отношения с остальной Вселенной
не причинно-следственны, а лишь репрезентационны (representational). Чтобы освободить наше мышление
от остатков картезианства, чтобы стать вполне дарвинистами в нашем мышлении, мы должны перестать
относиться к словам как к репрезентациям (образам) и рассматривать их как узловые пункты в той общей
сети причинно-следственной связи, которая охватывает и организм, и окружающую среду.
Такой биологизирующий (biologistic) подход к языку и мышлению, подход, который с недавнего времени
стал популярным благодаря работам Умберто Матураны и других, позволяет нам отбросить представление о
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
233 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
233

человеческом сознании как о некоем внутреннем пространстве, в котором располагается человеческая
личность. Как утверждает американский философ Дэниел Дэннетт, именно подобное представление, именно
этот «Картезианский Театр», заставляет нас полагать, что есть такая большая философская и научная
проблема — проблема природы сознания или происхождения сознания. Взамен этому «Картезианскому
Театру» мы можем предложить иное представление о взрослом человеческом организме. Поведение такого
организма столь сложно, что его можно предсказать, лишь приписав организму некие интенциональные
состояния — верования и желания. С данной точки зрения верования и желания — это не какие-то
доязыковые модусы сознания, которые могут быть выражены, а могут быть и невыразимы языком. Эти
верования и желания не являются также именами для каких-либо нематериальных событий. Скорее их
следует считать тем, что на философском жаргоне называется «фразовыми установками» («sentential atti-
442
tudes»), т.е. установками, склонностями организма (или компьютера) утверждать или отрицать
определенные фразы (sentences). Приписывать верования и желания существам, не владеющим языком
(таким, как собаки, младенцы и термостаты), — это значит, с точки зрения прагматистов, прибегать к
метафоре.
Прагматисты дополняют этот биологизирующий подход определением верования, которое дал в свое время
Чарльз Пирс: верование — это привычка действовать определенным образом. Согласно этому определению,
приписывать кому-либо какое-либо верование — это значит всего лишь утверждать, что данная личность
будет склонна вести себя так же, как и я, если и когда я буду готов принимать истинность соответствующего
утверждения (sentence). Мы приписываем верования таким объектам, которые высказывают утверждения
(или по крайней мере могли бы это делать), но не камням и растениям. И это не потому, что названные
объекты имеют некий особый орган или особую способность по имени «сознание» (consciousness), которой
нет у камней и растений, но всего лишь потому, что поведение камней и растений гораздо проще и может
быть предсказано без того, чтобы приписывать им «фразовые установки».
С такой точки зрения, когда мы произносим фразу вроде «Я голоден», мы не выносим наружу то, что
прежде было внутри нас, но просто помогаем окружающим предсказать наши последующие поступки.
Подобные фразы — это не сообщения о событиях, происходящих в запечатанном внутреннем пространстве
человеческого сознания. Такие фразы — просто инструменты, координирующие наше поведение с
поведением других. Это не значит, что можно «редуцировать» такие состояния сознания, как верования и
желания, к состояниям физиологическим и поведенческим. Мы всего лишь говорим, что нет смысла
спрашивать, верно ли данное верование отражает некую реальность, будь то реальность ментальная или
реальность физическая. Для прагматистов это не просто дурной вопрос, но еще и причина пустой траты
большого количества философской энергии.
Правильный вопрос звучит так: «Для каких целей было бы полезно придерживаться такого верования?»
Этот вопрос подобен другому: «Для каких целей было бы полезно загрузить эту программу в мой
компьютер?» Согласно той точке зрения, которую я излагаю, тело человека подобно компьютеру, его
hardware, а верования и желания человека аналогичны программному обеспечению компьютера, его
software. Никого не волнует вопрос о том, верно или нет данное software отражает реальность. Важно то,
способно ли данное software наиболее эффективно выполнить определенную задачу. Аналогичным образом
прагматист полагает, что в случае наших верований следует спрашивать не о том, как они отражают
реальность, но о том, представляют ли они собой наилучшие привычки поведения для удовлетворения
наших желаний.
С такой точки зрения утверждать, что данное верование, насколько мы можем судить, истинно, это значит
утверждать, что никакое другое верование, насколько нам известно, не представляет лучшей привычки
поведения. Когда мы говорим, что наши предки верили — и верили ошибочно, — что
443
Солнце вращается вокруг Земли, а мы верим правильно, что Земля вращается вокруг Солнца, мы
утверждаем тем самым, что у нас есть инструмент лучше, чем у наших предков. Наши предки могли бы
возразить, что их инструмент позволял им верить в буквальную истинность христианского Священного
писания, в то время как наши верования уже не дают такой возможности. На это, я полагаю, мы должны
ответить, что выгоды современной астрономии и космонавтики перевешивают преимущества христианского
фундаментализма (fundamentalism).
Спор между нами и нашими предками должен идти не о том, кто из нас правильней понял Вселенную. Спор
— о том, ради чего принимаются те или иные взгляды на движение небесных тел, о том, какие цели
достигаются при использовании тех или иных инструментов. Подтверждение истинности Священного
писания - это одна цель, космические путешествия - другая. Ту же мысль можно выразить и иначе, сказав,
что мы, прагматисты, видим мало смысла в традиционной постановке задачи: искать истину ради нее самой.
Мы не можем считать истину целью познания (inquiry). Задача познания - достигать согласия между людьми
относительно того, что им следует делать; достигать консенсуса относительно тех целей, к которым следует
стремиться, и тех средств, которыми следует пользоваться для достижения этих целей. Познавательные
усилия, которые не приводят к координации поведения, — это вовсе и не познавательные усилия, это просто
игра словами. Предлагать определенную теорию микромира или определенную теорию о наилучшем
распределении полномочий между ветвями власти — это значит предлагать определенный план действий:
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
234 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
234

как использовать имеющиеся у нас инструменты, чтобы двигать вперед технический или политический
прогресс. Таким образом, для прагматистов нет резких водоразделов между естественными науками и
науками общественными, между общественными науками и политикой, между политикой, философией,
литературой. Все сферы культуры — это составляющие единого усилия сделать жизнь лучше. Нет и
существенной разницы между теорией и практикой, потому что, с точки зрения прагматиста, любая так
называемая «теория», если она не сводится к игре словами, всегда и есть практика.
Такой подход к верованиям не как к отражениям (representations), а как к привычкам поведения, и такой
подход к словам как к инструментам делают бессмысленным вопрос (о котором шла речь раньше): «Я
открываю или выдумываю, нахожу или делаю?» Нет никакого смысла делить взаимодействие организма со
средой подобным образом. Рассмотрим такой пример. Мы обычно говорим, что банковский счет — это
скорее некая социальная конструкция, чем объект природного мира, в том время как жираф, напротив,
скорее объект природного мира, чем социальная конструкция. Банковские счета делаются, создаются;
жирафы находятся, обнаруживаются. В этом утверждении верно то, что, не будь людей, жирафы все равно
были бы, а банковских счетов не было бы. Но эта причинно-следственная независимость жирафов от людей
не означает, что жирафы суть то, что они суть, вне всякой зависимости от человеческих потребностей и
интересов.
444
Напротив, мы описываем жирафов определенным образом, как именно жирафов, исходя из наших
потребностей и интересов. В нашем языке есть слово «жираф», потому что это отвечает нашим
потребностям. То же самое относится и к таким словам, как «орган», «клетка», «атом» и так далее — т.е. к
названиям тех частей, из которых, так сказать, сделаны жирафы. Все описания, которые мы даем вещам,
отвечают нашим потребностям. Прагматисты полагают, что нет смысла в утверждении, будто какие-то из
этих описаний более истинны, более соответствуют самой природе вещей. Граница между жирафом и
окружающим воздухом достаточно ясна, если вы человек и заинтересованы в охотничьей добыче. Но если
вы, например, говорящий муравей, или амеба, или космический путешественник, наблюдающий за Землей
издалека, разница между «жирафом» и «не-жирафом» будет не столь ясна, и еще неизвестно, нужно ли вам
будет в вашем языке слово «жираф». Говоря в более общей форме, отнюдь не очевидно, что какой-либо из
миллионов способов описывать кусок пространственно-временного континуума, занимаемого тем, что мы
называем «жирафом», — отнюдь не очевидно, что какой-то один из этих способов ближе, чем другие, к
тому, как дело обстоит само по себе. Нам кажется бессмысленным спрашивать, является ли жираф на самом
деле совокупностью атомов, или же совокупностью актуальных и потенциальных человеческих ощущений,
или чем-либо еще. Столь же бессмыслен, на наш взгляд, и такой вопрос: «Описываем ли мы жирафа так, как
он есть на самом деле?» Что нам действительно надо знать, так это то, не будет ли какое-либо из
альтернативных описаний более полезно для наших целей.
Соотносительность описаний и целей (задач) — это главный довод прагматиста в защиту его
антирепрезентационного (anti-representational) представления о знании, в защиту того мнения, что
познавательные усилия имеют целью скорее нашу пользу, нежели точное описание вещей как они есть сами
по себе. Поскольку любое верование должно быть сформулировано на каком-то языке и поскольку любой
язык — это не попытка скопировать внешний мир, а скорее инструмент для взаимодействия с внешним
миром, нет никакой возможности отделить «вклад в наше знание со стороны самого объекта» от «вклада в
наше знание со стороны нашей субъективности». И слова, которыми мы пользуемся, и наше стремление
делать некоторые утверждения при помощи именно таких, а не иных слов, — все это результат
фантастически сложных причинно-следственных взаимосвязей между человеческими организмами и
остальной Вселенной. Нет никакой возможности так разделить эту сеть причинно-следственных
взаимосвязей, чтобы выявить соотношение субъективного и объективного в человеческих верованиях. Нет
никакой возможности, как говорил Витгенштейн, проникнуть в зазор между языком и его объектом, или,
возвращаясь к примеру с жирафом, нет никакой возможности отделить жирафа самого по себе от нашего
говорения о жирафах. Хилари Патнэм, ведущий современный прагматист, выразился так: «...элементы того,
что мы называем «языком» или «сознанием», так глубоко проникают в то, что мы называем «реальностью»,
что замысел представить нас самих как неких «картографов», изучающих нечто, «независимое от языка», —
сам такой замысел изначально сомнителен».
445
Платоновская мечта о совершенном знании — это мечта об избавлении от всего, что исходит изнутри нас
самих, и предельной открытости навстречу тому, что находится вне нас. Но само это различение
внутреннего и внешнего, как я уже сказал, оказывается невозможным, если и когда мы принимаем
вышеизложенную биологизирующую точку зрения. Если же платоник собирается настаивать на таком
различении, то он получит эпистемологию, которая не будет смыкаться с другими научными дисциплинами.
Он получит теорию знания, которая как бы повернется спиной ко всей остальной науке. Знание станет чем-
то сверхъестественным, чем-то вроде чуда.
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ. (1931 - 1996)
В.А. Смирнов — доктор философских наук, профессор, выдающийся российский логик и методолог науки.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
235 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
235

С 1961 года до конца жизни работал в Институте философии РАН, с 1988 года — зав. сектором логики, с
1992 года — зав. отделом эпистемологии, логики и философии науки и техники, более двадцати пяти лет
был профессором кафедры логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1991 году
становится директором им же организованного Общественного института логики, когнитологии и развития
личности, руководителем Центра логических исследований в ИФ РАН.
Основные результаты Смирнова в области методологии и философии науки определяются применением к ее
проблематике логических методов анализа, нередко им же самим разработанных. Особое внимание Смирнов
уделял анализу научных теорий: способам их построения, введения новых терминов, логической структуре
и сравнению теорий между собой. Им разработан понятийный аппарат, позволяющий осуществлять строго
научный анализ соизмеримости различных теорий. Ряд работ посвящен проблемам философии математики,
в последние годы жизни Смирнов активно интересовался проблемами логики и методологии диагностики в
медицине, в результате появилась коллективная монография «Логика и клиническая диагностика.
Теоретические основы». Обширная научно-педагогическая деятельность Смирнова привела к появлению
Научной школы логики В.А. Смирнова.
В.А.Смирнов был блестящим организатором, с его именем во многом связаны успешное участие делегаций
советских, а затем российских философов в работе Международных конгрессов по логике, методологии и
философии науки; реализация идеи Объединенных международных конференций по истории и философии
науки; организация Всесоюзных, а затем Всероссийских конференций по логике, методологии и философии
науки.
Основные труды Смирнова по методологии и философии науки: «Генетический метод построения научных
теорий» // Философские проблемы
Тексты даны по изданию: Тексты даны по изданию: Логико-философские труды В.А. Смирнова / Под ред.
В.И. Шалака. М, 2001.
447
современной формальной логики. М., 1962; «Проблемы логики и философии математики» // Вопросы
философии. 1980, № 8; «О логических отношениях между теориями» // Идеалы и нормы научного
исследования. Минск, 1981; «Логические методы сравнения научных теорий» // Вопросы философии. 1983,
№ 6; «Творчество, открытие и логические методы поиска доказательств» // Природа научного открытия. М.,
1986; «Логические методы анализа научного знания». М., 1987 (монография); «Логический анализ научных
теорий и отношений между ними» //Логика научного познания: актуальные проблемы. М., 1987; «Логико-
методологическая модель диагноза» // Логика и клиническая диагностика. Теоретические основы. М., 1994.
И.Н. Грифцова
Генетический метод построения научной теории
I
Важнейшей частью метаматематики является раздел, изучающий научные теории. Эту дисциплину вполне
естественно назвать метатеорией. Ясно, что она не тождественна метанауке (иногда такое отождествление
проводится), так же как наука не тождественна научной теории.
Как правило, метатеория строится не для одной содержательной теории — хотя возможна такая метатеория,
- а охватывает определенный класс теорий. Создать единую метатеорию, рассматривающую все возможные
типы теорий - оставляя вопрос о принципиальной возможности открытым, — на данном этапе нельзя.
Выход один - разбить известные теории на ряд классов и дать метатеорию для каждого класса. Очевидно,
что при отсутствии единой метатеории разбиение будет содержательным и не будет претендовать на
полноту. Каковы же мыслимые основания для подобного разбиения?
Первое, что можно предложить, это классификация по научным дисциплинам. Мы можем разделить теории
на математические, физические, химические, лингвистические и т.д. и соответственно строить теорию
математических теорий, теорию физических теорий и т. п. Такое разделение общепризнанно и имеет
определенный практический смысл, так как позволяет особенно четко согласовать задачи метатеоретика с
задачами теоретика данной области. Но в теоретическом плане подобная классификация не выдерживает
критики, так как она основана не на различии между теориями, а на различии предметных областей теорий.
Подобная классификация была бы оправданной, если бы специфическому предмету теории соответствовал
особый тип теории. Из общих соображений скорее напрашивается иной вывод, а именно - структура теорий
разных областей может оказаться одной и той же. Но, повторяем, подобная классификация все же имеет
практическое значение, так как каждую область знания интересует прежде всего теория знания данной
области.
Второй принцип разбиения, который необходимо иметь в виду, - это Уровень строгости теории. Теория в
своем становлении проходит ряд эта-
448
пов, начиная с комплекса общих схематических идей и предпосылок и кончая логически безупречным
построением, элиминирующим все интуитивное. При всей важности такого подхода здесь царит полная
неопределенность. На практике ученый не доводит свою теорию до идеала логики. При знании средств и
путей перехода от «нестрогой» к «строгой» теории эта незавершенность найдет свое оправдание.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
236 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
236

Реальный путь познания - движение от нестрогой к строгой теории, путь же изучения метатеоретика
обратный - от строгой к нестрогой теории.
Наконец, мы должны обратить внимание и на такое основание, как логический тип теории, т.е. на принципы
построения и логические средства научных теорий. Иногда отождествляют всякую строго построенную
научную теорию с аксиоматической системой. На наш взгляд, такое отождествление неправомерно, так как
исторически известны иные - не менее строгие - способы построения научных теорий. Так, ряд крупных
логиков и математиков различают два метода построения математических теорий: аксиоматический и
генетический. <...> С. 417-418.
II
Под аксиоматической теорией понимают научную систему, все положения которой выводятся чисто
логически из некоторого множества положений, принимаемых в данной системе без доказательства и
называемых аксиомами, и все понятия сводятся к некоторому фиксированному классу понятий, называемых
неопределяемыми.
Теория будет определена, если указана система аксиом и совокупность логических средств, применяемых в
данной теории. Для аксиоматической теории такими логическими средствами будут правила вывода.
Производные понятия в аксиоматической теории суть лишь сокращения для комбинации основных.
Допустимость самих комбинаций определяется аксиомами и правилами вывода. Другими словами,
определения в аксиоматических теориях носят номинальный характер. (Вариант, когда аксиоматическая
система строится на основе так называемых реальных определений, сводится к аксиоматической системе с
номинальными определениями и соответствующими аксиомами существования.)
Аксиоматический метод прошел длительную эволюцию. В ряде случаев этапы, им пройденные, не являются
лишь историческими ступенями, а соответствующим образом уточненные представляют различные виды
или уровни аксиоматического метода. Можно вычленить три таких этапа: содержательной, формальной и
формализованной аксиоматик.
Под содержательной аксиоматической теорией понимают теорию относительно некоторой системы
объектов, известной до формулировки теории; аксиомы и выводимые из них теоремы говорят нечто об
объектах изучаемой системы и могут расцениваться как истинные или ложные. Задача аксиоматической
теории состоит в том, чтобы найти такую систему аксиом, чтобы все значимые относительно этой системы
объектов общие положения выводились чисто логически из принятой системы аксиом. В качестве примера
содержательной аксиоматической системы можно привести термодинамику. Метод содержательной
аксиоматики был един-
449
ственной формой аксиоматического метода до последней четверти прошлого столетия.
Новым этапом и соответственно новым уровнем является формальная аксиоматика, систематически
проведенная в «Основаниях геометрии» Д.Гильбертом. При формальной аксиоматике абстрагируются от
конкретного содержания понятий, входящих в систему аксиом, и от природы предметной области. В основу
формальной аксиоматики кладется система аксиом, затем из этих аксиом получают следствия, которые
образуют теорию относительно любой системы объектов, удовлетворяющей положенным в основу
аксиомам. В формальной аксиоматике явно выступает ее экзистенциальный характер, так как в ней «имеют
дело с постоянной системой вещей, разграниченная прямо область субъектов которой образована для всех
предикатов, из которых составляются высказывания теории». Другими словами, аксиоматически-
экзистенциальный подход основывается на такой сильной идеализации, как идеализация актуальной
бесконечности. Переход к формальной аксиоматике делает необходимым доказательство ее
непротиворечивости. Если бы теория была противоречивой, то в ней можно было бы доказать любое
положение и она потеряла бы всякую значимость как средство отображения действительности. Каким же
образом можно доказать непротиворечивость формальной системы?
Ссылка на соответствующую формальной системе содержательную аксиоматику, т.е. ссылка на
определенный фрагмент действительности, ничего не даст. Дело в том, что всякая аксиоматическая система
(в том числе и содержательная) есть некоторая упрощенная идеализация, лишь приблизительно
соответствующая действительности. Переходя от содержательной аксиоматики к формальной и доказывая
непротиворечивость последней, имеют цель доказать внутреннюю пригодность этой идеализации. Ссылка
же для доказательства пригодности какой-либо идеализации на саму эту идеализацию явно представляет
круг. Сказанное не означает, что непротиворечивость нельзя доказать методом моделей. Как раз, напротив,
показав, что данная система аксиом выполнима, т.е. имеется система объектов, удовлетворяющая ей, тем
самым доказывают се непротиворечивость. Но все дело в том, что модель должна быть абстрактной (т.е.
взята с точностью до изоморфизма) и каким-то образом точно определена. С. 419-420. Чтобы оправдать
такого рода систему аксиом, необходимо указать бесконечную область, для которой она выполняется, но
убедиться в существовании бесконечной области можно только через значимость системы аксиом,
характеризующих ее. Получается круг. Этот круг можно раздвинуть, т. е. указать модель для данной
системы аксиом, определив эту модель через выполнимость некоторой другой системы аксиом. Таким
образом удается свести непротиворечивость одной теории к непротиворечивости другой. Так, если система
объектов определена через выполнимость системы аксиом А1 и таким образом определенная система S
удовлетворяет системе аксиом А2, то А2 будет непротиворечивой, если непротиворечива А1.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
237 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
237

Непротиворечивость одной теории сводится к непротиворечивости другой - круг Раздвигается, по не
разрывается.
450
Чтобы выйти из этого круга, Д. Гильберт предложил доказывать непротиворечивость в отрицательном
смысле, т.е. аксиоматическая система непротиворечива, если в этой системе не может быть выведено
предложение А и его отрицание.
Для достижения этой цели, согласно программе Гильберта, надо представить аксиоматическую систему в
исчислении, трансформировав правила логики в правила оперирования символами, в правила исчисления.
После этого вопрос о непротиворечивости аксиоматической системы сводится к доказательству
невозможности получения в исчислении формулы определенного вида. Само исчисление, которое является
формализацией аксиоматической теории, рассматривают как аксиоматическую систему 3-го уровня. Иногда
под аксиоматической системой в строгом смысле слова имеют в виду только исчисление, только формализм.
Мы будем называть аксиоматическую систему на этом уровне формализованной теорией, аксиоматическим
исчислением. С.420-421.
Генетический метод является методом, в рамках которого изучается формализм. Д. Гильберт считает, что в
рамках генетического метода вполне возможно решить вопрос о непротиворечивости исчислений, но он
недостаточен для прямого обоснования математики.
Задача обоснования теоретико-множественной системы мышления (на которой основывается
аксиоматический метод второго уровня) решается Гильбертом путем формализма (аксиоматической
системы третьего уровня) в рамках генетической (рекурсивной) системы мышления. Для Гильберта и
формалистов последняя система мышления является слишком слабой, чтобы доставлять интерпретации
даже для простых аксиоматических исчислений. Для них генетический метод является лишь средством
обоснования аксиоматического метода. С. 422.
III
В чем же характерные особенности генетического метода, безотносительно к частным ограничениям? В чем
его отличие от аксиоматического метода? Это отличие мы видим, во-первых, в способе введения объектов
теории и, во-вторых, в логической технике этих теорий.
При аксиоматическом методе область предметов, относительно которой строится теория, не берется за
нечто исходное; за исходное берут некоторую систему высказываний, описывающих некоторую область
объектов, и систему логических действий над высказываниями теории.
При генетическом подходе отправляются как от исходного от некоторых налично данных объектов и
некоторой системы допустимых действий над объектами. В генетической теории процесс рассуждения
представлен в «форме мысленного эксперимента о предметах, которые взяты как конкретно наличные». С.
422-423.
Элементарные действия над объектами теории считаются также данными и всегда осуществимыми. Мы
абстрагируемся от реальных возможностей осуществления операций. Поэтому в генетической теории
рассуждают не только о тех объектах, которые действительно построены, точнее, представители которых
построены, но и о тех, которые могут быть постро-
451
ены из уже построенных посредством допустимых действий. Если даны исходные объекты и метод
построения какого-то объекта, то о последнем рассуждают как о чем-то уже данном. Объекты теории
задаются через указание исходных объектов и процедур получения из данных объектов новых. С. 423.
К. Поппер прав: диалектическая логика невозможна
К. Поппер дает очень аргументированную критику гегелевских идей диалектической логики. Одним из
принципов диалектики, понимаемой как логика, является отказ от закона непротиворечия. Согласно этому
подходу могут быть истинными противоречивые утверждения типа А и не-А. К. Поппер показывает, что при
очень простых предпосылках - принятии, что из «р» следует «р или q» и из «р или q» и «не-р» следует «q», -
мы из противоречия можем вывести произвольное утверждение. Таким образом, в обычной логике принятие
противоречивого утверждения разрушает всю систему.
К. Поппер пишет, что в принципе возможна логическая система, в которой из противоречия не следовало бы
все что угодно. К. Поппер пишет: «Я специально занимался этим вопросом и пришел к выводу, что такая
система возможна». К. Поппер построил систему, дуальную интуиционистской (см. статью К. Поппера «О
теории дедукции», опубликованную в 1948 г. в трудах голландской академии наук). К. Поппер отмечает, что
эта система очень слабая, в ней не имеет места даже обычный modus ponens. К. Поппер приходит к
следующему выводу: «По моему мнению, подобная система совершенно непригодна для вывода
заключений, хотя и представляет, возможно, некоторый интерес для тех, кто специализируется на
построении формальных систем».
Однако развитие логики показало важность подобного рода систем. Более того, как мы покажем ниже,
системы, дуальные интуиционистской, реализуют центральную идею попперовской философии науки -
идею фальсификационизма. С. 291.
<...> Классическая логика опирается на аристотелевское понятие истинности утверждения как его
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
238 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
238

соответствия действительности, При этом абстрагируются от того, что истина есть результат
познавательного процесса. Интуиционистская логика исходит из более тонкого понимания истинности.
Знание релятивизировано относительно времени. В каждый момент времени в поле нашего внимания может
оказаться только конечное множество объектов и может быть принято только конечное число атомарных
предложений об этих объектах. Принимаются очень сильные идеализации: объекты, оказавшиеся в поле
внимания, не исчезают со временем, предметная область может только расширяться, но не сужаться; уже
полученное знание не исчезает, не забывается; то, что признано истинным сегодня, будет признано и завтра.
Смысл логических связок, введенных на основе этих Допущений, будет отличным от смысла классических
связок. <...> Меняетcя и смысл кванторов.
Утверждение будет логически истинным, если оно истинно в любой момент времени при любом ходе
познавательной деятельности.
452
Это очень прозрачная с точки зрения классической логики и математики семантика. Легко видеть, что при
таком подходе не будет логически истинным закон исключенного третьего «А или не-А», закон двойного
отрицания «если не-не-А, то А». Логику, дуальную интуиционистской, построить нетрудно. Со времен Г.
Генцена известна секвенциальная логистическая формулировка классической логики. В ней оперируют с
записями о выводимостях. А1,..., А > В1,..., В означает, что если истинна каждая из формул, стоящих слева
от стрелки, то истинна, по крайней мере, одна из формул справа от стрелки. Правила логики есть правила
введения сложных формул слева и справа от стрелки. Интуиционистская логика отличается от классической
только тем, что справа от стрелки не может быть более одной формулы. Если мы примем ограничение, что
слева от стрелки не может стоять более одной формулы, то получим логику, двойственную
интуиционистской. Это система, о которой говорит К. Поппер в своей статье. Но каков содержательный
смысл этой системы?
Я полагаю, что логика, дуальная интуиционистской, имеет естественную семантику. И эта семантика
основана на идее фальсификационизма. Я не знаю, связывал ли сам К. Поппер с идеей фальсификации эту
логику. Если ограничиться логикой высказываний, то мы должны допустить, что со временем признание
ложности чего-то сохраняется. Если утверждение «Л» ложно сегодня, то оно будет ложно и завтра и во все
последующие времена. «А и В» ложно в момент t, если во все последующие времена (включая t) будет
ложно «А» или ложно «В»; не-А ложно в момент t, если «А» не ложно в t и последующие времена. «А» есть
закон логики, если «А» не ложно в любой момент времени при любом ходе исследований.
Формула называется опровержимой, если она ложна при любых оценках атомарных формул. В
классической логике класс общезначимых формул совпадает с классом неопровержимых. Это не так для
интуиционистской логики и логики, ей дуальной. Класс опровержимых формул интуиционистской логики
совпадает с классом формул, опровержимых классически. Для логики, дуальной интуиционистской, класс ее
общезначимых формул совпадает с классом общезначимых формул классической логики, но не всякая
формула, опровержимая классически, будет опровержима в логике, двойственной интуиционистской. Так,
формула «А и не-А» опровержима классически, но не опровержима в логике, двойственной
интуиционистской. Естественно, понятия логического следования будут различны в классической,
интуиционистской и двойственной интуиционистской логиках. С. 292-293.
Имеются и другие направления в построении неаристотелевых логик: логики с не всюду определенным
понятием истинности, логики с пресыщенными оценками и т.д.
Однако все эти исследования находятся в рамках основного развития логической мысли. И К. Поппер прав,
отрицая возможность диалектики как логики, хотя и видит возможность построения логик, в которых из
противоречия не следует все что угодно.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ НИКИТИН. (1934 - 2001)
Е.П. Никитин — специалист по методологии науки, теории познания. Окончил философский факультет
МГУ, с 1963 года работал в ИФ РАН, доктор философских наук, с 1986 года ведущий научный сотрудник.
Разрабатывал проблемы объяснения и обоснования, в полной мере владея информацией как об
отечественных, так и о зарубежных исследованиях. Создал теорию научного объяснения, выявив типы,
структуру и суперструктуру, а также системы объяснений; рассмотрел соотношение процедур открытия и
обоснования. Показал универсальность научного обоснования, предполагающего использование таких
процедур, как объяснение, определение, предсказание, доказательство и др. В последние годы жизни
обратился к проблемам специализации и дифференциации духовной деятельности. Методологам науки
хорошо известны его монографии: «Объяснение — функция науки» (М., 1970); «Природа обоснования.
Субстратный анализ» (М., 1981); «Открытие и обоснование» (М., 1988).
Л.А. Микешина
Объяснение — функция науки
<...> И в прошлой истории науки, и сейчас общепризнанным является мнение, что при научном
исследовании любого объекта одна из основных задач состоит в том, чтобы дать объяснение этого объекта.
Но в нашем случае объяснение является в то же время и объектом исследования. Таким образом, одна из
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
239 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
239

основных задач логико-гносеологических работ по проблеме объяснения состоит в том, чтобы дать
объяснение объяснения (1, с. 5).
Характеристика научного объяснения через слово «понятное» ни в малейшей степени не раскрывает
познавательной сущности этой функции науки, но дает лишь толкование обыденного слова «объяснение».
Пусть это звучит парадоксально, но при попытке более точного анализа самым непонятным оказывается,
что такое «понятное». Этот критерий объяснения является весьма неопределенным и в первую очередь
благодаря тому, что яв-
Ниже приводятся отрывки из монографий:
1. Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. М., 1970.
2. Никитин Е.П. Формирование теоретического мира. Гл. II // Грязное B.C., Дынин B.C., Никитин Е.П.
Теория и ее объект. М., 1973.
454
но или неявно предполагает апелляцию к чисто субъективным моментам. Понятное для одного человека
(или в одно время) может оказаться совершенно непонятным для другого человека (или в другое время).
Таким образом, элиминируется сама возможность установления какого бы то ни было объективного
критерия для различения объясненного и необъясненного. К этому истолкованию близко примыкает
концепция объяснения <...> Объяснить нечто — значит свести непривычное (незнакомое) к привычному
(знакомому) <...> Основной порок этих подходов к проблеме состоит в том, что они подменяют
гносеологический анализ природы объяснения как определенной функции науки либо обыденным,
«бытовым» толкованием слова, либо (в лучшем случае) педагогическим пониманием объяснения как
растолкования, разъяснения (например, значения слова, способа выполнения какого-либо действия, правила
игры) (1, с. 7). <...>
Объяснение есть раскрытие сущности объясняемого объекта <...> Сущность — это определенным
образом организованная совокупность таких характеристик объекта, элиминирование (исключение. — Ред.)
которых (каждой в отдельности или всех вместе) равнозначно уничтожению объекта. Эти характеристики
принято называть существенными. Для человека познать вещь — значит познать ее сущность. Это верно как
в отношении познания вообще, так и в отношении научного исследования в особенности. Однако
эссенциалистское истолкование объяснения (т. е. истолкование его посредством категории «сущность»)
может вызвать возражения, которые суммарно могут быть сведены к следующим двум:
1 ) объяснение в каждом конкретном случае раскрывает либо причину, либо функцию, либо структуру, либо
субстрат (и т. д.) объекта, но не его сущность,
2) раскрытие сущности объекта есть задача всего процесса познания, а не только объяснения (1, с. 14,15).
<...>
Утверждение, что раскрытие сущности является задачей теоретического уровня исследования, не учитывает
внутренней дифференцированности этого уровня научного познания. Неверно было бы представлять себе
этот уровень как нечто совершенно однородное, аморфное, бесструктурное. Задачи, методы, функции
теоретического исследования весьма многообразны и неоднородны. Здесь выполняются такие различные по
своей природе познавательные функции, как унифицирующая и интерпретаторская, предсказательная и
ретросказательная, объяснительная и нормативная. Унифицирующая функция связана с достижением
единства знания, с построением единого «здания науки», интерпретаторская — с приданием значения
символам и формализованным логико-математическим структурам. Выполняя предсказательную функцию,
научное исследование осуществляет теоретическое построение объектов будущего (наблюдения или
существования). Аналогичным образом в ретросказании теоретически реконструируются объекты
прошлого. Наконец, задача нормативной функции состоит в формулировании научно обоснованных норм
деятельности (познавательной или материальной).
Как видно из этих кратких характеристик, ни одна из названных функций теоретического уровня
исследования не ставит своей непосредствен-
455
ной задачей раскрытие сущности изучаемого объекта. Конечно, некоторые из этих функций в той или иной
мере способствуют обнаружению сущности объектов, создают для него реальные предпосылки
(унифицирующая, интерпретаторская), но тем не менее непосредственно не имеют перед собой такой
задачи. Другие функции теоретического исследования, как правило, предполагают, что сущность объекта
уже так или иначе раскрыта (предсказательная, нормативная, ретросказательная). <...> Раскрытие сущности
объясняемого объекта может быть осуществлено лишь через познание ее отношений и связей с другими
сущностями или ее внутренних отношений и связей (1, с. 16-17). <...>
Отношения и связи между сущностями и внутренние отношения и связи сущности представляют собой
законы. <...> Объяснить объект — значит показать, что он подчиняется определенному объективному
закону или совокупности законов. Таков «онтологический» смысл процедуры объяснения. <...> Объяснение
устанавливает логическую связь между отображением объясняемого объекта в языке и законом науки.
Между процедурой объяснения и законом науки (который является отображением в сознании закона
объективного мира) существует органическая необходимая связь. Само познание объективных законов, как
правило, вызывается потребностью в объяснении каких-либо объектов. Объяснительная функция является
одной из основных функций закона науки. По-видимому, любой закон науки обладает объясняющей
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru
240 of 513
Философия науки = Хрестоматия = отв. ред.-сост. Л.А Микешина. = Прогресс-Традиция = 2005. - 992 с.
240
