Левит С.Я. (сост.) Антология исследований культуры. Т 1. Интерпретации культуры
Подождите немного. Документ загружается.

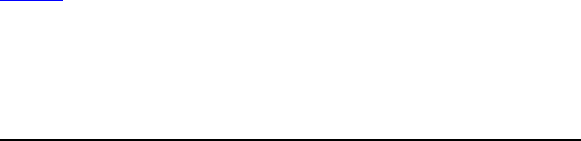
крестьян и купит десять гусей всего за день, сэкономив четыре человекодня
общественного времени.
Здесь мы подошли к самому интересному и важному. Торговец обслуживает общество,
экономя его рабочее время. Но реальную выгоду от такой экономии получает не все
общество, а лишь сам торговец, и именно это главнейшее обстоятельство часто
упускается из виду. В самом деле, торговец может обслуживать общество лишь при
определенном типе социальной организации. Он не создает этот тип социальной системы,
поскольку он не причина, а ее порождение. С точки зрения общества, торговец — всего
лишь инструмент экономии его времени и сил. По существу, эта экономия — заслуга не
столько торговца, сколько самой общественной системы. Выгоды же из нее, как мы
сказали, извлекает не общество вообще, а торговец в частности. Одним словом, здесь
перед нами общественная функция, материальная выгода от которой принадлежит
немногим. Итак, торговец достигает того, на что он не уполномочен общественной
системой в целом.
Поясним эту мысль следующим примером. Допустим, общество назначило Х нести вахту
на месте пересечения автомагистрали и железнодорожных путей, чтобы предупреждать
водителей автомобилей о приближении поездов. Этот Х — специалист в полном и
буквальном значении данного термина: он выполняет особую социальную функцию,
будучи живым выражением разделения труда в обществе. Он сберегает время шоферов,
избавляя их от необходимости замедлять ход или хотя бы останавливаться, чтобы узнать,
насколько безопасен переезд через рельсы. Более того, он сберегает людям жизнь и
имущество. На подготовку и целесообразное использование этого специалиста общество
затратило много времени, материальных средств и усилий других людей. В настоящем
случае экономию и выгоды от услуг специалиста извлекает не он один, а
==334
Л. Уайт. Экономическая структура высоких культур
__________
общество в целом. Но окажись этот стрелочник в состоянии присвоить преимущества,
извлекаемые из его услуг, он займет положение торговца, наживающегося на
общественной функции.
В чем же смысл этого особого положения торговца? Ответ ясен: он достигает своего
частного благосостояния за счет общества. Утверждая это, мы не отрицаем, а, напротив,
подчеркиваем общественный
характер его функции. Не намерены мы и приуменьшать
важность этой функции, — напротив, считаем ее ценной и очень весомой. Мы хотим лишь
сказать, что с точки зрения общественной системы, торговец — не более чем орудие
общественного процесса, а достигаемая с его помощью экономия обеспечивается
определенным типом социальной структуры. Но экономия и выгоды, получаемые
благодаря особой форме разделения труда и специализации функций, не возвращаются к
своему источнику, т.е. к обществу, а уплывают в карман торговца. Следует оговориться:
это не моральная оценка. Общество развивалось так, как оно развивалось, и не могло
развиваться иначе. Мы не превозносим торговца за его услуги обществу, не порицаем его
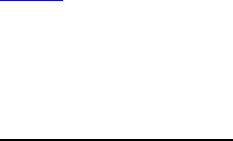
за присвоение плодов экономии и выгод, достигаемых всем обществом, а пытаемся лишь
проанализировать торговый процесс и сделать его понятным.
Функцию торговца в обществе можно сравнить и противопоставить другим
общественным услугам — например, водоснабжению и ирригации, средствам связи,
муниципальным и национальным железным дорогам и пр. Все это — общественные
услуги; все это — средства, обеспечивающие жизнедеятельность общества, его
кровеносные сосуды. Система водоснабжения и ирригации обычно (однако не всегда)
действует как находящаяся в собственности всего общества. То же можно сказать и о
почтовой системе. Телефон и телеграф могут быть и в общественной, и в частной
собственности. Железные дороги нередко находятся в частной собственности, хотя и они
могут быть собственностью государства и действовать как муниципальные и
национальные. Как и все перечисленное, торговля есть общественная функция, но ее
особенность в том, что торговец продает не столько услуги, сколько вещи. Обладание
благами — непременное условие системы частной собственности. Поэтому за ним
признается «право» продавать то, что находится в его собственности, и присваивать
прибыль, извлекаемую из этой продажи. Почтовая служба доставляет корреспонденцию, и
чтобы выполнить эту функцию, использует наемный труд. Но почтовые служащие и
почтальоны не вправе присваивать выгоду, извлекаемую обществом из их услуг, — и не
вправе потому, что они продали свой труд покупателю, предъявляющему вследствие
этого все права на результат их труда. Наметившаяся кое-где
==335
Типология культуры
тенденция к превращению железных дорог в частную собственность связана с тем, что их
оборудование требует крупных капиталовложений, которые во многих случаях могут
обеспечить лишь частные предприниматели. Купец всегда является на рынок с товаром,
составляющим его собственность, и потому за ним признается право на всю прибыль. В
настоящее время преобладает тенденция
к общественно-государственному, а не частному
регулированию и контролю все большего числа общесоциальных процессов, и полная
реализация этой тенденции — вероятно, лишь вопрос времени.
Присваивая выгоду от сбережения общественного времени и сил, купечество постепенно
превращается в богатый класс. Конечно, то был удел далеко не каждого купца. Как и
всякое ремесло, торговля сопряжена
с риском. Товары могут быть отняты грабителями,
уничтожены пожаром или морской бурей. Речь идет об общей тенденции, вследствие
которой торговый класс как таковой, продолжая извлекать частную прибыль из своих
услуг обществу, прибирает к рукам все большие богатства. Со временем к тем случайным
рискам, которым подвергается всякий купец, добавляется риск лишиться своего достояния
из-за конкуренции. Торговцы втягиваются в безжалостную борьбу, где сильный
поглощает более слабых. Поэтому наряду с ростом богатств торгового класса мы
наблюдаем и процесс их концентрации. Конкуренция в торговле неизбежно ведет к
монополии.
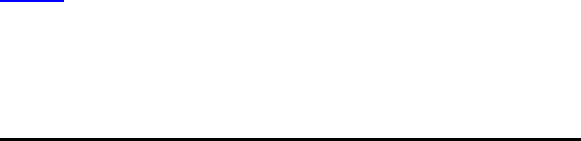
У торговцев был и другой путь к богатству, связанный с эксплуатацией рабского или
наемного труда. На определенной стадии культурного развития крупный торговец мог
нанять помощников или купить рабов, переложив на них все физические усилия по
распространению товара. Труд рабов и наемников создавал стоимость, превышающую как
расходы по их содержанию, так и денежное жалованье. Поскольку торговцу принадлежал
и труд рабов, купленных в вечную собственность, и труд наемников, купленный за
жалованье, он приобретал все права на результаты их труда, а так как результаты эти
превышали возвращаемое рабам и наемникам в виде натурального довольства и денежной
платы, то он вдобавок и наживался за их
счет. Мелкий торговец, не имевший ни рабов, ни
наемников, ни помощников, делал всю работу сам и никого не эксплуатировал. Напротив,
крупный торговец, в прошлом использовавший рабский труд, а ныне имеющий в своем
распоряжении сотни и тысячи более или менее низкооплачиваемых работников, является
эксплуататором куда большого масштаба.
Подытоживая все наши замечания об
общественной роли торговца, надо выделить
следующее: 1) торговец извлекает частную прибыль из общественной функции и, таким
образом, на-
==336
Л. Уайт. Экономическая структура высоких культур__________
живает богатство за счет общества; 2) он наживает богатство и за счет эксплуатации
рабского или наемного труда; 3) конкурентная борьба рождает тенденцию к концентрации
торговли и торговых прибылей в руках постоянно сужающегося слоя монополистов. Вот
почему торговля как социальный процесс имела двоякие последствия: концентрацию
богатств, с одной стороны, и тенденцию к монополизации богатства и власти — с другой.
Мы говорили уже, что оба вида торговли — внутри- и межплеменная — почти так же
стары, как и сама культура. И потому естественно предположить, что та и другая растут и
расширяются по мере общего развития культуры в целом и что в неолитическую эпоху,
например, они имеют большее
значение, чем в палеолитическую. Безусловно, есть
множество свидетельств стремительного расширения объема и географии торговли в
период аграрной революции. Великие караванные пути связывают Восточную,
Центральную и Юго-Западную Азию; прокладываются торговые маршруты в
средиземноморских, черноморских и даже североатлантических (у берегов Британии)
водах, а сухопутная торговля, идущая по берегам Дуная, связывает Скандинавию с
Левантом и Причерноморьем. Согласно Чайлду, в это время «бусы из восточно-
средиземноморского фаянса, подобные тем, что были в моде около 1400 г. до н.э.,
достигают берегов Южной Англии», и «весьма вероятно, что к берегам Греции
отправились взамен корнуэльское олово и ирландское золото. Датский янтарь наверняка
попадал в Грецию и на
Крит хорошо известным путем через Центральную Европу ...»
19
. В
ханьскую эпоху китайский шелк достигал Средиземноморья и морская торговля
связывала Китай с Индией. Торговые суда египтян заходили на Крит и в сирийские
гавани. В государствах Двуречья купцы стали очень влиятельной прослойкой еще до
эпохи Хаммурапи. Обширную торговлю вели греки и римляне (между прочим, последние
к I в. н.э. достигли Британских островов). Но самыми выдающимися купцами древнего

мира были скорее всего финикийцы, усердно осваивавшие Эгейское и
Средиземноморское побережье и основавшие свои колонии всюду, куда проникли —
например, в Галлии и Испании и даже по ту сторону Геркулесовых столпов — на берегу
Западной Африки.
Из-за преобладания царской власти и жрецов купечество не играло заметной роли в
Египте, но в других регионах оно добивалось значительного влияния. Последнее особенно
верно в отношении Двуречья — преимущественно Вавилона, где уже в III тысячелетии до
н.э. сложилась мощная торговая олигархия, соперничающая с военной знатью и
жречеством. Купеческая верхушка господствовала и в таких торговых центрах
финикийцев, как Тир, Сидон и Библ.
==337
Типология культуры
Как мы уже говорили, в крупных торговых регионах активно использовались многие
юридические механизмы — например, контракты, заемные письма, арендные соглашения,
лицензии и т.п. Купцы Средиземноморского региона практиковали отношения
партнерства, позволявшие расширить сферу торгового влияния и обеспечить личную
безопасность компаньонов. Компании с совместным капиталом были распространены в
важнейших портовых городах Средиземноморья, а возможно и в Индии. В Китае
предприниматели создавали ассоциации — как промышленные, так и торговые — под
надзором властей.
Распад родоплеменного общества сопровождался усобицами и насилиями. Разгоралась
борьба за естественные ресурсы (особенно за плодородные земли) и за присвоение
богатств, созданных чужим трудом. В атмосфере общественного хаоса и конкурентной
борьбы к власти приходят военно-политические лидеры и жрецы: одни — благодаря
физической силе, другие — используя свое религиозное влияние. Результатом этого
процесса стало социальное расслоение и возникновение такого общества, где правящий
класс имел монополию контроля над естественными ресурсами и средствами
производства и монополию военно-политической власти, а на долю подчиненного класса
оставался нескончаемый производительный труд, лишения и политическое бесправие.
В эпоху расцвета великих городских культур древности сельское хозяйство было главной
отраслью экономики; с завершением же аграрной революции возрастает роль
промышленного производства. Первыми предпринимателями — как в сельском хозяйстве,
так и в промышленности — оказались государство и жречество, но аграрная революция
вызвала к жизни новый слой предпринимателей — гражданский и светский, быстро
увеличивавший свое влияние. Постепенно права частной собственности
распространяются и на землю, оказавшуюся объектом купли-продажи.
Итогом промышленного роста стало развитие рынков и денежного обращения и
колоссальное распространение торговли. Видное место в жизни заняли торговцы и
банкиры, которые выделились в особый общественный слой и явились социальной
проекцией специализации, присущей коммерческому процессу (первые — проекцией
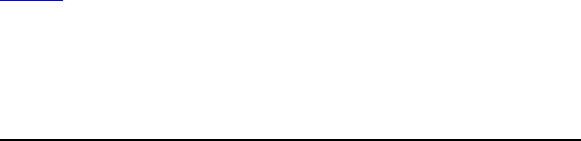
товаров, вторые — проекцией денег). В некоторых поздних культурах бронзы и железа
они достигли громадного влияния и политического могущества.
Расцвет великих культур эпохи аграрной революции был ознаменован войнами, захватами
и империалистическими тенденциями. Социально-экономический рост при
неравномерном распределении и ограниченности природных ресурсов усиливал
==338
Л. Уайт. Экономическая структура высоких культур__________
международное соперничество и военное противостояние. Развал хозяйства, который
несли с собой бесконечные войны и безжалостная эксплуатация населения завоеванных
территорий, которое обращали в рабство и душили налогами и контрибуциями, неизбежно
вел большинство древних культур к прогрессирующему упадку и гибели.
Технологический прогресс в промышленности и военном деле, безусловно, способствовал
созданию великих наций и империй. Однако политические системы, в которых находило
выражение это культурное развитие, не были приспособлены к длительным периодам
покоя, стабильности и мирного созидательного труда. Ориентированные на порабощение
и эксплуатацию у себя дома и на завоевание и ограбление соседей, они истощали свою
экономическую базу и разрушались. Последним этапом этого процесса стало падение
Римской империи; оно завершило эру великих культур, рожденных аграрной революцией.
Примечания
' Блюститель закона, находясь при исполнении служебных обязанностей, имеет право
открыть огонь и убить человека, забравшегося ночью в лавку, чтобы украсть еды для
своих голодных детей. И это вполне согласуется с имущественными основами
гражданского общества: если общественный порядок зиждется
на частной собственности,
то вор посягает на его незыблемость, чего ни одно общество не может и не станет терпеть.
2
По данным «Statistical Abstract of the United States»(1953), 93,5% всех преступлений,
совершенных в 1951 г., составили преступления против собственности, т.е. грабеж,
воровство, растраты и т.п. В эту цифру не включены убийства, совершенные во время
грабежей или ради получения страховки, равно как и продажа наркотиков подросткам.
3
Rostovtzev, M. I. The Foundations of Social and Economic Life in Egypt in Hellenistic Times.
//Journal of Egyptian Archaeology. Vol.6 (1920), p. 164.
4
Turner, R. The Great Cultural Traditions. Vol. 1, N.-Y., 1920, p. 280. «Следует помнить,
однако, — добавляет автор,— что не всякое владение основывалось на таком частном
праве. В особенности же это касается земельных угодий, значительная часть которых
принадлежала царю, храмам и знати...».
-' Такое различие в экономических системах эпохи бронзы и железа находит параллель в
истории современной Западной Европы. Феодализм был государственно контролируемой
системой, где подчинение и эксплуатация определялись фиксированным классовым

статусом. На смену феодализму явился капитализм, в котором возможность подчинять и
эксплуатировать достигается властью денег, выраженной в свободном частном
предпринимательстве. Это и есть знаменательный «переход от статуса к контракту», столь
ярко описанный сэром Генри Мэйном в его «Древнем праве» (1861).
==339
1929, P.67.
ilSnond^T'Com^c?^ Encyclopaedia of the Social Sciences. ^оТо^.. Robinson, Ch. A. Jr. Hellemc
History, 3th ed. N.-Y.,
m
^
0
^^^ в обратном переводе с англ. - П^.
"ьТ^есь бьет ключом торговля - выгодная мена ^ Всего что создается людей искусством
иль природой. Торгашество! В его тени, отравленной дыханьем ядовитым, Ю.С.
Терентьева). , .„. " Childe, G. What Happened in History. ^^^\^^
6
White, L.A. The Acoma Indians // Bureau of American Ethnology, 47th Annual Report,
1932.
1
Примером могут служить игорот Бонтока и ифугао Лусона. Это простейшие,
примитивные общества, где фактически отсутствует специализированный механизм
политической интеграции и контроля. Тем не менее они используют вязанки риса в
качестве денег и ссужают рис под проценты. Ср.: Jenks, A.E. The Bontoc Igorot // Philippine
Islands Ethnological Survey. Vol. 1 (1905); Barton, R.F. Ifugao Economics // Univ. of California
Papers in Amer. Archaeology and Ethnology. Vol. 15 (1922). N5, p.385-446. Но эти народы
испытали сильное воздействие — прямое и косвенное, — испанской культуры, и такое
внутриобщинное использование риса в функции денег вполне может быть его
результатом. По словам Дженкса, «влияние испанцев на пуэбло игорот Бонтока, пожалуй,
ни в чем не сказалось так явно, как в уяснении последними ценности денег» (Jenks, A.E.,
Op. cit., p. 153). Этот вывод можно применить и к некоторым аборигенным культурам
Меланезии.
8
По наблюдению многих этнографов и путешественников, даже самые примитивные
народы быстро осваивают основы коммерции — сопоставление стоимостей, установление
цен путем торга и соотнесение их с естественным изобилием или скудостью товара.
9
Направляясь к пуэбло Нью-Мексико, автор настоящих строк захватил с собой
великолепные перья голубой цапли, но их не приняли там даже в подарок. Напротив,
перья попугая и орла получили самую высокую оценку, и индейцы готовы были щедро за
них заплатить. То же повторилось и с морскими раковинами: одни оценивались очень
дорого, другие не вызывали ни малейшего интереса. "' Barton, R.F. Op.cit., p. 427 :
«Ифугао, у которого был" три или четыре савана [death blankets]... и который хотел отдать
их за банку, повидимому, потратил уйму времени на поиски владельца банки, готового
выменять ее на три-четыре савана». " Mantz, E. Banks, History of// Encyclopaedia Britannica.
14th ed., 1929, p.67.
12
Ibid.
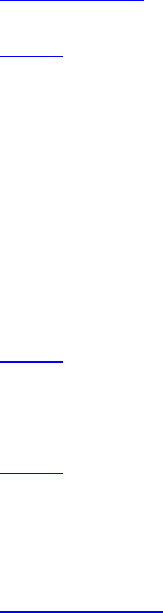
13
Turner, R. Op.cit. Vol.1, p.295.
14
Hammond, J. L. Commerce // Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol.4, 1931,p.3.
1
5
Botsford, G. W., Robinson, Ch. A. Jr. Hellenic History, 3th ed. N.-Y., 1948, p. 36.
"' Hammond, J. L. Loc.cit.
1
7
Текст Ф.Ницше приводится в обратном переводе с англ. — Прим. персе.
18
«Здесь бьет ключом торговля — выгодная мена
Всего, что создается людей искусством иль природой.
Торгашество! В его тени, отравленной дыханьем ядовитым, Добродетель ни одна восстать
уж не решается, А нищета с богатством в равной мере бессильные проклятья
изрыгают».
(П. Б. Шелли. Королева Мэб. Песнь V,!. Подстрочный перевод
Ю.С. Терентьева).
" Childe, G. What Happened in History. N.-Y., 1946, p.164.
Перевод Ю.С. Терентьева
К оглавлению
==340
Типология культуры
Динамика культуры
==341
==342
00.htm - glava15
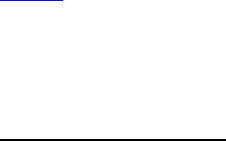
Франц Боас. Эволюция или диффузия?'
В статье Элси Клью Парсонс о родстве, клане и дуальной половине [moiety] у народа тева'
и в моей заметке о социальной организации племен Северотихоокеанского побережья
2
шла речь о территориальном распространении кланов и прочих явлений, связанных с
клановым делением общества При этом было установлено, что на окраинах упомянутых
нами регионов встречаются ясно очерченные формы социальной организации, в то время
как для территорий, занимающих срединное положение, характерны переходные типы
Эта закономерность вовсе не ограничена указанными регионами и социальной
организацией, но в большей или меньшей степени может быть перенесена и на все
остальные культурные явления, равно как и на другие районы мира Общие сказочные
мотивы, например, фиксируются тем реже, чем дальше отстоят друг от друга регионы их
распространения, и если на промежуточных территориях встречается много такого, что
напоминает периферийные типы, эти последние при ближайшем рассмотрении нередко
оказываются совершенно иными К подобному заключению приводит сравнительный
анализ фольклора Северотихоокеанского побережья — например, населения Аляски и
Орегона, береговых и удаленных от берега племен или индейцев плато и пуэбло То же
замечается и в сфере материальной культуры при сравнении искусства населения плато и
равнин или эскимосов и аборигенов Северо-западного побережья Тихого океана, о чем
свидетельствует, в частности, и география художественных стилей
Все сказанное не исключает возникновения в промежуточных регионах стилистического
единообразия и не означает, что
" F Boas Evolution or Duffusion'V/Amencan Anthropologist N S Vol 26 (1924) P 340-344
==343
Динамика культуры
все периферийные формы непременно самобытны, а промежуточные — непременно
эклектичны. В то же время это, как мы думаем, доказывает, что все специфические
культурные формы — результат исторического развития и что нет никаких доводов
(кроме тех, которые пренебрегают географией признаков) в пользу большей древности
периферийных форм.
Приняв мнение, что матрилинейные кланы древнее патрилинейных
или билатеральной
организации, мы можем прийти к рискованному выводу, что на юге Британской
Колумбии и у восточных пуэбло клановая организация распалась и что этот распад
должен более резко проявляться по мере удаления от центров, где данный тип социальной
организации все еще процветает. Между тем, географические данные не
благоприятствуют такому заключению; напротив, перед нами — смешение двух разных
типов, комбинация которых рождает новые формы и новые представления.
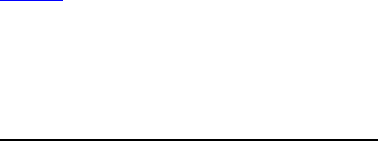
Изучение материальной культуры, обрядов, искусства и мифологии Америки, различных
форм африканской культуры и доисторической Европы с такой убедительностью
раскрыли роль диффузии, что мы не вправе отрицать ее присутствия в формировании
любого локального культурного типа. Следы диффузии выявляются не только методом
сравнительного изучения; на нее указывает и обширный полевой материал. Известны
случаи, когда индивид выступает как носитель важных мифологических сюжетов. В
качестве примера сошлемся на повесть о рождении Ворона, записанный в одном племени
на севере о-ва Ванкувер. Несколько его членов еще помнили, что ее принес человек,
проведший много лет в рабстве на Аляске, откуда его выкупили друзья. Этот миф
регулярно пересказывался как часть Воронова цикла, хотя все соседние племена отрицают
его принадлежность к последнему. Другой пример — учреждение клана Барсука в Лагуне
женщиной из племени зуни. Муж ее, также принадлежащий к этому племени, принес в
Лагуну культ качинов и мифы, обретшие в новой среде свою вторую жизнь. В более
отдаленные времена носителями новых
представлений могли оказаться женщины,
захваченные при военных набегах, принятые в племя чужаки и т.д., и чем малочисленное
было племя, тем сильнее могло быть такого рода индивидуальное влияние. Итак,
проникновение новых идей — это не автоматическое приложение к некоему типу
культуры, но мощный стимул развития.
Чисто индуктивное изучение этнических феноменов приводит
к заключению, что
смешанные культурные типы, занимающие географически или исторически
промежуточное положение между двумя крайними, служат доказательством диффузии. В
таком случае возникает вопрос: как рассматривать крайние и
==344
ф. Боас. Эволюция или диффузия?
максимально различные формы? Описанную нами [автором и Э.К.Парсонс. — Прим.
перев.} социальную организацию Северотихоокеанского побережья, с
немногочисленными кланами и множеством локальных групп, обладающих
определенными привилегиями, следует сопоставить с билатеральной организацией Юга,
насчитывающей ряд независимых локальных единиц без всяких привилегий. А
матрилинейную клановую организацию западных пуэбло Юго-Запада, в которой
почти
целиком отсутствуют дуальные половины (moieties), нужно сравнить с патернальными
долями Востока без кланов. Если индуктивно устанавливается, что один из этих типов
древнее, что сложились необходимые условия для перехода от старой ситуации к новой и
что эффективность этих условий снижается от центра к периферии, то впору согласиться с
теорией единообразного развития.
Для этого необходимы три исторических
доказательства: 1) что один тип древнее другого; 2) что более поздний тип всегда
развивается из предшествующего — или, другими словами, что динамические условия
для перемен в этом направлении всякий раз налицо; 3) что эффективность этих условий
значительно возрастает от периферии к центру. Диффузионисты, напротив, исходят из
двух различных типов и доказывают наличие диффузии.
Надо иметь в виду, что предположение о древности того или иного культурного типа
основано, главным образом, на классификации, считающей более простые по своим
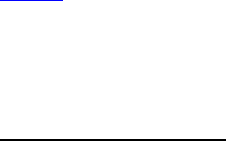
проявлениям формы вместе с тем и более древними. Ненадежность такого подхода яснее
всех видел Тайлор, который старался утвердить свой главный тезис на анализе
пережиточных явлений, проливающих свет на более ранние этапы культурного развития.
Но мы и поныне не видим ни одной убедительной реконструкции, выполненной на такой
основе. Пережитки более ранних форм должны существовать и могут быть обнаружены,
— вот все, что мы вправе утверждать. И, пожалуй, лучше всего подтверждает это пример
матрилинейных институтов. Там, где эти институты связаны с закреплением социальных
прерогатив за мужчиной и где семья в нынешнем ее понимании тем не менее остается
важным социальным признаком, существует постоянная почва для
конфликта, ибо
матрилинейный счет потомства предполагает переход имущества или [общественного]
статуса в другую семейную группу, индивид же колеблется в своих привязанностях
между двумя конфликтующими сторонами. Поэтому весьма вероятно, что такое
матрилинейное общество, имеющее в себе элементы нестабильности, под влиянием
внутренних динамических условий преобразуется в патрилинейную или билатеральную
систему (чем и можно объяснить остатки матрилинейных
==345
Динамика культуры
форм в патрилинейных обществах). С другой стороны, отсюда вовсе не следует, что
матрилинейное общество везде предшествовало патрилинейному. Речь идет лишь о
нестабильности матрилинейного общества определенного типа.
Предположение о едином типе происхождения культуры кажется нам маловероятным.
Оставляя в стороне вопрос, какие формы социальной жизни существовали в ту пору,
когда у наших предков возникла речь и первые орудия труда, мы, тем не менее, находим
всюду примеры очень ранней дифференциации, из которой вышли и самые элементарные
формы. И, может быть, наиболее убедительными доказательствами в этом споре служат
язык и искусство. Даже допустив, вслед за Тромбетти, единство происхождения
человеческой речи или, вслед за Марта, нарочитое
изобретение языка в коммуникативных
целях, мы должны будем признать, что и самые ранние этапы языкового развития дают
примеры таких грамматико-лексикографических категорий, которые нельзя свести к
элементарным принципам, за исключением общих форм, обусловленных логикой или
коммуникативным назначением языка. Это в полной мере относится и к художественным
стилям, невозводимым к общему
истоку. Но то, что справедливо в отношении языка и
искусства, не могущих служить материалом ретроспективного доказательства, кажется
нам столь же справедливым и относительно тех аспектов жизни, которые подверглись
преобразующему воздействию рационализированных процессов. К этим аспектам
принадлежат и формы социальной организации. Теория старшинства матрилинейной
организации всегда предполагает, что первоначальную экономическую и социальную
ячейку составляло первое поколение — матери и их братья и второе поколение — дети, а
отцы и внуки были там лишь временными гостями. Такое устройство якобы обеспечивало
сплоченность группы и после того, как дети становились взрослыми, и такое групповое
сознание, в котором не находила отражения связь отцов с детьми. Но сохранение столь
прочных связей между матерью и взрослыми детьми, по меньшей мере, сомнительно.
Учитывая традиционное разделение труда, можно сказать, что такая организация, с
