Латышина Д.И. История педагогики. История образования и педагогической мысли
Подождите немного. Документ загружается.

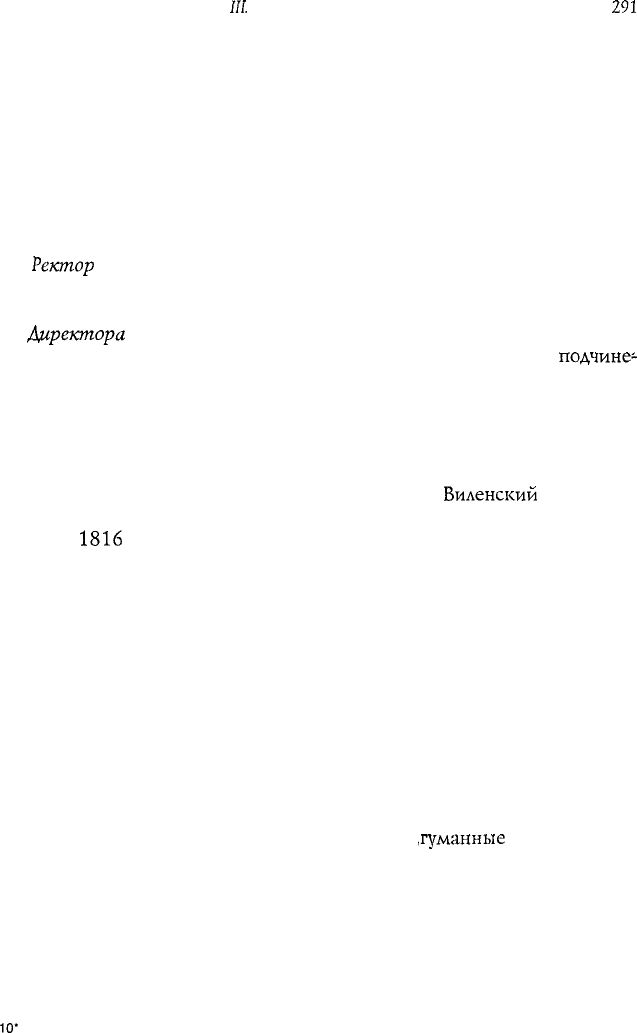
Раздел
111.
Развитие образования в XIX в.
291
3) гимназии в губерниях — 4 года;
4) университеты.
В гимназию и университеты по-прежнему не допускались дети кре-
постных крестьян и девочки.
Россия была разделена на б учебных округов во главе с университетом
каждый. Они возглавлялись попечителями учебных округов.
Обязанности попечителя — открытие университета или преобразо-
вание на новых основах существующего, руководство учебными заведе-
ниями округа через ректора университета.
Ректор
университета избирался профессорами на общем собрании
и подчинялся попечителю. Ректор возглавлял университет и, кроме того,
управлял учебными заведениями своего округа.
/щректора
гимназий (в каждом губернском городе), кроме руковод-
ства ими, управляли всеми школами данной губернии. Им были
подчинен
ны смотрители уездных училищ; последние руководили всеми приход-
скими училищами.
Таким образом, руководитель школы более высокой ступени был ад-
министратором школ низших ступеней. В результате этого была создана
администрация просвещения из специалистов, знающих дело.
Университеты в начале XIX в.: Московский,
Виленский
(Вильнюс-
ский), Дерптский (Тартуский), в 1804 г. открыты Харьковский и Казан-
ский, в
1816
г. — Главный педагогический институт в Петербурге (в
1819 г. преобразованный в Петербургский университет), в 1834 г. —
Киевский университет. Все университеты в России возникли преимуще-
ственно как светские учебные заведения. Православная церковь имела
свои духовные академии: Московскую, Петербургскую, Киевскую и Ка-
занскую.
Гимназия давала законченное среднее образование и готовила к по-
ступлению в университет. Содержание обучения отличалось энциклопе-
дичностью: предполагалось изучение иностранных новых и латинского
языков, математики, географии и истории всеобщей и российской, есте-
ственной истории, философии, политической экономии, изящных ис-
кусств, технологии и коммерции. Не было родного языка, отечественной
литературы и Закона Божиего.
Учителям рекомендовалось устанавливать
,гуманные
отношения с
гимназистами, возбуждать у них интерес к наукам, поощрять их успехи.
Давалось право выбора учебных книг.
Уездные училища готовили учащихся к продолжению образования в
гимназиях, а также к практической деятельности. В учебном плане было
множество предметов — от Закона Божиего до рисования (Священная
история, чтение книги о должностях человека и гражданина, география,
история и т.д.).
10'
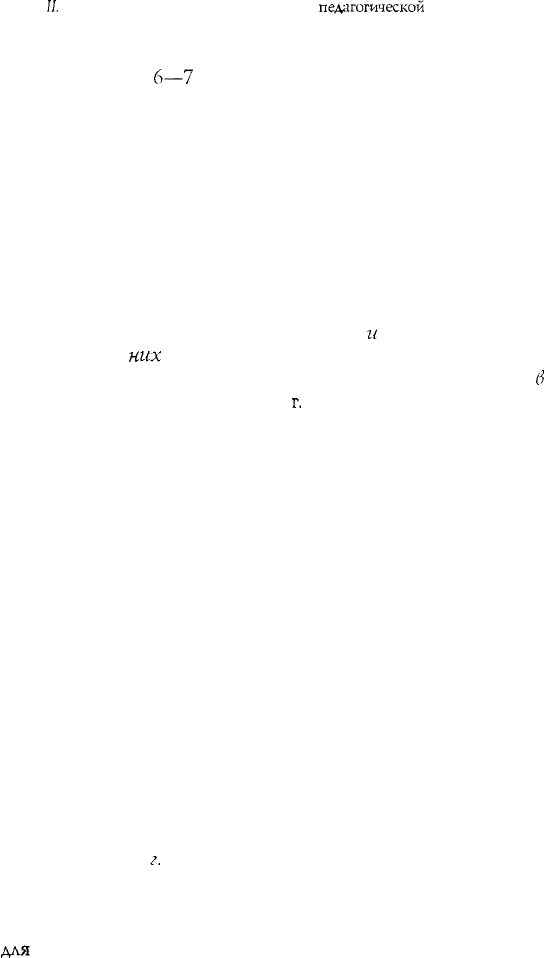
292 Часть
И,
История воспитания, образования и
педагогической
мысли в России (до XX в.)
Большая загруженность учебного плана вела к большой нагрузке учи-
телей и учащихся: по
6—7
часов занятий в школе ежедневно. Все это было
малореально.
Учителя обязаны были пользоваться только рекомендованными ми-
нистерством учебниками.
Приходские училища могли открываться в губернских, уездных горо-
дах и в селении при каждом церковном приходе. Они также имели две
цели: готовить к обучению в уездном училище и давать детям общеобра-
зовательные знания (могли учиться и мальчики, и девочки). Предметы
обучения: Закон Божий и нравоучения, чтение, письмо, первые действия
арифметики.
Содержание приходских училищ было либо делом самих крестьян
(казенные крестьяне), либо — помещиков
и
церкви. Государственная
казна средств на
них
не предусматривала.
Такими были проекты, которые предстояло еще воплотить
в
жизнь.
Вскоре после принятия Устава 1804
г.
от него начались отступления, из-
менения вносились как Министерством народного просвещения, так и
самими учебными округами. Из учебных планов гимназий были исклю-
чены философия, политическая экономия, коммерческие науки, сокраще-
но естествознание. Усилено и расширено преподавание древних и новых
языков, математики, введен Закон Божий, и эта тенденция сохранялась
на протяжении всего времени существования гимназий.
Впервые Закон Божий был введен в гимназии в Казанском учебном
округе в 1809 г. Затем было введено и изучение русского языка.
Возрождение сословности осуществлялось таким образом. В 1827 г.
было определено назначение каждого учебного заведения: приходские
училища — для детей крестьян, мещан и ремесленников; уездные — для
детей купечества, промышленников и дворян, которые по бедности не
могут воспитывать их в других заведениях; гимназии — для детей дворян
и чиновников преимущественно, но не запрещалось учиться за плату и
другим детям, кроме детей крепостных и казенных крестьян. Это деление
основывалось на убеждении высших чинов, что каждое сословие есть
звено в государственной цепи и разрывать ее опасно. Поэтому каждому
сословию нужно такое образование, которого требует его положение и
обязанности.
По Уставу 1828
г.
сохранялись прежние типы школ, но отменялась
преемственность между уездным училищем и гимназией. Вносились из-
менения в учебные планы; как приходские, так и уездные училища стали
школами законченного типа. Было предоставлено право создавать учили-
ща
для
государственных крестьян за счет сборов средств с них же.
Гимназии стали средними общеобразовательными заведениями со
сроком обучения в семь лет. Главное внимание в них уделялось изучению
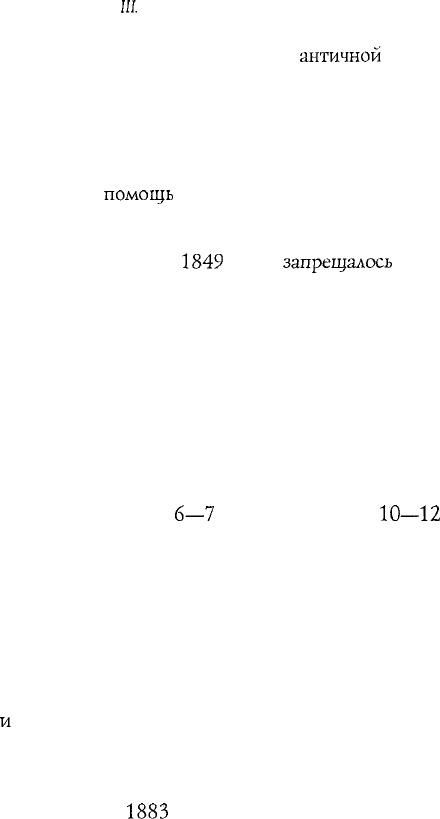
Раздел
III.
Развитие образования в XIX в. 293
иностранных языков, латинского и греческого,
античной
литературе и ис-
тории.
Университеты (Устав 1835 г.) были лишены всяких автономий, рек-
тор теперь не избирался, а назначался сверху, университеты больше не
имели отношения к школе.
Два последних типа учебных заведений были платными.
По Уставу 1828 г. в
помощь
директорам гимназий назначались над-
зиратели гимназий и комнатные (при пансионах, по одному на 45 воспи-
танников) для надзора за учебными делами и нравственностью. Увеличена
плата за обучение в гимназиях; в
1849
г. уже
запрещалось
освобождать от
платы неимущих, но способных учеников (как это было предусмотрено
ранее).
Еще в начале XIX в. было открыто несколько лицеев для дворянских
детей: Царскосельский, Ришельевский в Одессе, Демидовский в Ярослав-
ле, Нежинская гимназия (потом лицей); в середине века они расширяют-
ся и укрепляются.
В 30-х гг. XIX в. возникает новый тип сословной средней школы —
дворянский институт.
Это закрытые учебно-воспитательные заведения, платные, причем
плата была достаточно высокой. Открылись в Москве, Пензе, Новгороде
и других городах. Курс обучения
б—7
лет, принимали с
10—12
лет умею-
щих читать, писать и знающих арифметику. Институты готовили для про-
должения образования в университетах.
При гимназиях открываются пансионы; их воспитанники сверх гим-
назического курса изучают французский язык, танцы, музыку, фехтование,
верховую езду. К 1850 г. в России было 47 таких пансионов.
Гимназии разделялись на классические, которые готовили к поступле-
нию в университеты и в другие учебные заведения, основное время отво-
дилось изучению древних языков, русской словесности, новых иностран-
ных языков
и
истории; реальные — в них готовили для службы военной
и гражданской, вместо древних языков было усилено преподавание прак-
тической математики, введено законоведение.
Расширяется сеть частных учебных заведений, но правительство стре-
мится сдержать их рост. В
1883
г. запрещается открывать их в Москве и
Петербурге, хотя позже они были разрешены вновь. Частные школы
также находятся под строгим правительственным контролем.
Этот период так охарактеризован известным деятелем просвещения
Д.И. Тихомировым: «Об истинном, гуманно воспитывающем просвеще-
нии не только народа, но и привилегированных классов в дореформенное,
крепостное для всех время не только не заботились, но боялись и думать.
Воспитание и учение носили формально-дисциплинарный характер в
семье и казарменно-полицейский — в школе, как подготовка к жизни
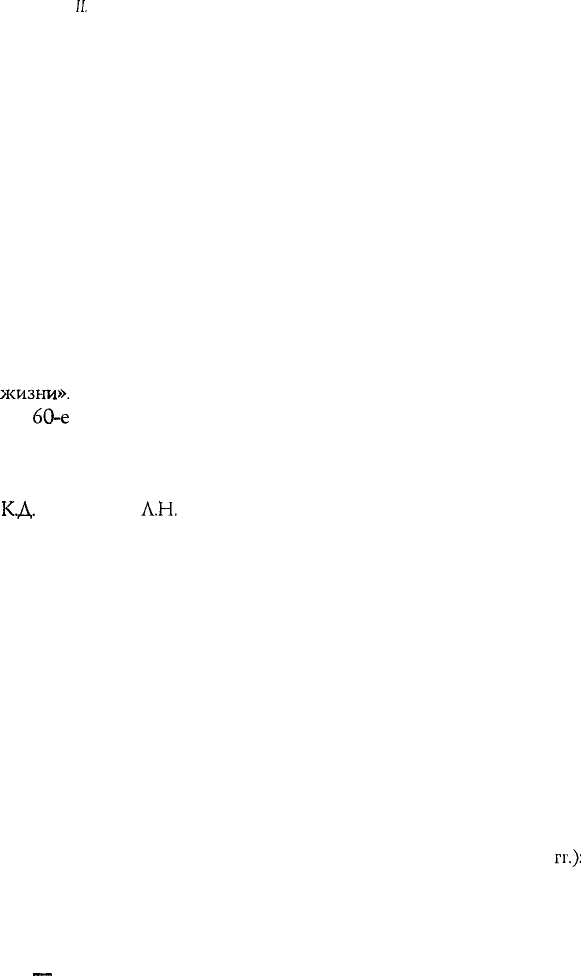
294 Часть
П.
История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)
подневольной. Для народа и вовсе почти не было даже и такой школы.
Дьячок и отставной солдат розгой учили грамоте по книге церковной.
И Евангелие тогда, как запретная весть о царстве любви, равенства и сво-
боды, заботливо хранилось за царскими дверями на престоле» (из выступ-
ления на торжественном Акте по поводу сорокалетия педагогических
курсов Московского общества воспитательниц и учительниц 4 марта
1912 г.).
§ 2. РАЗБИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Начало второй половины XIX в. в России характеризовалось великим об-
новительным движением, всколыхнувшим общество. Вслед за реформой
1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимости намети-
лись и другие реформы: судебная, земская, просветительная. К этому вре-
мени вопросы воспитания и образования стали пониматься как «вопросы
жизни».
60-е
и последующие годы — яркая страница в истории педагогики в
России. В эти годы общественного подъема к педагогической теории и
деятельности обращается много выдающихся людей: Н.И. Пирогов (герой
Крымской войны, знаменитый хирург, общественный деятель, педагог),
КД.
Ушинский,
Л.Н.
Толстой и др. Для них это время наиболее интенсив-
ной новаторской работы; много интересных деятелей приобщилось к
проблемам педагогики и к педагогическому труду в различных губерниях
России.
Официальная педагогика с ее традиционной доктриной подготовки
людей для службы была заметно потеснена в это время. С легкой руки
Н.И. Пирогова началось оживленное обсуждение в прессе проблемы вос-
питания человека и других педагогических вопросов: какой должна быть
школа? Какова должна быть ее программа? Сословная или бессословная
школа? Чему учить в школе? Как готовить учителя? — и многих других.
Главное внимание общества в это время было привлечено к народной
школе, которой в империи, можно сказать, и не было. Приходские учи-
лища обязаны были содержать сами крестьяне и помещики, поэтому они
развивались очень слабо. Деревенских жителей по-прежнему учили гра-
моте дьячки, богомолки и подобные люди.
Народные училища подчинялись разным ведомства (к 60-м
гг.):
— Министерству государственных имуществ;
— Министерству двора;
— Министерству внутренних дел;
— Св. Синоду (больше половины всех училищ);
— Министерству народного просвещения (на него приходилось около
20% училищ).
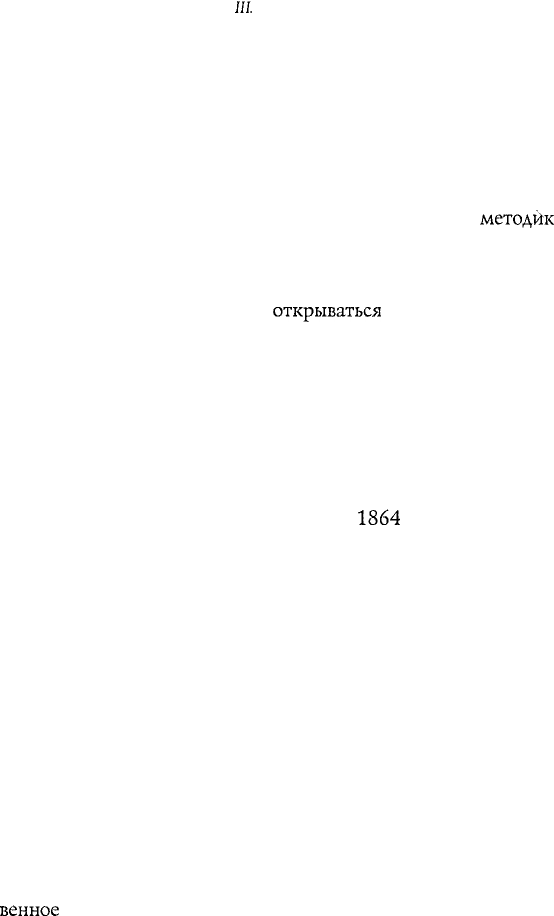
Раздел
III
Развитие образования в XIX в. 295
Отмена крепостного права вызвала необходимость открытия школ для
всех слоев населения: крестьян и помещиков, городских жителей. Стала оче-
видной несправедливость сословной политики в области образования, огра-
ничений в области женского образования. Выявилась недостаточность сред-
него образования, основанного на классицизме.
В это время стала остро осознаваться необходимость развития отече-
ственной педагогической науки, возникла потребность в педагогической
периодике, новых учебных книгах, разработке новых
методик
обучения.
Подготовка учителей для разного типа школ, создание самих школ — все
это были насущные проблемы середины XIX в.
«Положение о начальных народных училищах» — 1864 г.
Народные училища могли
открываться
различными правительствен-
ными ведомствами, обществами, частными лицами, которые сами и ре-
шали вопрос о платности или бесплатности их. Цель народных училищ —
«утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распро-
странять первоначальные полезные знания».
Предметы преподавания: Закон Божий, чтение (книги гражданские и
церковные), письмо, четыре действия арифметики, церковное пение.
Народные училища были в ведении (т.е. под контролем) уездных и
губернских училищных советов.
«Устав гимназий и прогимназий» —
1864
г.
Учреждались два типа гимназий: классические и реальные.
Цель классических — дать общее образование, необходимое для по-
ступления в университет и другие высшие специальные учебные заведения.
Реальные гимназии не давали права поступления в университеты.
Прогимназии — начальная ступень гимназии.
Педагогические советы получили большие права: могли утверждать
программы преподавания, выбирать учебники.
Гимназии и прогимназии были объявлены всесословными, платными,
но при этом между начальной и средней школой не существовало ника-
кой преемственности. Какая же тогда общедоступность?
«Положение о женских училищах ведомства Министерства народно-
го просвещения» •— 1860 г.
Устанавливалось два типа бессословных женских училищ:
I разряда — 6 лет обучения;
II разряда — 3 года обучения.
Их цель — «сообщить ученицам то религиозно-нравственное и умст-
венное
образование, которое должно требовать от каждой женщины, в
особенности же от будущей супруги и матери семейства».
Открывать их могли частные лица и общества.
В учебный план женских училищ первого разряда входили: Закон
Божий, русский язык, грамматика и словесность, арифметика и понятия
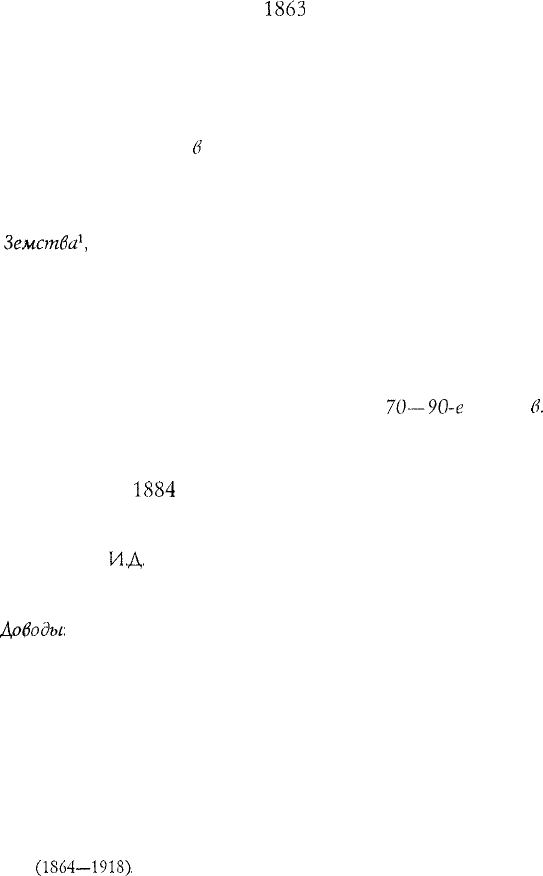
296 Часть II. История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)
об измерениях, география всеобщая и русская, история, начала естество-
знания и физики, чистописание и рукоделие.
«Университетский устав» —
1863
г.
Предоставлялась некоторая автономия университетам: выборность
ректора университетским Советом; этот же Совет руководил всей учеб-
ной работой. Жесткие ограничения в деятельности университетов, уста-
новленные при Николае I, были частично сняты; но оставалось подчине-
ние университета попечителю учебного округа и Министерству народного
просвещения. Женщины
в
университет не допускались.
В университетах было 4 факультета: историко-филологический, физи-
ко-математический (с естественным отделением), юридический и меди-
цинский. Открылось много новых кафедр.
Земства
1
,
созданные в 60-х гг., получили право открытия учебных за-
ведений; они должны были заниматься их материальным обеспечением.
Земства разрабатывали планы всеобщего обучения, открывали школы,
проводили курсы и съезды учителей, разрабатывали новые программы и
учебники, создавали учительские семинарии (перед 1917 г. около 1/3 на-
чальных сельских школ были земскими).
Характер просветительной политики в
70—90-е
гг. XIX
в.
Новые школьные уставы: 1871 г. — гимназий и прогимназий;
1872 г. — реальных училищ; 1874 г. — новое положение о начальных на-
родных училищах;
1884
г. — университетский устав, правила о церковно-
приходских школах.
Преобразования производились министрами народного просвещения
ДА. Толстым и
И.Д.
Деляновым.
Главное содержание преобразований было направлено на укрепление
классического образования в средней и высшей школе.
/доводы:
так обучают в западных школах. Классическое образование
способствует формальному развитию способностей — развитию памяти,
логического мышления и т.п. Оно не может быть привязано к конкрет-
ному материалу, так как помнить его невозможно, а развитие сохраняет-
ся на всю жизнь. Преобладание классического содержания обеспечивает
концентрацию ученика на материале, чего нельзя достичь при многопред-
метности. Родному языку детям учиться нечего: они всосали его с молоком
матери, а грамматику освоили еще до школы; нужно совсем немного вре-
Земства — выборные органы местного самоуправления (земские собрания, земские
управы)
(1864—1918).
Ведали просвещением, здравоохранением, строительством дорог.
Контролировались Министерством внутренних дел и губернаторами, имевшими право от-
менять земские решения.

Раздел
Ш.
Развитие образования в XIX в. 297
мени уделить в школах для практических занятий и чтения образцовых
писателей на родном языке.
Возражения, выдвигаемые против этого направления, были следую-
щими:
— так как все ценное из античной литературы к этому времени уже
переведено на новые языки, нет необходимости изучать древние языки;
— идеи древних мыслителей во многом расходятся с современными
представлениями. Так, рассуждения Аристотеля в «Политике» о человеке,
о женщине, других народах совершенно устарели.
Изучение классических языков и писателей развивает ум, но это же
может дать и толковое изучение других предметов. Древний человек
видел мир без посредников, своими глазами, что приводило к гармонии
формы и содержания классических произведений. Если же греков застав-
ляли бы, например, прежде всего изучать персидскую или египетскую
культуру, то этой гармонии не было бы.
Формально развитые способности — это хорошо отточенный нож, ко-
торым можно и хлеб резать, и человека убить. Неформального развития
«вообще» не существует, оно привязано к предмету: математике, филосо-
фии и
т.п.
В основу гуманного образования нужно положить не классические
языки, а родной язык. Он имеет воспитательную силу (К.Д. Ушинский).
В 1871 г. классицизм победил. Попечитель одного из учебных округов
барон А.П. Николаи объяснял эту победу так. Усиление изучения древних
языков должно способствовать «отрезвлению юношества от свободомыс-
лия, как религиозного, так и политического... Затруднить доступ к универ-
ситетскому образованию... лицам из низших классов юношества». Класси-
цизм был просто политическим орудием для искоренения свободомыслия
(П.Ф. Каптерев).
Это положение прямо и откровенно формулировал и сам Д.А. Тол-
стой. Изучение древних языков важно потому, что оно является важней-
шим средством против так сильно охватившего наше учащееся юношест-
во чувства материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения.
Вопрос обучения языкам античности является основой всего дальнейшего
научного образования. Это не только вопрос о серьезном и поверхност-
ном, но о нравственном и материалистическом обучении и воспитании,
утверждал Д.А. Толстой.
Ту же функцию выполняли и другие дисциплины, например, логика,
математика, грамматика, наполненные схоластикой и словесными схема-
ми. Такой подход был удобен и тем, что при изучении древних языков все
знания учащихся могли быть непрерывно проверяемы, что препятствова-
ло «развитию в учениках нигилизма и самомнения». А то, что преподается
по другим наукам, особенно по естествознанию, почти уходит из-под кон-

298 Часть
П.
История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)
троля. Поэтому здесь возможно развитие крайнего вольнодумства и
самых превратных воззрений.
В середине 80-х гг. снова возник вопрос о социальном составе учени-
ков средних учебных заведений. (В гимназиях могли за плату обучаться
все, без различия сословий и вероисповеданий, но, несмотря на то, что
плата за обучение все время повышалась, гимназии не были полностью
освобождены от детей малоимущих.)
В 1887 г. появился печально знаменитый тайный циркуляр минис-
терства о кухаркиных детях. Необходимо освободить гимназии от
детей кучеров, лакеев, мелких лавочников, которых не следует выводить
из своей среды. В этом же году — распоряжение об ограничении при-
ема евреев в гимназии и прогимназии такими пропорциями: в местнос-
тях, входящих в черту постоянной оседлости, евреев можно было при-
нимать 10%, вне черты — 5%, в Петербурге и Москве — 3% (от общего
числа гимназистов).
Были закрыты приготовительные классы при гимназиях, а в них
1/3 учащихся были детьми из низших слоев общества. Поступление в
гимназию проводилось на основании испытаний, а подготовиться к ним
могли только дети из богатых семей, занимаясь с домашними учите-
лями.
Но Министерство народного просвещения балансирует и, стремясь не
допустить коренных преобразований, разрешает различные нововведе-
ния, с одной стороны, и усиливает устаревшие принципы школьной по-
литики — с другой. Обстановка в просвещении зыбкая и характеризуется
официальным курсом на сохранение многих архаичных черт школы. Пра-
вительство не без основания усматривает в просвещении опасность рас-
пространения крамольных идей.
В развитии народной начальной школы, как уже отмечалось, было за-
интересовано все общество, что выразилось в большом общественном
движении. За открытие народных школ принялись с энтузиазмом земст-
ва, общественные организации, частные лица.
Министерство народного просвещения выбирает в этих условиях
свою линию поведения — всемерной
поддержки
церковной школы. Это
была прежде всего материальная поддержка.
Так, с 1896 г. по решению Государственного Совета предписывалось
выделять из средств государственного казначейства на поддержание, от-
крытие новых начальных церковных школ, на содержание учительских
курсов для
церковно-ириходской
школы ежегодно по 3 млн 279 тыс.
рублей; в следующем году эта сумма была увеличена на 1,5 млн, в
дальнейшем государственные ассигнования на церковную школу про-
должали расти. Таким образом, церковная школа становится государст-
венной.
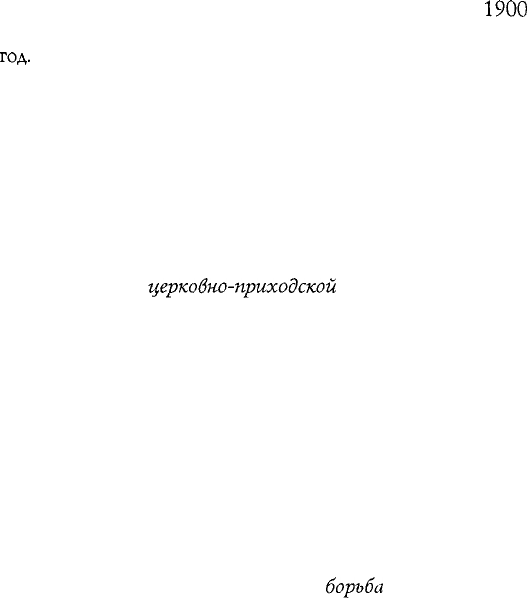
Раздел III. Развитие образования в XIX в. 299
В то же время земская школа не только не ощущала такой заботы о
себе правительства, но всячески притеснялась им. Так, с
1900
г. земствам
не разрешалось расширять свои расходы на образование более чем на 3%
в
год.
Правительством был поставлен также вопрос о передаче всех началь-
ных школ в ведение Министерства просвещения и Святейшего Синода и
отстранения земств от влияния на школьную работу, но осуществить это
не удалось.
Земства же продолжали активную деятельность по развитию народ-
ной школы, они принимали во многих губерниях их обеспечение на себя.
А что означала эта политика, направленная на поддержку церковно-
приходской школы? Об этом можно составить представление из знаком-
ства с ее учебным планом.
Учебный план
церковно-приходской
школы (1902)
Закон Божий (изучение молитв, Священной истории, краткий кате-
хизис и пр.);
церковное пение;
чтение книг церковной и гражданской печати и письмо;
начала арифметики.
На чисто религиозные предметы отводилось 46% времени, но и все
остальное содержание обучения было пронизано религией, так как учи-
телями были священнослужители.
Картина обучения в земских школах отличалась тем, что наряду с ре-
лигиозным обучением в ней был расширен объем научных знаний по гео-
графии, истории, естествознанию.
Земства с самого начала своего существования обратили на школу осо-
бое внимание. Но с 70-х гг. началась
борьба
за народную школу между
земствами и правительством. Последнее стремилось взять в свои руки
руководство школьным делом, возлагая при этом на земства расходы на
общественные заведения. Органы же земского самоуправления стреми-
лись отстоять свою независимость в школьном деле. Они добивались
права на расширение учебных планов и программ, изменения методов
обучения.
. В этот период отмечается исключительно высокая активность педаго-
гической общественности. В разных уголках, городах России создаются на
средства самой общественности:
педагогические общества;
комитеты грамотности (Москва, Санкт-Петербург, Харьков);
общества попечения о народном образовании (Барнаул, Тюмень, То-
больск и др.);
различные общества, курсы, комитеты содействия образованию рабо-
чих, женскому образованию.
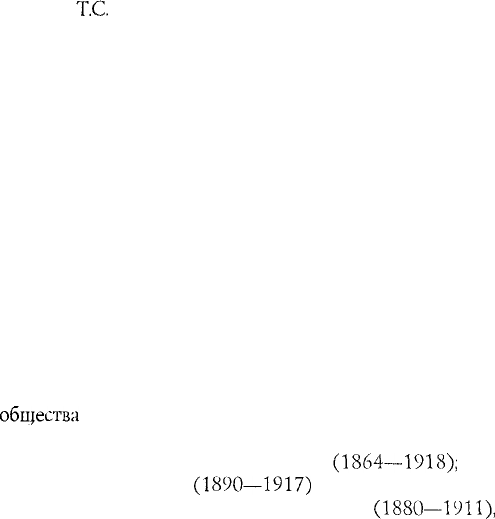
300 Часть 11. История воспитания, образования и педагогической мысли в России (до XX в.)
Деятельность всех этих обществ и комитетов разнообразна:
открытие и содержание бесплатных учебных заведений, библиотек и
читален, подвижных музеев наглядных пособий, педагогических музеев и
выставок;
издание общедоступной художественной и популярной литературы,
учебных книг и пособий для учащихся;
бесплатное снабжение школ книгами;
создание родительских кружков;
проведение различных опросов и т.п.
Важным направлением деятельности была разработка и поддержка
новых педагогических идей и теорий.
Вся эта общественная деятельность имела огромное влияние на раз-
витие школы и педагогики в России конца XIX — начала XX в.
Примером такой активности может служить Московский комитет
грамотности.
В него входили: Д. и Ю. Самарины, барон Корф, коммерсанты
А.И. Мамонтов и
Т.С.
Морозов, Л.Н. Толстой и др. Разнородный состав
членов Комитета позволял решать различные вопросы: о содержании обу-
чения в народной школе, о типе школьных зданий; о содержании и ме-
тодах обучения, об отдельных учебных курсах, о подготовке учителей и др.
Занимался Комитет рассмотрением и оценкой учебников, которых тогда
было изобилие; сам издавал их; состоял в тесной связи с издателями книг.
Это была своего рода лаборатория, где вырабатывались и разрешались
вопросы народного образования.
Комитет имел большое значение. К нему с различными просьбами об-
ращались земства; он много сделал для организации первых в России пе-
дагогических летних курсов и съездов.
Педагогическая журналистика
В конце XIX — начале XX в. в России издавалось более 300 педагоги-
ческих журналов.
Их издателями были: Министерство народного просвещения, церков-
ное ведомство, городские думы, земства, сами учебные заведения, педаго-
гические
обп;ества
и т.д.
Некоторые названия журналов: «Журнал Министерства народного
просвещения», «Педагогический сборник»
(1864—1918);
«Русская
школа», «Вестник воспитания»
(1890—1917)
(орган Петербургского ро-
дительского кружка), «Русский начальный учитель»
(1880—1911),
«Учи-
тель», «Педагогический журнал» (Уфа), «Начальное обучение» (Казань),
«Голос северного учителя» (Архангельск) и др. Методические журналы:
«Природа в школе», «Первоначальное учение и развитие ребенка», «На-
