Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография
Подождите немного. Документ загружается.


История философии 363
мышление автора путаное, и никто не сможет с точностью ска-
зать, что, собственно, здесь волновало беднягу». Он, конечно, мо-
жет сказать так. Но тогда его ученики без особой благодарности
будут вспоминать о нем в последующие годы. Он не имел права
тратить их время на отрывки такого сорта.
Или же, обращая их внимание на другой отрывок, он может
сказать: «Вот перед нами автор. Он не невежда и не идиот (вот
почему я прошу вас изучить его произведение). Здесь он пишет
так, что можно понять: мысль, выражаемая им, заслуживает вни-
мания. На первый взгляд очень трудно установить, что он пы-
тается сказать. Но если вы тщательно вникнете в текст, то уви-
дите, что здесь содержится ответ на вопрос, который автор поста-
рался сформулировать для себя с большой точностью. То, что вы
читаете, и есть его ответ. Теперь скажите мне, каков был вопрос».
Но наш преподаватель не может себя вести двояким образом.
Он не может сказать: «Наш автор пытается ответить здесь на
следующий вопрос... Это вопрос, который все философы рано или
поздно задают себе; правильный ответ на него дан Платоном или
Кантом, или Витгенштейном, и он состоит в... Наш автор дает
один из неверных ответов. Опровержение этой ошибочной точки
зрения таково». Его претензии на то, что он знает, какие вопро-
сы задавал себе автор, нелепы. Их очень просто разоблачить, если
спросить, на чем они базируются. Фактически же его утверждение
лишено всяких оснований; он хватается за какой-то философский
вопрос, который ему смутно видится в данном тексте.
Для меня поэтому не существовало двух отдельных групп во-
просов, исторических и философских. Была лишь одна группа,
историческая. Изучение Платона для меня было исследованием
того же самого типа, что и изучение Фукидида. Исследование
греческой философии и исследование греческого военного искусст-
ва — исторические исследования. Но это не означает, что вопрос,
был ли Платон прав, утверждая то-то и то-то, следует оставить
без ответа. Хорошо было бы предложение оставить вопрос:
«Был ли прав Формион, обойдя на веслах выстроившиеся в круг
корабли коринфян»
без ответа на том основании, что это вне
компетенции морской истории, ибо последняя интересуется только
тем, что сделал Формион! Сколь безумна была бы идея об исто-
рии как о науке, если бы из нее вытекало, что факт маневра
Формиона, обошедшего на веслах круг коринфских кораблей, при-
надлежит истории, а факт разгрома коринфского флота, явившего-
ся результатом этого маневра, ей не принадлежит. Разве мы все
еще зачарованы призраком Ранке, что-то бормотавшим относитель-
но того, «как было на самом деле», разве он так запугал нас,
что мы забыли, что не только морские маневры, но и победы —
исторические события или по крайней мере были событиями до
тех пор, пока современный прогресс в исторической науке не ли-
шил их этого значения?

364 Автобиография
Все эти идеи, за исключением тех, которые родились раньше,
пришли ко мне сразу же после возвращения в Оксфорд. Было
бы совершенно бесполезно излагать их перед моими коллегами.
«Реалисты», чья критическая техника была безупречна, а владели
они ею мастерски, не оставили бы от них камня на камне в те-
чение пяти секунд. Это, естественно, не заставило бы меня сдать-
ся, ибо я уже знал принципы «реалистической» критики и пони-
мал, что то, что они столь блистательно уничтожают, вовсе не
обязательно является истинными
тех, против кого на-
правлен их огонь. Атаке часто подвергалась извращенная версия
этих взглядов, созданная самим критиком. Однако «реалист» ни-
когда не может провести грань между извращением и реально-
стью, так как извращение — это просто реальность, увиденная че-
рез искаженную призму. Если бы я познакомил лидеров «реали-
стической» школы со своими мыслями, то они сказали бы мне,
как я уже слышал сотни раз: «На самом деле Вы не это имеете
в виду, а вкладываете в свои слова следующий смысл...». За-
тем последовало бы карикатурное изложение моих идей, выражен-
ное в терминах «реализма», некое чучело с руками и ногами, на-
столько превосходно сделанное, что я вряд ли удержался бы от
восторга.
Но я работал прежде всего не с коллегами, а с моими учени-
ками. В соответствии с очень дазней традицией Оксфорда — тра-
дицией, более древней, чем сам Оксфорд,— философия изучается
здесь путем чтения, объяснения и комментирования философских
текстов. Поскольку это живая традиция, то тексты берутся не
только из древних авторов. Такой набор учебных текстов, не об-
разующий никакого специального учебника и никем официально не
утверждаемый, постоянно меняется, хотя и не очень быстро и не
всегда правильно, ибо никакая книга не имеет шансов быть вклю-
ченной в этот набор до тех пор, пока она не утвердится настоль-
ко, чтобы стать классикой. Работа, появившаяся вчера, может
революционизировать всю проблему, но и тогда лучшим способом
изучения этой проблемы, получившей новую трактовку, считаются
чтение старых классических произведений, где она находила отра-
жение, и комментарии преподавателя, касающиеся упомянутых из-
менений.
Такого рода деятельность вполне устраивала меня. Я всегда
имел склонность скорее к частностям, чем к обобщениям; общий
принцип никогда не оживал в моем сознании до тех пор, пока
он не облекался в свои особые формы, а каждая из этих форм
не населялась массой конкретных случаев. Я не испытывал особо-
го желания излагать философские идеи, описанные в этих главах,
кому бы то ни было, будь это мои коллеги или ученики. Как я
уже говорил, я однажды попытался сделать это, но когда «Истина
и противоречие» была отвергнута издателем, а мои нападки на
«реалистические» принципы не были замечены коллегами, я счел

История философии 365
себя вправе обратиться к решению задачи, которая мне была боль-
ше по душе,— к практическому применению моих идей и их эмпи-
рической проверке. Этим я мог теперь заниматься по нескольку
часов в день, обучая моих учеников тому, как соблюдать извест-
ные правила при изучении философских текстов,
В одной из первых глав я уже сформулировал первое прави-
которое я стремился внушить ученикам: «Никогда не прини-
май на веру критику любого автора до тех пор, пока не убедишь-
ся, что эта критика действительно имеет к нему отношение».
В результате размышлений над мемориалом Альберта я пришел ко
второму правилу: «Реконструируй проблему», или, говоря иными
словами: «Никогда не считай, что ты понимаешь утверждение лю-
бого философа, пока ты не решил с максимально возможной точ-
ностью, на какой его вопрос это утверждение должно было слу-
жить ответом».
Эти правила не выражались в длинных трактатах. Но они
находили свое применение в постоянной практике. С момента мое-
го возвращения в Оксфорд до того момента, когда я стал про-
фессором, почти вся моя педагогическая деятельность как преподава-
теля Пемброк колледжа состояла в обучении студентов чтению
философского текста. Это, конечно, интересовало учеников. Студент,
испытывавший самое настоящее отвращение к заранее заготовлен-
ным опровержениям какой-нибудь доктрины, приходил в восторг,
когда слышал, что его наставник говорил ему: «Давайте сначала по-
смотрим, действительно ли Вы знаете, что говорил этот автор, и в
чем состоял вопрос, на который он пытался ответить». Затем
приносилась книга, читалась, объяснялась, а оставшееся время
консультации проходило, как одна минута. И для меня самого это
было не менее полезно. Вновь и вновь я обращался к знакомому
отрывку, значение которого, как мне казалось, я уже хорошо знал:
разве не был он уже объяснен бесчисленными учеными коммента-
торами и не были ли они все согласны в отношении его? И что
же, я находил, что при свежем подходе старая интерпретация тая-
ла и начинало вырисовываться совершенно иное значение. Так и
случилось, что история философии, которую мои «реалистические»
друзья считали предметом, не имеющим философского значения,
стала для меня источником неизменного, строго философского ин-
тереса и наслаждения. Что же касается моих учеников, то, смею
надеяться, и для них она была в какой-то мере поучительной и
увлекательной.
Но, конечно, она перестала быть «закрытым» предметом, пе-
рестала быть сводом фактов, которые очень ученый человек мог
заучить, а очень, очень большая книга перечислить во всей их
полноте. Она стала «открытым» предметом, неиссякаемым источ-
ником проблем, старых проблем, которые она открывала передо
мною вновь, и новых проблем, поставленных совершенно по-но-
вому. И, что самое главное, она стала ареной постоянной битвы
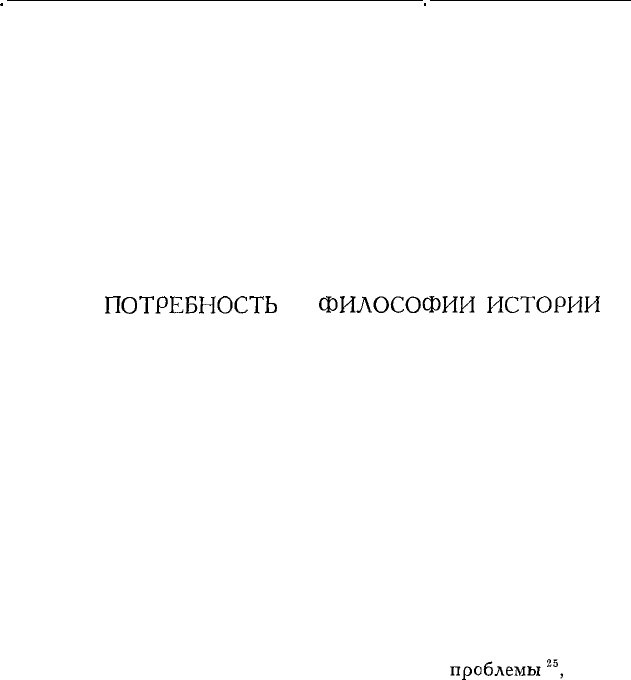
366 Автобиография
.
против догм, догм часто совершенно откровенно ошибочных и всег-
да порочных именно из-за своей догматичности, превращающей
живое тело исторической мысли в камень, в «информацию» для
учебников. Ибо в истории философии, как и в истории всякого
иного рода, ничто, что можно заучить наизусть, ничто, что можно
просто запомнить, не является историей в собственном смысле
слова.
И если кто-нибудь возразит мне, что в том, что было названо
мною «открытой» историей, за деревьями нельзя увидеть леса, то
я отвечу ему: «Ну и что!» На дерево можно смотреть, но на лес
не смотрят, в нем живут.
VIII.
В
Делом моей жизни, как видится мне сейчас, на 50-м году,
было прежде всего добиться rapprochement * между философией
и историей. В предшествующей главе я описал одну сторону это-
го rapprochement, а именно требование, чтобы философы, думаю-
щие об истории своего предмета, понимали, что они думают о
чем-то, бывшем историей, и должны думать о нем так, чтобы не
нарушались нормы современного исторического мышления.
С самого начала, однако, я понял, что для осуществления
моей программы нужно значительно большее. Вот почему я при-
шел к выводу о необходимости создания философии истории.
Это понятие в первую очередь обозначает особую область фи-
лософского исследования, посвященную специфическим проблемам,
связанным с историческим мышлением. Они включают эпистемоло-
гические проблемы, проблемы, которые можно было бы сгруппи-
ровать под общим заголовком: «Как возможно историческое мыш-
ление?» Сюда относятся и метафизические
касаю-
щиеся природы предмета исследований историка и требующие
разработки таких понятий, как событие, процесс, прогресс, циви-
лизация и т. д. Но эта задача создания новой области филосо-
фии очень скоро превратилась в задачу создания философии но-
вого типа. Что я здесь имею в виду, лучше всего объяснить,
проведя аналогию с новым типом философии, возникшим в семнад-
цатом веке.
Вскоре после начала этого столетия целый ряд умных людей
в Западной Европе пришел к твердому мнению относительно того,
что до них осознавалось в разных местах и в разное время немно-
гими людьми, осознавалось ценой героических усилий и всякий
раз заново, на протяжении всего предшествующего столетия или
даж:е ранее, а именно: они поняли, что философские проблемы,
которые со времени первых греческих философов получили общее
сближение (φρ.).
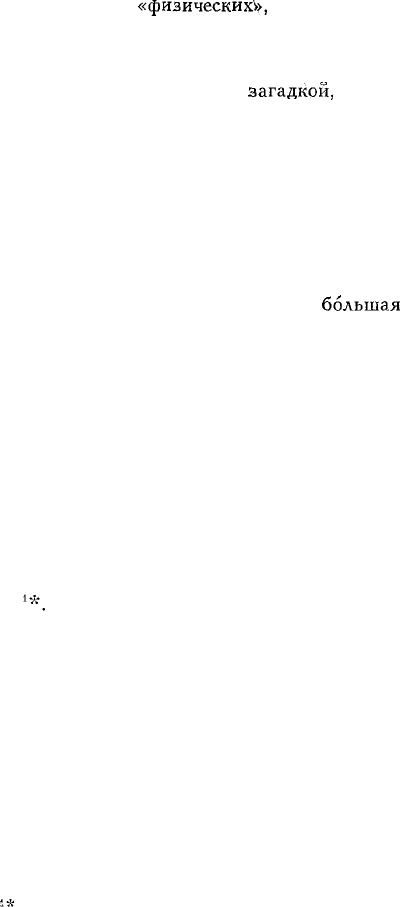
Потребность в философии истории 367
наименование
сейчас могут быть переформулирова-
ны таким образом, что каждый человек сможет решить их, поль-
зуясь двойным оружием эксперимента и математики. То, что на-
зывалось природой, отныне, по их мнению, не имело секретов от
человека, а было только
решать которую он научился.
Или же, выражаясь точнее, природа перестала быть сфинксом,
задающим загадки человеку. Теперь сам человек ставил вопросы,
а природу пытал до тех пор, пока она не давала ему ответа на
поставленный вопрос.
Это было важным событием в истории человечества. Достаточ-
но важным для того, чтобы оправдать деление философов того
времени на две группы — на тех, кто понимал важность происшед-
шего, и тех, кто этого не понимал. Первая группа включала в
себя тех, чьи имена сейчас хорошо известны людям, изучающим
философию. Вторая, неизмеримо масса хороших, ученых,
тонких людей, спит сейчас долгим сном, неизвестная и неоплакан-
ная, не потому, что не нашлось поэта, дабы воздать им хвалу
(с философами это случается редко), а потому, что они не поняли
знамений времени. Они не поняли, что главным делом философии
семнадцатого века было отдать должное естествознанию семнад-
цатого века, решить новые проблемы, поднятые новой наукой,
а старые проблемы увидеть в новой оболочке, которую они обре-
ли или смогли бы обрести под воздействием новой научной ат-
мосферы.
Главная задача философии двадцатого века — отдать должное
истории двадцатого века. До конца девятнадцатого — начала двад-
цатого века исторические исследования находились в положении,
аналогичном положению естественных наук догалилеевской эпо-
хи Во времена Галилея с естествознанием произошло нечто
такое (только очень невежественный или же очень ученый человек
рискнул бы кратко сказать, что же именно), что внезапно и в
громадной степени ускорило их движение вперед и расширило их
кругозор. К концу девятнадцатого века нечто подобное случилось
(хотя и более постепенно, может быть, менее драматично, но тем
не менее вполне определенно) и с историей.
До этого времени историограф в конечном счете, как бы он
ни пыжился, морализировал, выносил приговоры, оставался ком-
пилятором, человеком ножниц и клея. В сущности его задача
сводилась к тому, чтобы знать, что по интересующему его вопросу
сказали «авторитеты», и к колышку их свидетельств он был на-
крепко привязан, сколь бы длинной ни была эта привязь и сколь
Лорд Актон во вступительной лекции в Кембридже в 1895 г. очень верно
сказал, что историческая наука вступила в новую эру во второй четверти
девятнадцатого столетия. Было бы недооценкой случившегося сказать, что
история с 1800 г. прошла через коперниковскую революцию. Оглядываясь
назад, мы можем сказать теперь, что произошла гораздо более великая ре-
волюция, чем та, которая связана с именем Коперника.
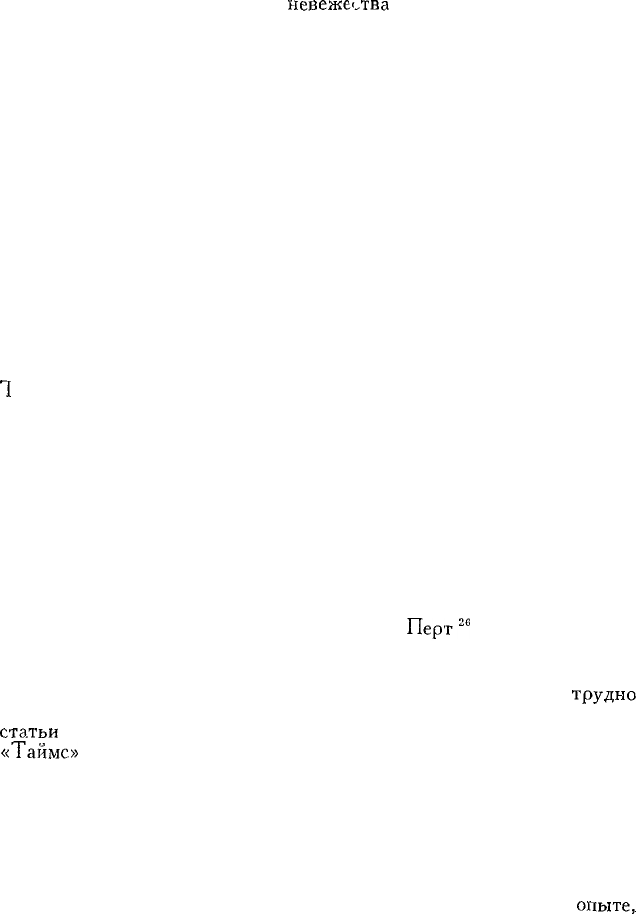
368 Автобиография
бы сочным ни был луг, на котором ему было дозволено пастись.
Если же научные интересы влекли его к сюжетам, не подкреплен-
ным свидетельствами авторитетов, он оказывался в пустыне, где
ничего не было, кроме песка
и миражей воображения.
Я отнюдь не хочу сказать, что мое первое посещение места
современных раскопок (их проводил мой отец там, где находилась
северная башня римского форта, называющегося сейчас Харднот
Касл; мне было тогда всего три недели, и меня принесли туда
в ящике плотника) открыло мне глаза и показало, что возможно
нечто совсем иное. Но я рос в археологической атмосфере, ибо
мой отец, не очень преуспевая как профессиональный художник,
все более и более обращался с годами к археологии, будучи на-
делен блестящими способностями для занятий ею. А затем во
время школьных каникул я научился отличать остатки древних
стоянок и поселений от слоев послеледниковой гальки. Мне дове-
рили поиски доисторических остатков в исследуемых местах и их
описание. Два сезона я работал помощником отца на его ныне
ставших классическими раскопках одного сельского поселения пе-
риода римской Британии.
Эти и другие подобные уроки привели меня к мысли, что нож-
ницы и клей — не единственные орудия исторического метода.
ребовались, мне это было совершенно ясно, достаточно широкие
и достаточно научно обоснованные исследования этого типа
[типа археологических.— Пер.], и они бы научили нас если не
всему, то очень многому в тех областях, само существование кото-
рых осталось бы навеки неизвестным историку, полагающемуся
только на авторитеты. Мне было ясно также, что их методами
можно пользоваться и для того, чтобы исправлять самих автори-
тетов, когда они ошибаются или искажают истину. И в том, и в
другом случае, однако, само представление об историке как о
человеке, полностью зависящем от того, что ему сказали его авто-
ритеты, было подорвано.
Всему этому, с тех пор как Буше де
начал свои рас-
копки в гравиевых карьерах, можно было бы научиться и из книг.
Задолго до того, как все это пришло мне в голову, оно было
известно даже читателям газет. Но мне всегда было
учиться чему-то из книг, не говоря уже о газетах. Когда я читаю
моих друзей об их раскопках на средних листах газеты
или великолепно иллюстрированное пособие, объясняю-
щее мне правила ухода за мотором определенного типа, мой мозг,
очевидно, перестает работать. Но оставьте меня на полчаса на
месте раскопок со студентом, который мне скажет, о чем идет
речь, или дайте мне в руки мотор с набором инструментов, и дело
пойдет веселее. Так и эти идеи об истории, сколь бы элементар-
ными и банальными они ни были, я обрел во всяком случае
достаточно солидным образом. Я узнал на собственном
что история — не дело ножниц и клея, что она гораздо больше
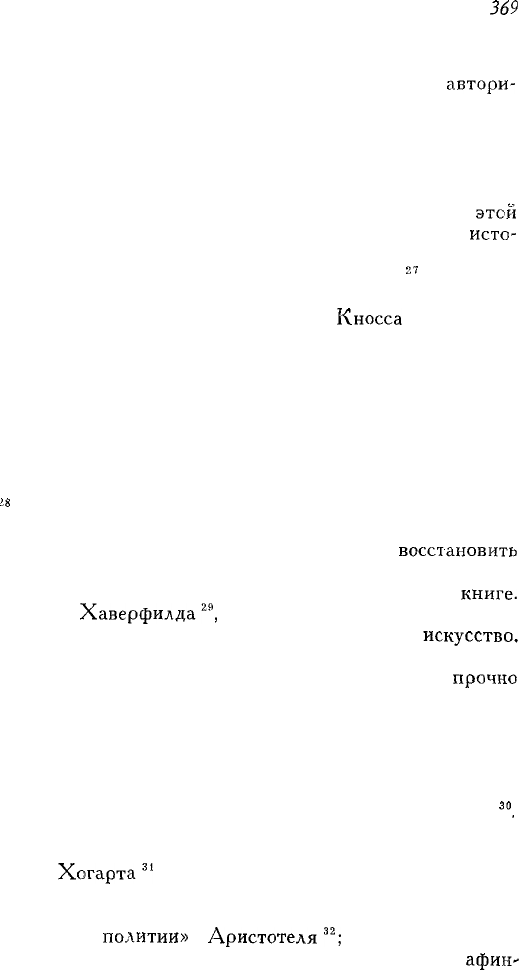
Потребность в философии истории
похожа на то, что Бэкон называл наукой. Историк должен решить,
что он точно хочет знать; и если при этом у него нет
тета, который ответил бы на интересующий его вопрос (а со
временем каждый придет к выводу, что таких авторитетов не
существует), то ему ничего не останется делать, как найти кусок
земли или что-то другое, что в себе скрывает ответ, и добиться
ответа любыми доступными ему средствами.
Моя философия истории дошла в своем развитии до
точки, когда я прибыл в Оксфорд. Революция же в методах
рического познания, которая уже привлекла мое внимание, про-
должала молча делать свое дело. Сэр Артур Эванс в начале
столетия продемонстрировал великолепный образец нового метода
раскопок и реконструировал долгую историю
бронзового
века. Официальная реакция Оксфорда на работы Эванса состоя-
ла в том, чтобы изъять из греческой истории (как предмета,
преподаваемого в университете и сдаваемого студентами) все, что
предшествовало первой Олимпиаде. Затем археология начала вос-
полнять античную историю с другого конца ее временной шкалы.
Моммзен показал, как с помощью статистической и иной обработ-
ки надписей историк Римской империи может ответить на такие
вопросы, которые никому и не приходило в голову задавать.
Драгендорф классифицировал формы «самосской» керамики и
начал — вместе с другими — ее датировать. Новым и волнующим
фактом стала возможность с помощью раскопок
историю римских поселений, не упомянутых никаким источником,
и события римской истории, не упомянутые ни в какой
Благодаря работам
чьи интересы распространя-
лись на все области и уголки римской археологии, а
эрудиция и знание эпиграфики были сопоставимы, полагаю, лишь
с. искусством и эрудицией одного Моммзена, эти понятия
укоренились в Оксфорде и кардинально изменили изучение исто-
рии Римской империи.
Чисто компилятивный характер истории Древней Греции пред-
ставлял собой для пытливого ума юношества довольно пикантный
контраст с исследованиями по истории Рима. Существовала гре-
ческая археология (разве у нас не было Перси Гарднера?)
Но ею пользовались лишь для того, чтобы украсить повествова-
ния древних авторов. Лишь иногда какой-нибудь смелый револю-
ционер вроде Д.
намекал, что в их рассказах могут
кое-где встречаться лакуны. Но, в соответствии с ортодоксальной
точкой зрения, последним событием в историографии Греции было
открытие «Афинской
и единственное,
что полагалось делать студенту,— сравнивать два описания
ской революции у Фукидида и Аристотеля и решать по пунктам,
какое из них точнее. А великий тогдашний лектор по исто-
рии Греции Е. Э. Уолкер был изысканно вежлив к археологии,
проявляя тот род вежливости, который мог описать только Поп.
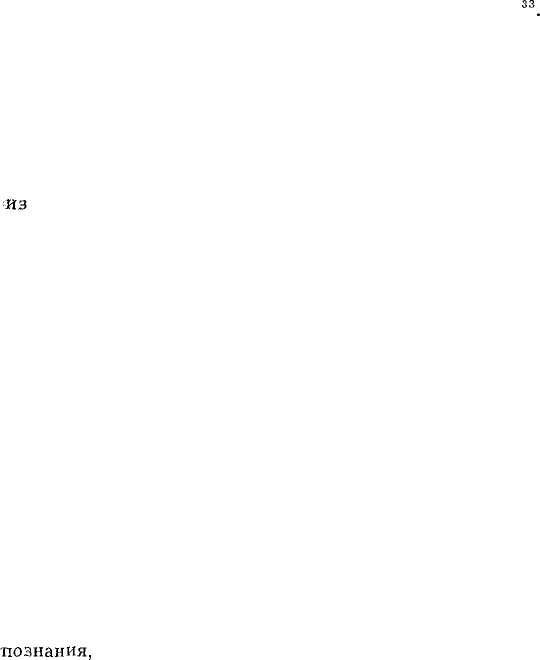
/
370 Автобиография
Для человека же более низкого ранга все было понятно, и ему
оставалось лишь плакать, окажись он на месте Аттика
Таким образом, волны новых методов не коснулись греческой
истории. И еще в течение многих лет, до, как я надеюсь, надолго
запомнившегося периода, когда старейшиной был А. Блейквей,
почти все способные молодые люди в Оксфорде, желавшие посвя-
тить свою жизнь античной истории, обращались к эпохе Римской
империи, оставляя Грецию представителям истории ножниц и
клея. Такая специализация была печально известна в Оксфорде.
Сам Хаверфилд, может быть, наименее философски мыслящий
историков, совершенно не думал о принципах и возможностях
той революции, которую он возглавил. Он даже, по-видимому,
никогда и не осознавал этой революции. Однажды он жаловался
мне, что экзаменаторы в «Школе Великих» как-то игнорируют его
лекции, судя по тем студенческим работам, которые они представ-
ляют, и что вообще коллеги не разделяют его точки зрения на
историю. Но я не думаю, чтобы ему пришло в голову такое со-
ображение,— у этого невнимания могут быть глубокие причины,
а различия между точками зрения историков на свой предмет
заслуживают размышлений.
Что же касается философов, то их книги, лекции, беседы ни
разу не дали мне ни малейшего повода считать, что хотя бы один
из них понимал, что происходит. Они унаследовали традицию,
восходящую к началу семнадцатого столетия, в соответствии с
которой лишь методы естественных наук заслуживают самого при-
стального внимания. Считалось бы признаком грубейшего неве-
жества, если бы кто-нибудь из них не знал чего-то, касающегося
так называемого «научного» метода, его роли в наблюдении и
логическом анализе, не знал проблем индукции и т. д. Любой из
них без особой подготовки мог бы читать курс лекций по пробле-
мам «научного» метода. А когда они обсуждали проблемы теории
то было ясно, что, как правило, слово «познание» в со-
четании со словом «теория» было для них более или менее эквива-
лентно знанию мира природы, или физического мира.
Их полное пренебрежение к истории как к одной из областей
знания было, с моей точки зрения, тем более странным, что
вряд ли хотя бы один из них получил естественнонаучное образо-
вание; почти каждый из них (я говорю об оксфордских филосо-
фах) в свое время читал «Великих» и потому прошел углублен-
ный курс античной истории. Тем не менее из всей литературы
«реалистической» школы того времени я вспоминаю только один
отрывок, который еще как-то мог свидетельствовать об осмыслении
истории,— я имею в виду главу «Исторический метод» в «Логике»
Джозефа. Но когда вы переворачивали последнюю страницу этой
главы, вы обнаруживали, что «исторический метод» не имеет ничего
общего с историей, а представляет собой метод, используемый в
естественных науках.
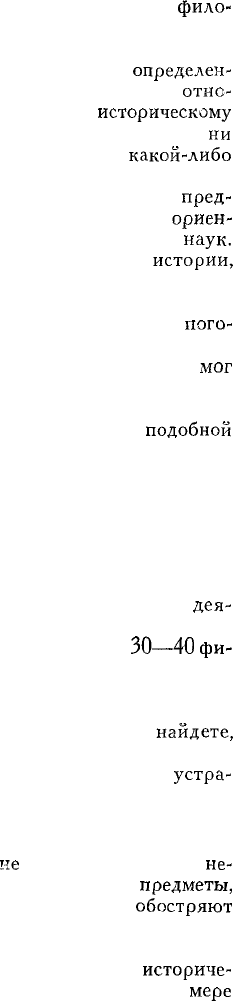
ι
Потребность в философии истории 37Т I
Этот разрыв был, мягко говоря, не к чести английской
софии. Мои «реалистические» друзья, когда я говорил им об
этом, отвечали мне: никакого разрыва нет, их теория познания:
была теорией познания вообще, а не теорией какого-то
ного вида познания. Следовательно, считали они, их теория
сится в равной мере как к «научному», так и к
познанию или же к любому иному виду познания, какой бы я
назвал. С их точки зрения, было глупо считать, что
вид познания может требовать специального эпистемологическо-
го исследования. Мне было ясно, что они ошибаются, что
мет, который они называли теорией познания, фактически
тирован был главным образом на методологию естественных
Я знал, что всякий, кто попытался бы «применить» его к
обнаружил бы, знай он, на что похоже историческое мышление,
полную невозможность такого «применения». Но, может быть,
я понимал все это только потому, что знал, как гласит
ворка, где жмут ботинки. Моя голова уже была полна проблем
исторической методологии. Разбирая их одну за другой, я
спрашивать себя: «А что дают принятые теории познания для
решения этой конкретной проблемы? Или той?» И всякий pas
я отвечал: «Ничего». Но было бы неразумно ожидать
же убежденности у людей, которые не размышляли так много о
методе исторического познания.
Мне казалось вполне правомерным специализироваться в об-
ласти исследования исторического метода, ибо я был особенно
хорошо подготовлен к этому. Такая специализация была оправда-
на даже тем весьма скромным соображением, что история, как
она бы ни уступала в достоверности, важности и полезности
естественным наукам, все же есть форма интеллектуальной
тельности, и философия могла бы обратить на нее свое внима-
ние. Далее, ничего плохого не случилось бы, если б из
лософов один посвятил себя столь туманной области. Подобные
области, вроде римской Британии, всегда привлекали меня. Сама
их неясность бросает вызов исследователю; вам приходится
искать новые методы их изучения, и тут-то вы, может быть,
что причина их туманности кроется в каких-то дефектах метода,
применявшегося до сих пор. Когда же эти дефекты будут
нены, станет возможно пересмотреть общепринятые мнения о дру-
гих, более знакомых предметах и исправить имеющиеся в них
ошибки.
В этом смысле познание — движение
от известного к
известному, а от неизвестного к известному. Неясные
заставляя нас думать интенсивней и последовательней,
наш ум и позволяют рассеять облако предрассудков и суеверий,
часто обволакивающее наше сознание, когда мы думаем о чем-то
привычном для нас. Тот простой факт, что методология
ского познания находилась в полном небрежении, по крайней
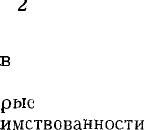
Автобиография
Англии, будил во мне надежду, что, сосредоточивая внимание
на ней, я смогу сделать такие открытия в теории познания, кото-
были невозможны для «реалистов» из-за банальности и за-
их идей о методах естественнонаучного познания.
Например, распространенные теории «научного метода» сходи-
лись на том, что ставили «научное» знание в зависимость от исто-
рического, хотя эта зависимость и была сформулирована таким
образом, что закрадывалось подозрение: авторы трактатов сами
не хотят, чтобы читатель обратил на нее внимание. Никто, гово-
ря о зависимости «научного» знания от эксперимента, не считал,
что научная теория возникает у ученого одновременно с экспе-
риментом (или экспериментами), на котором она основывается.
Все исходили из того, что ученый, строя теорию, пользуется
определенным историческим знанием об уже проделанных экспе-
риментах и их результатах. Положение о том, что всякое «науч-
ное» знание тем самым включает исторический элемент, было об-
щим, хотя и замаскированным местом методологических трактатов.
Мне было совершенно ясно, что любой философ, предлагающий
публике теорию «научного метода», не давая ей в то же время
и теории исторического метода, обманывает ее. Он ставит свой
мир на слона и надеется, что никто не спросит его, на чем же
стоит слон. Добавить теорию исторического метода к уже сущест-
вующей теории «научного метода» было непросто. Задача своди-
лась к тому, чтобы исправить дефект в распространенных теориях
«научного метода», обратив внимание на некоторый элемент в
«научном» знании, относительно которого, казалось, царил заго-
вор молчания,— на исторический элемент.
Но за моим решением обратиться к этой области стояло и
нечто большее. За последние 30—40 лет наблюдалось необычай-
ное ускорение развития исторической мысли и расширение ее
кругозора, которые сравнимы лишь с аналогичным развитием есте-
ствознания в начале семнадцатого столетия. Я был вполне уверен,
насколько вообще могут быть достоверными наши прогнозы, что
значение исторической мысли, постоянный рост которого был од-
ним из характерных признаков науки девятнадцатого века, будет
еще более быстрыми темпами увеличиваться в двадцатом. Мы,
может быть, находимся на пороге эпохи, когда история будет
столь же важна для мира, как были важны для него естествен-
ные науки с 1600 по 1900 г. Но если так обстояло дело (и чем
больше я думал над этим, тем вероятнее мне это казалось), то
мудрому философу полагалось бы любой ценой сконцентрировать
все свои силы на проблемах истории. Поступая таким образом,
он примет участие в закладке фундамента будущего.
