Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография
Подождите немного. Документ загружается.

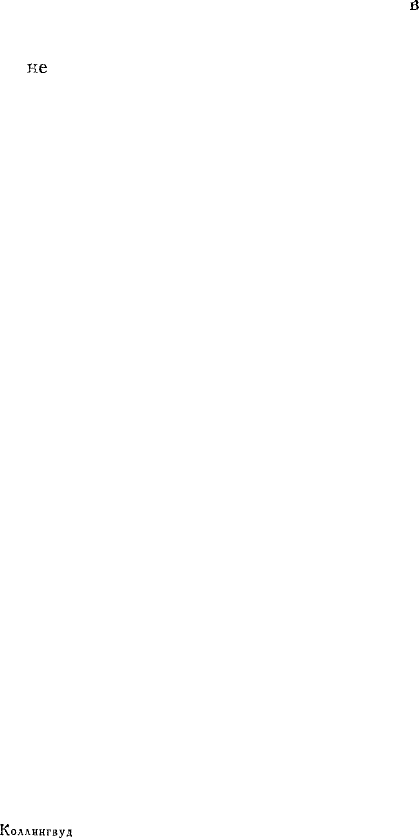
История философии 353
щей же дискуссии он становится оскорбительным. Один из собрав-
шихся читает доклад, остальные обсуждают его с развязностью,
прямо пропорциональной их невежеству. Чтобы блистать на таких
сборищах, человек должен иметь довольно тупой, нечувствитель-
ный ум и хорошо подвешенный язык. Я не знаю, как дело об-
стоит с попугаями, но философы и историки, которые не могут ,
говорить, по-видимому, больше думают, а те, кто много мыслит,
говорят, конечно, меньше.
Поэтому, может быть, и не было таким уж большим невезе-
нием, что во всех еженедельных дискуссиях,
которых я участ-
вовал, проблемы, обсуждаемые нами, всегда ставились другими
членами кружка, а не мною. И методы их решения принадлежали
им, а
мне. Когда же я пытался поставить какой-нибудь во-
прос, особенно интересный с моей точки зрения, либо вести дис-
куссию в соответствии с методами, казавшимися мне правильными,
то я сталкивался с большей или меньшей степенью непонимания
или же с хорошо известными мне симптомами возмущенной фи-
лософской совести. Все это очень скоро научило меня тому, что
очень важно было усвоить: я должен делать свою работу, пола-
гаясь на собственные силы, и мне не надо рассчитывать на по-
мощь коллег.
Но это не значит, что я перестал участвовать в дискуссиях.
В одной из предыдущих глав я уже объяснил, что, согласно моей
«логике вопроса и ответа», доктрины философа суть ответы на
вопросы, которые он задает самому себе. Всякий, кто не пони-
мает этих вопросов, не может рассчитывать и на то, чтобы понять
его доктрины. Та же самая логика привела меня к выводу: лю-
бой человек может понять любую философскую доктрину, если
сумеет ухватить те вопросы, на которые она отвечает. Эти во-
просы не обязательно должны принадлежать ему самому, они мо-
гут входить в комплекс идей, весьма отличных от тех, что могут
спонтанно возникнуть в его уме; но последнее обстоятельство не
должно мешать ему понимать эти вопросы и оценивать, пра-
вильно ли люди, интересующиеся ими, отвечают на них или нет.
Такой подход делает вопросом чести для любого философа
участие в обсуждении проблем, поставленных не им, и участие
в разработке философских теорий, не являющихся его собствен-
ной философией. Следовательно, когда другие философы обсужда-
ли проблемы, возникающие из определений, которые мне каза-
лись ложными, или же в постановке этих проблем основывались
на принципах, по моему мнению неверных, я обычно вступал в
дискуссию точно так же, как включился бы в какой-нибудь древ-
ний философский спор, не ожидая, что его участники заинтере-
суются моими проблемами. Вместе с тем я считал необходимым
проявлять должный интерес к их точкам зрения.
По-видимому, благом для меня было и то, что я не ожидал
понимания от других философов. В то время любого человека,
12 F.

354 Автобиография
противостоящего «реалистам», автоматически включали в разряд
«идеалистов», т. е. представляли как анахроническое ископаемое
школы Грина. Не существовало такой классификационной рубри-
ки, куда вы могли бы отнести философа, который, пройдя тща-
тельную подготовку в школе «реализма», восстал против нее и
пришел к собственным выводам, совершенно непохожим, однако,
и на то, чему учила школа Грина. Но именно к этой школе и
стали, как я обнаружил, причислять меня вопреки моим протестам,
которые я время от времени считал нужным делать. Затем я
привык к этому. В противном случае я был бы слишком обижен,
чтобы твердо придерживаться правила, которое должен вырабо-
тать каждый, кто делает свою собственную работу,— не отвечать
критикам. Я мог бы забыть его, например, когда один из «реа-
листов» (не из Оксфорда), рецензируя мою первую книгу, в кото-
рой я попытался определить мою философскую позицию, несколь-
кими строчками отбросил ее с презрением, «как обычную идеали-
стическую бессмыслицу».
Этой книгой была «Speculum Mentis», опубликованная в
1921 г. Во многих отношениях это была плохая книга Мои
взгляды, изложенные в ней были не до конца продуманы и не-
умело выражены. Обилие самых различных примеров не помогло,
а помешало большинству читателей понять мои идеи. Я бы согла-
сился полностью с рецензентом, который заявил, что он не смог
найти здесь никаких концов и характеризовал всю книгу как бес-
смыслицу. Однако всякий достаточно умный человек, понимавший,
что я хочу в ней сказать, понял бы (не будь он полнейшим невеж-
дой) и то, что эта книга не «обычна» и не «идеалистична».
Но вернемся к дискуссиям. Привычка следить и принимать
участие в спорах, где обсуждаемые проблемы и метод их реше-
ния принадлежали не мне, а другим, оказалась чрезвычайно по-
лезной для меня. Следить за работой современных философов,
философов, придерживавшихся взглядов, весьма отличных от моих,
писать эссе, развивающие их взгляды и ставящие вопросы, ко-
После того, как я это написал, я прочел «Speculum Mentis» впервые с момен-
та ее опубликования и нашел, что она значительно лучше, чем мне пред-
ставлялось. Это отчет, и не очень уж плохо написанный, о большой
венной работе подлинного мышления. Если многое в книге сейчас не удовлет-
воряет меня, то лишь потому, что с того времени, как я ее написал, я продол-
жал думать и, следовательно, многое в ней должно быть дополнено и
уточнено. Но в ней не так уж и много такого, от чего следовало бы отказать-
ся. Теперь насчет ответов критикам. Я никогда не отвечал и не буду отвечать
< ни на какую публичную критику моих работ. Я слишком сильно ценю свое
время. Время от времени я полагал, что будет невежливо не ответить кратким
комментарием на критику, присланную мне в частном письме, или же на пуб-
личную критику, если автор прислал мне оттиск своей работы. Комментарии
такого типа, конечно, не ответы, и ни при каких обстоятельствах я бы не
разрешил их публикацию.
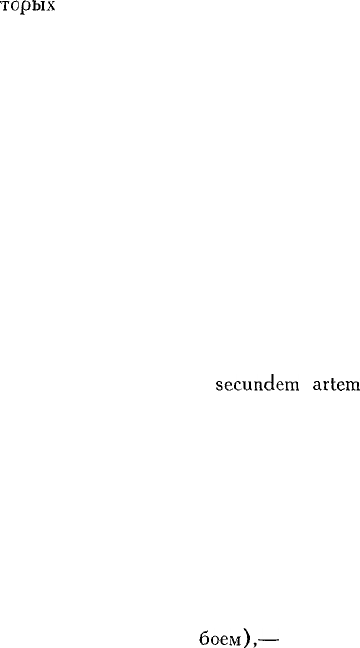
История философии 355
сами они не поднимали, мысленно реконструировать их
проблемы, изучать, иногда с самым неподдельным восхищением,
как они пытаются решить их,— все это было не только волную-
щей задачей для ума, но и великолепным его упражнением. Эта
моя способность наслаждаться и восхищаться работой других фи-
лософов независимо от того, насколько сильно их учение отлича-
лось от моего, не всегда была приятна моим коллегам. Некото-
рые из них, может быть, обманывались на сей счет, ошибочно
предполагая, что у меня нет никаких собственных серьезных убеж-
дений. Других она раздражала, как трусливый отказ защищать
собственные убеждения. «Я хотел бы встретиться с Вами в чистом
поле, в открытую»,— сказал мне на одной из наших еженедель-
ных дискуссий Причард голосом, в котором звучало раздраже-
ние. Тогда мы обсуждали две соперничающие теории (я забыл,
какие), причем каждая из них, как мне казалось, основывалась
на одной и той же ошибке. Двадцать лет знакомства с его сти-
лем мышления научили меня, что какие бы то ни было объясне-
ния с ним бесполезны. Если бы только я начал, он бы вмешался
и через пять минут
* опроверг все, что, по его
мнению, я собирался сказать.
Этот характер отношения к мыслям других людей, хотя фор-
мально и вытекавший из моей «логики вопроса и ответа», был
для меня привычным задолго до того, как я начал разрабаты-
вать свою логическую теорию. Думать в этом стиле о философ-
ских учениях, принадлежащих другим, значит думать о них исто-
рически. Смею сказать, что мне было не более шести или семи лет,
когда я впервые понял, что единственный метод решения любой
исторической проблемы, скажем тактики Трафальгарского боя
(я вспоминаю здесь Трафальгарское сражение потому, что воен-
но-морская история была моей детской страстью, а Трафальгар —
любимым морским
это уяснить, что пытались делать те
или иные люди, связанные с историческим событием. История —
не знание того, какие события следовали одно за другим. Она —
проникновение в душевный мир других людей, взгляд на ситуа-
цию, в которой они находились, их глазами и решение для себя
вопроса, правилен ли был способ, с помощью которого они хоте-
ли справиться с этой ситуацией. До тех пор пока вы не сможете
представить себя в положении человека, находящегося на палубе
военного парусника с бортовыми пушками короткого боя, заря-
жающимися не с казенной части, вы даже не новичок в военно-
морской истории. Вы просто — вне ее. А если вы хоть на минуту
позволите себе думать о тактике Трафальгара, исходя из предпо-
ложения, что корабли приводились в движение паром, а пушки
были дальнобойными и заряжались с казенной части, то вы
сразу же выйдете за пределы истории вообще.
* попутно (лат.).
12*
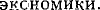
356
Автобиография
Одним из принципов «реализма» (вот почему Причард был
так сердит на меня) было отрицание существования истории фи-
лософии, если понимать историю именно так. «Реалисты» считали,
что проблемы, которыми занимается философия, не меняются. Они
думали, что Платон, Аристотель, эпикурейцы, стоики, схоласты,
картезианцы и т. д. задавали себе одни и те же вопросы, но по-
разному отвечали на них. Например, они полагали, что проблемы
современной этики те же самые, что и этические проблемы пла-
тоновского «Государства» или аристотелевской «Никомаховой эти-
ки». Они считали вполне серьезным делом спрашивать, кто был
прав, Кант или Аристотель, давая разные решения вопроса о
природе морального долга.
«Реалисты», конечно, считали, что философия имеет историю,
но вкладывали в это понятие совсем иной смысл. Безусловно,
различные философы по-разному отвечали на вечные вопросы фи-
лософии. Эти ответы давались в известной последовательности и
в разное время. «История» философии у «реалистов» и должна
была определить, какие ответы давали философы, в каком поряд-
ке, в какое время. В этом смысле вопрос, в чем суть теории
долга у Аристотеля, мог бы считаться «историческим». И его
можно было полностью отделить от философского вопроса, была
ли его теория долга истинной. Таким образом, «история» фило-
софии представляла собой исследование, ничего общего не имею-
щее с выяснением того, была ли, к примеру, платоновская тео-
рия идей истинной или ложной. А между тем надо было уста-
новить сначала, в чем заключалась эта теория.
Оксфордская педагогическая традиция требовала от студентов
глубокой философской эрудиции, знания ими по крайней мере
некоторых классических работ по философии и способности пони-
мать их. При господстве «реализма» она, безусловно, сохранилась
и фактически была наиболее ценной частью курса философии в
Оксфорде. Но эта традиция слабела год от года. Сменявшие друг
друга на протяжении ряда лет экзаменационные комиссии, при-
нимавшие экзамены по «классикам», жаловались мне, что уровень
работ по греческой философии снижается. Когда я проводил эти
экзамены в середине 20-х годов, то обнаружил, что очень немно-
гие экзаменующиеся сами читали произведения тех авторов, о ко-
торых они писали. В массе же они лишь знали записи лекций об
этих писателях и критику лектором их философских учений. Па-
дение интереса к истории философии открыто поощрялось «реа-
листами». Именно один из их уважаемых лидеров, доказывавший,
что «история» философии как предмет не имеет философского ин-
тереса, настоял на исключении студенческих письменных работ по
этому предмету из учебных планов курсов философии, политики
и
Во время войны, размышляя над мемориалом Альберта, я на-
чал пересматривать «реалистическое» отношение к истории фило-
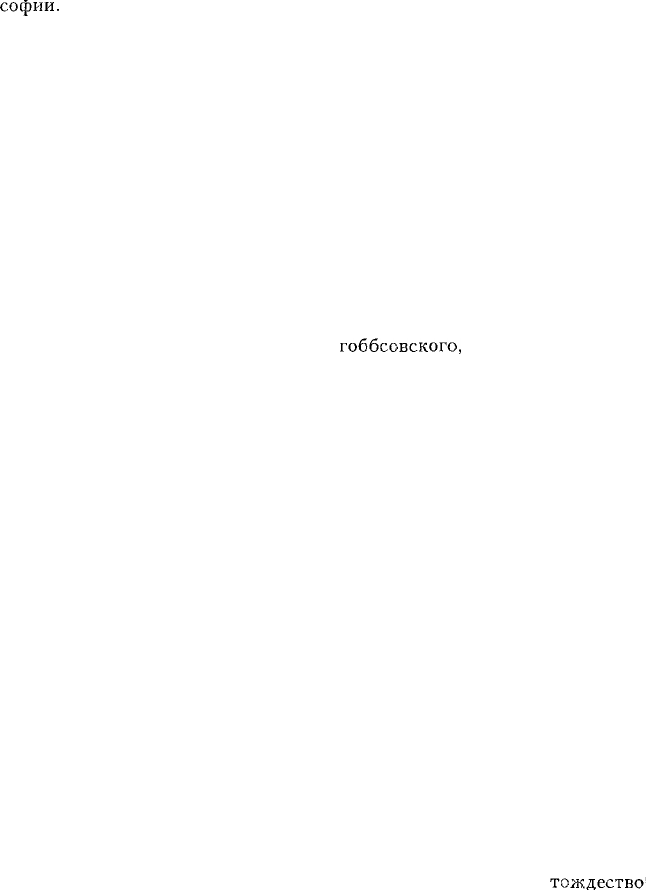
История философии
357
Действительно ли правильно утверждение, что вопросы
философии «вечны», беря последнее слово даже в самом его общем
значении? И я скоро пришел к выводу, что это неверно; такое
утверждение было просто вульгарной ошибкой, плодом своего рода
исторической близорукости, которая, обманутая поверхностным
сходством, не смогла установить и глубоких различий.
Луч ясного дневного света блеснул для меня прежде всего в
истории политических учений. Возьмем «Государство» Платона
и «Левиафан» Гоббса, поскольку обе работы имеют отношение к
политике. Очевидно, что политические теории, излагаемые там, не
тождественны. Может быть, перед нами две разные теории одного
и того же предмета? Можем ли мы сказать, что в «Государстве»
одно описание «природы государства», а в «Левиафане» другое?
Нет, потому что платоновское «государство» — греческий полис,
а гоббсовское — абсолютистское государство семнадцатого столе-
тия. «Реалисты» отвечают на этот вопрос легко: конечно, плато-
новское государство отличается от
но то и другое —
государство, поэтому обе теории — теории государства. И в самом
деле, что вы имеете в виду, называя их политическими, как не
то, что они — теории одного и того же предмета?
Для меня было очевидно, что такой ответ — всего лишь логи-
ческая путаница и что если вместо подобной топорной логики
обратиться к более тонким инструментам анализа и разобрать
понятие «государство» у Платона и у Гоббса, то обнаружится,
что различия между ними не второстепенны, а касаются самой
сущности. Вы можете, если хотите, объединять оба объекта под
одним именем. Но если вы так сделаете, то вам придется при-
знать, что этот объект diablement changé en route *, ибо при-
рода государства в платоновские времена действительно отлича-
чалась от природы государства во времена Гоббса. Я имею в
виду не эмпирическую природу государства, а именно его идеаль-
ную природу. Изменились цели деятельности даже у самых лучших
и самых мудрых из людей, занимающихся политикой. Платоновское
«Государство» — это попытка построения теории одного предмета;
гоббсовское государство — попытка построения теории чего-то совсем
другого.
Безусловно, налицо и. связь между этими двумя предметами;
но она совсем не того рода, о котором думали «реалисты». Вся-
кий бы признал, что платоновское «Государство» и гоббсовский
«Левиафан» посвящены вещам, которые в чем-то тождественны,
а в чем-то различны. Это бесспорно. Споры вызывает характер
тождества И различия. «Реалисты» полагали, что это
было тождеством «универсалии», а различие •— различием двух ее
примеров. Но это не так. Тождество здесь — тождество истори-
ческого процесса, а различие — различие между одной вещью, ко-
дьявольски изменился по дороге (φρ.).
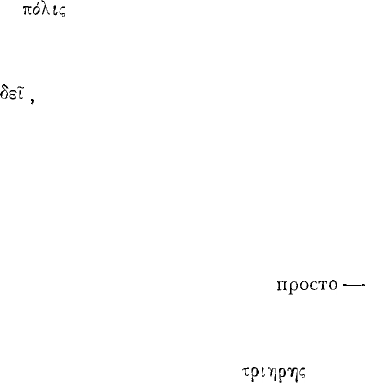
358 Автобиография
торая в ходе этого процесса превратилась в нечто иное, и другой
вещью, в которую первая превратилась. Всякий, кто игнорирует
указанный процесс, отрицает различие между явлениями и дока-
зывает, что раз платоновская теория противоречит гоббсовской,
значит, одна из них неверна, говорит вещи, не соответствующие
действительности.
Следуя этой логике, я скоро понял, что история политиче-
ских теорий — не история различных ответов на один и тот же
вопрос, а история проблемы, более или менее постоянно меняю-
щейся, и решение ее меняется вместе с изменением самой про-
блемы. Форма полиса не является, как, по-видимому, думал Пла-
тон, единственно возможным для разумного человека идеалом че-
ловеческого общества. Она не есть нечто, извечно исходящее с
небес и являющееся целью хороших правителей во все времена
и во всех странах. Она казалась идеалом человеческого общества
лишь грекам платоновской эпохи. Ко времени Гоббса изменились
взгляды людей не только на то, какие формы социальной орга-
низации возможны, но и на то, какие из них желательны. У них
были иные идеалы. И, следовательно, представители политической
философии, чье дело — дать обоснованное выражение этих иде-
алов, имели перед собою другую задачу, задачу, требовавшую
для правильного решения других подходов.
Найдя этот ключ, мне легко было применить его и в других
областях. Нетрудно было понять, что точно так же, как грече-
ское слово
не могло быть адекватно переведено современ-
ным словом «государство» (если не сделано предостережение, что
оба предмета существенно отличаются друг от друга, и не сказа-
но, в чем состоят различия), так и в этике такое греческое сло-
во, как
нельзя адекватно перевести словом «должен», если
оно не включает в себя понятие так называемого «морального
обязательства». Существует ли какое-нибудь греческое слово или
выражение, чтобы передать подобное понятие? «Реалисты» гово-
рили, что существует. При этом они ставили себя в смешное по-
ложение, забывая, что «теории морального обязательства», раз-
рабатывавшиеся греческими авторами, отличаются от подобных
теорий в философии нового времени у таких авторов, как Кант.
Но как они узнали, что греческие и кантовские теории касались
одного и того же предмета? Очень потому что слово
δει (или любое другое того же значения) является грече-
ским эквивалентом слова «должен».
Все это напоминает кошмарную историю с человеком, которс
му пришло в голову, что слово
— греческий эквивалент
слова «пароход». А когда ему указали, что описанные греческими
авторами триеры не очень похожи на пароходы, он торжествующе
воскликнул: «А я что говорил! Эти греческие философы (или же
,,эти современные философы", в зависимости от того, чью сторону
он принял в добром старом споре между древним и новым време-
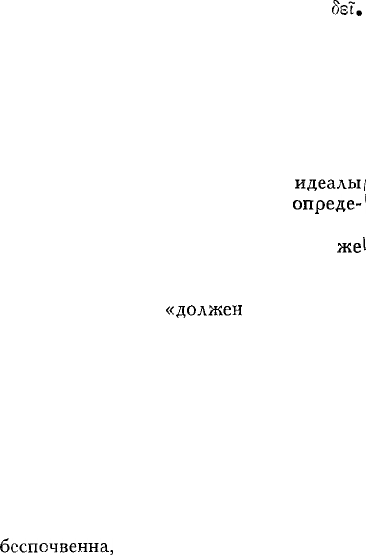
История философии 359
нем) были ужасными путаниками, и их теория пароходов никуда
не
годится!». Если
бы вы
попытались объяснить
ему, что τριήρης
вообще обозначает не пароход, а что-то совсем иное, он бы отве-
тил: «Тогда что же оно значит?» И за десять минут показал
вам, что вы этого не знаете. В самом деле, вы не можете изобра-
зить триеру, изготовить ее модель или даже объяснить, как она
действует. И, уничтожив вас, он бы потом всю жизнь переводил
τριήρης как «пароход».
Если бы он не был так умен, то знал бы, что, тщательно
отбирая и истолковывая свидетельства, вы можете сделать неко-
торые, хотя, конечно, и неполные, заключения насчет того, на что
были похожи триеры. Точно так же, обрабатывая свидетельства,
вы можете прийти к выводу о значении таких слов, как
Но в обоих случаях вы обязаны подойти к вопросу с истори-
ческой точки зрения, а не с точки зрения мелких философов,
и вместе с тем подойти с убеждением в том, что, каково бы ни
было значение греческого слова, анализируемого вами, оно необя-
зательно (и даже маловероятно) будет обозначать то же самое,
что может быть передано каким-нибудь словом или набором слов
английского языка.
Идеалы личного поведения так же непостоянны, как и
социальной организации. Не только содержание, но и само
ление того, что называем мы идеалами, постоянно изменяется./
«Реалисты» знали, что различные народы и даже одни и те
народы в разные времена придерживаются разных взглядов
(и имеют полное право это делать) на то, как человек должен
себя вести. Но они считали, что выражение
себя вести»
имеет одно значение, неизменное и вечное. Здесь «реалисты»
ошибались. Литература по европейской нравственной философии,
начиная с греков, была у них под рукой, на их книжных пол-
ках, и она свидетельствовала об этом. Но они избегали ее уро-
ков, систематически искажая при переводе смысл тех отрывков,
которые могли бы научить их.
В метафизике сделать подобные выводы человеку, с детства
увлеченному историей науки, было легко. Мне было совершенно
ясно, например, когда Эйнштейн заставил философов говорить об
относительности, что их убежденность в вечности научных про-
блем и концепций столь же
как и уверенность моло-
дой девицы, что шляпки этого года единственные, которые вообще
могут носить женщины, находясь в здравом уме. Они утверждали
«аксиоматический», «самоочевидный» характер учений о материи,
движении и т. д., которые впервые были выдвинуты три или че-
тыре столетия тому назад весьма отважными мыслителями, риско-
вавшими из-за них своей головой или свободой. Эти доктрины
стали частью верований любого образованного европейца лишь
после длительной и фанатичной пропаганды в восемнадцатом веке.

560 Автобиография
Для меня стало очевидно, что метафизика (как показывает
само значение этого слова, хотя люди все еще употребляют его
как эквивалент
бесплодная попытка познать
то, что лежит за пределами опыта, но всегда является попыткой
выяснить, во-первых, что люди данной эпохи думают об общей
природе мира, причем эти представления оказываются предпосыл-
ками всех их «физик», т. е. конкретных исследований деталей;
во-вторых, какими были представления других народов в другие
времена и как одна совокупность предпосылок превращалась в
другую.
Какие предпосылки лежали в основе физики или естествозна-
ния того или иного народа в определенный период, это столь же
исторический вопрос, как и вопрос о том, какое платье тогда но-
сили. На него и должны ответить метафизики. И в их обязанно-
сти не входит постановка следующего вопроса: были ли эти пред-
посылки вместе с другими верованиями, которых придерживались
или придерживаются различные народы, истинными или нет. По-
следний вопрос всегда оказывался и оказывается вопросом, не
имеющим ответа. Данному обстоятельству не приходится удив-
ляться, если моя «логика вопроса и ответа» чего-нибудь стоит:
представления, историю которых должен изучать метафизик, яв-
ляются не ответами на вопросы, а только их предпосылками. Вот
почему разграничение между истинным и ложным к ним неприме-
нимо. Здесь речь может идти только о разграничении того, что
предполагается, и того, что не предполагается. Предпосылкой од-
ного вопроса может быть ответ на другой вопрос. Верования,
которые метафизик стремится исследовать и систематизировать,
суть предпосылки вопросов, задаваемых естествоиспытателем, но
не ответы на какой бы то ни было вопрос. Мы можем назвать
их «абсолютными» предпосылками.
Но утверждения, которые любой компетентный метафизик пы-
тается выдвинуть или опровергнуть, обосновать или пошатнуть,
сами по себе, безусловно, либо истинны, либо ложны, ибо они —
ответы на вопросы об истории этих предпосылок. Это и было моим
ответом на довольно избитый вопрос: «Как метафизика может
стать наукой?» Если под наукой иметь в виду естественную на-
уку, то ответ заключается в том, что ей лучше и не пытаться
этого делать. Если же науку понимать как организованную систе-
му знаний, то ответ будет таков: она это сможет сделать, только
будучи тем, чем она всегда была, т. е. откровенно претендуя на
подобающий ей статус исторического исследования. В этом иссле-
довании, с одной стороны, верования множества живущих в данное
время людей, связанные с пониманием природы мира, представ-
ляются в виде единого комплекса, образующего некий факт совре-
менности. Точно так же, как британская конституция в ее ны-
нешнем состоянии. С другой стороны, здесь исследуются истоки
этих верований, причем мы обнаруживаем, что они возникали в
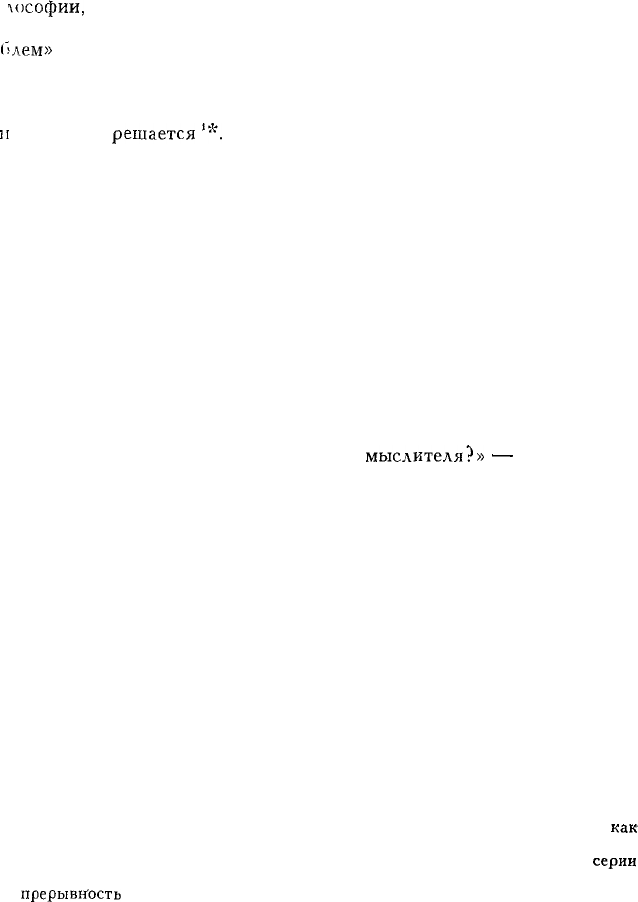
История философии 361
течение определенного промежутка времени благодаря изменению
некоторых других верований.
Постепенно я обнаружил, что нет такой признанной ветви фи-
к которой не был бы приложим принцип историчности
проблем и их предлагаемых решений. Концепция «вечных про-
исчезла полностью, если не считать, конечно, того, что лю-
бой исторический факт может быть назван вечным, потому что он
происходит раз и навсегда. Так и любая проблема может быть
названа вечной, потому что она возникает раз и навсегда и раз
навсегда
Я обнаружил (а это потребовало тяже-
лой и кропотливой работы в области истории мысли), что боль-
шинство категорий, вызывавших споры в новой философии, кате-
горий, обозначаемых такими терминами, как «государство»,
«должен», «материя», «причина», появлялось на горизонте челове-
ческой мысли и в прошлом, часто не очень отдаленном, а фило-
софские споры в другие века велись вокруг концепций, хоть и не
так уж непохожих на наши, но все же и отнюдь им не тождест-
венных. Не видеть их различия мог бы только человек, совершен-
но слепой по отношению к исторической истине.
Обнаружив таким образом, что «реалистическая» концепция
истории философии с ее тезисом о предполагаемой вечности фи-
лософских проблем ложна во всех областях, где бы я ни прове-
рял ее, я обратился к другой стороне той же проблемы — к «реа-
листическому» разграничению между «историческим» вопросом:
«В чем суть теории того или иного
и «философ-
ским вопросом: «Был ли он прав?»
Это разграничение вскоре было отброшено мною как ошибоч-
ное. Я не буду здесь объяснять, почему я это сделал. Читатель
легко поймет сам, если спросит себя, как решаются так назы-
ваемые спорные вопросы в философии. Я задал себе такие вопро-
сы и обнаружил, что их можно решить лишь с помощью софи-
стических методов «реалистической» критики. Сейчас же мне бы
хотелось скорее обратить внимание читателя на то, что преслову-
тое разграничение неверно, поскольку предполагает неизменность
философских проблем. Если есть некая вечная проблема Р, то мы
вправе спросить себя, что Кант, Лейбниц или Беркли думали о
Р. Если мы способны ответить на этот вопрос, то можно перей-
ти к следующему: «Были ли Кант, Лейбниц или Беркли правы,
решая проблему Ρ таким образом?» Но то, что считается вечной
проблемой Р, на самом деле представляет собою серию преходя-
'* Если слово «вечное» используется в его вульгарном и неточном смысле
эквивалент выражения «длящийся значительное время», то словосочетание
«вечная проблема» может употребляться для общего обозначения
проблем, связанных процессом исторического изменения. При этом их не-
заметна даже, может быть, и очень неискушенному взгляду че-
ловека, злоупотребляющего этим словом, а различия между ними не столь
очевидны.
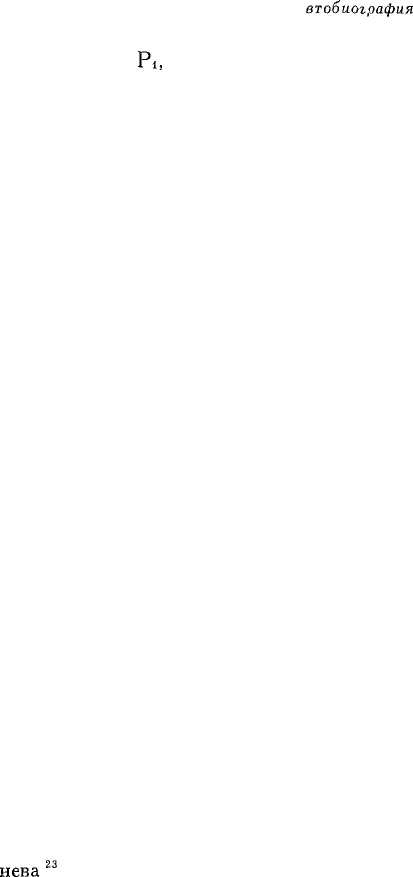
362 A
щих проблем
Р2, Рз,...— проблем, специфические особенности
которых затуманились в глазах исторически близорукого челове-
ка, который сгреб их в одну кучу под общим названием Р. Отсю-
да следует, что мы не можем выудить проблему Ρ из внеисто-
рической коробки фокусника, поднять ее и спросить: «А что та-
кой-то думал по этому поводу?» Мы должны начать так, как делают
скромные труженики, историки,— с другого конца. Мы обязаны
исследовать документы и истолковать их. Мы должны сказать
себе: «Вот перед нами отрывок из Лейбница. О чем он? Какой
вопрос здесь решается?» Возможно, мы обозначим эту проблему,
как Pu. Тогда возникает следующий вопрос: «Решал Лейбниц
проблему Pu верно или неверно?» И ответ на него не так прост,
как кажется «реалистам». Если у Лейбница, когда он писал этот
текст, была такая путаница в голове, что он решал стоящую пе-
ред ним проблему хаотически, то и ход ее решения оказался бы
неизбежно запутанным. Поэтому ни один читатель не смог бы пол-
ностью уяснить, какую же именно проблему ставил перед собой
Лейбниц. Ибо его решение и постановка проблемы содержатся в
одном и том же отрывке. То, что мы можем сформулировать его
проблему, является вместе с тем и доказательством того, что он
решил ее, ибо мы узнаем, в чем суть проблемы, только восста-
навливая ход рассуждений, начиная при этом с решения.
Если кто-нибудь не согласится со сказанным, я не буду его
убеждать. Для всякого, знающего, что такое историческое мышле-
ние, это очевидно. А человека, не умеющего мыслить историче-
ски, не убедят никакие аргументы. Как можем мы установить, ка-
кие проблемы тактики морского боя возникли перед Нельсоном в
Трафальгарском сражении? Только исследуя тактику, которой он
придерживался в этом бою. Здесь мы идем от решения к пробле-
ме. Да и что нам остается делать? Даже предположи мы, что в
нашем распоряжении шифровки приказов, отданных его капитанам
за несколько часов до начала боя, и то мы не могли бы, осно-
вываясь только на них, утверждать, что он не переменил своего
решения в последний момент, сымпровизировав новый план с уче-
том возникшего нового фактора и поверив своим капитанам, что
они поймут и поддержат его. Историки флота считают тактиче-
ский план Нельсона в Трафальгарском бою заслуживающим вни-
мания и изучения потому, что он одержал победу. План же Виль-
не стоит обсуждать. Ему не удалось провести его в
жизнь, поэтому никто и никогда не узнает, в чем он заключался.
На этот счет мы можем только гадать. А догадки — не история.
Преподаватель, дающий своим ученикам философский текст и
обращающий их внимание на какой-то фрагмент его, может, ко-
нечно, сказать им: «Это запутанный отрывок; здесь можно ви-
деть, что автор думал о таких-то и таких-то проблемах, и с изве-
стным основанием мы можем предположить, что здесь ставится
проблема, которая рассматривается там-то тем-то и тем-то. Но
