Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев
Подождите немного. Документ загружается.

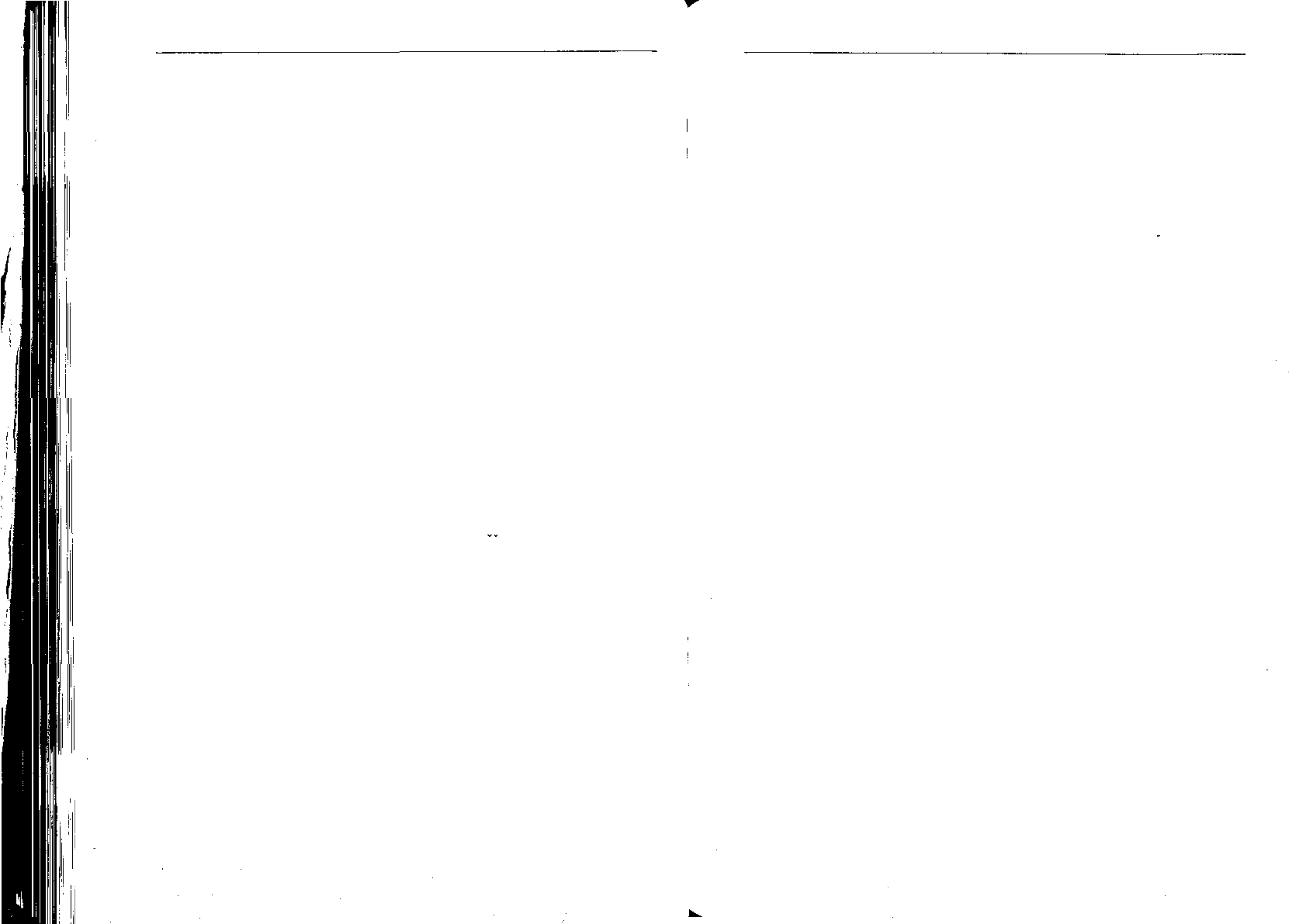
254
254 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
«пх», предоставляю судить лингвистам, но каждому очевидна связь этих
имен — бриги (пхрюгиой) и бхригу.
Если сопоставить неарийскую аттестацию, жреческий статус и пропо-
веднические функции Бхригу в мифологии с диффузией кремации и урновых
захоронений из западнопакистанских долин в Пенджаб и дальше,то напраши-
вается предположение, что Инд был последним рубежом фригийцев как этно-
са в продвижении на восток, а далее распространялось лишь их культурное
влияние в сфере религии. Индоарии и раньше (в общении с финно-уграми),
и позже (в общении с иранцами) охотно перенимали у соседних народов куль-
туры и формы религии, рассчитывая стать от этого способнее и сильнее. Они
пересекли Инд и как племя: Ригведа упоминает их в составе коалиции, вы-
ступившей против Судаса, царя бхаратов. Видимо, в ходе контактов в рамках
таких коалиций и проникали в среду индоариев фригийские жрецы как мис-
сионеры огненного погребального обряда, проповедники культового приме-
нения горшков.
Только ли фригийцы причастны к этому делу? Есть ведь еще несколько
жреческих родоначальников, связанных с обычаем погребения в урнах: из
кувшинов родились святейшие Васиштха и Агастья, сыном Агастьи числится
Пуластья. Уже давно индийские санскритологи подметили удивительное сход-
ство имени Пуластья с племенным названием филистимлян — плст, пеласти,
Палестина. В Библии филистимляне делятся на плэти и крэти, в поседних ви-
дят дополнительное указание на связь с Критом. Среди индийских махариши
рядом с Пуластьей есть Крату. Васиштху можно было бы сопоставить с нерас-
шифрованным египетским названием «уэшеш» (wss). Агастья пока остается
«без пары».
Что пришельцы, обосновавшиеся в V периоде у ворот Индии, вообще были
этнически неоднородны, засвидетельствовано археологией. Итальянские ар-
хеологи установили, что серой керамики здесь не только меньше, чем красной,
но что она содержится лишь в некоторых могилах — тех, которые со скелетами
без керамики, и эти могилы сосредоточены лишь на одном его участке. Здесь
хоронили своих покойников люди, жившие тут вместе с основной массой при-
шельцев, но применявшие иной обряд, принадлежавшие к иной народности.
Так что, по крайней мере, одно «нацменьшинство» не успело переплавиться
в общем котле.
Но похоже, что из западных пришельцев не одни фригийцы перепра-
вились через Инд и включились в древнейшую историю индоариев. Среди
участников «битвы десяти царей», одного их древнейших событий Ригве-
ды, упоминаются турваша, вполне совпадающие по названию с трш, турус,
т. е. троянцами. Северные соседи индоариев носят название дардов, очень
VI. Птицы, собаки и погребальные костры 259
262
напоминающее дарданцев — соседей Трои. Ригведа сообщает, что турваша
вместе с яду суть по происхождению не арии (10.62.10), что бог Индра при-
вел их «из дальних стран» (6.20.12), что они вместе с бхригу входили в коа-
лицию десяти царей, не приносивших положенные жертвы арийским богам
(7.83.7), и что они в составе этой коалиции были разбиты царем бхаратов Су-
дасом. Царство твоё погибнет, — предрекал Турвашу, родоначальнику этого
пришлого народа, его отец Яяти, — и ты будешь повелевать лишь теми, кто
не ведает священного закона. От Турваша, по Махабхарате (I), происходят
яваны (так в Древней Индии называли греков — от слова иоуаной 'ионий-
цы'). Значит, какая-то связь турваша с греками сохранялась в представле-
нии авторов индийского эпоса.
Теперь становится понятнее, почему сюжет Рамаяны так напоминает
по зачину гомеровский эпос (и тут и там война начинается из-за похищения
прекрасной женщины родственником царя). Этот сказочный сюжет, видимо,
давно обращался в Эгейском мире, прежде чем был использован в «Илиаде»,
и теперь мы знаем, что было кому принести его в Индию.
Грандиозный подвиг Александра Македонского, венец его военных свер-
шений — поход в Индию, — был, оказывается, предвосхищен фригийцами за
тысячу лет до него. Любопытно, что именно фригийская святыня должна была
предсказать Александру Македонскому гегемонию над всей Азией. Еще более
любопытно, что именно македонцы сообщили Геродоту о движении их бал-
канских соседей фригийцев на восток. По-видимому, македонцы были в кур-
се фригийских предприятий, и, возможно, повторение маршрута отнюдь не
случайно: македонцы шли по проторенному пути. Ранняя фригийская волна
не была одиночной. В VI периоде (X-IX вв.) в долине Свата появляются «гла-
застые урны» — вместо личины только две дырочки на месте глаз. Такие же
есть в полях погребений Венгрии, но начала гальштатского времени (рис. 85),
то есть тоже уже в I тыс., на два этапа позже, чем культуры, из которых вы-
плеснулась первая волна.
Первопроходцев XIII-XII вв. вел вождь, конечно, не менее решительный,
чем Гордий, и не менее талантливый, даже не менее великий, чем Александр
Македонский (если судить по деяниям). Но мы не знаем его имени и примет.
Акмон и Мигдон не замечены на востоке. Сыновьями Бхригу в индоарийской
мифологии выступают Чьявана и Ушанас, но были то вожди вторжения или
фигуры позднейшей истории, и вообще, были то исторические личности, или
названия племен, или духи — кто скажет?
История повторяется. В старой форме отливаются новые события. По-
тому что под чередами событий, подспудно формируя их, текут процессы,
а процессы длительны. И странно подумать, но закономерно, что ярким светом
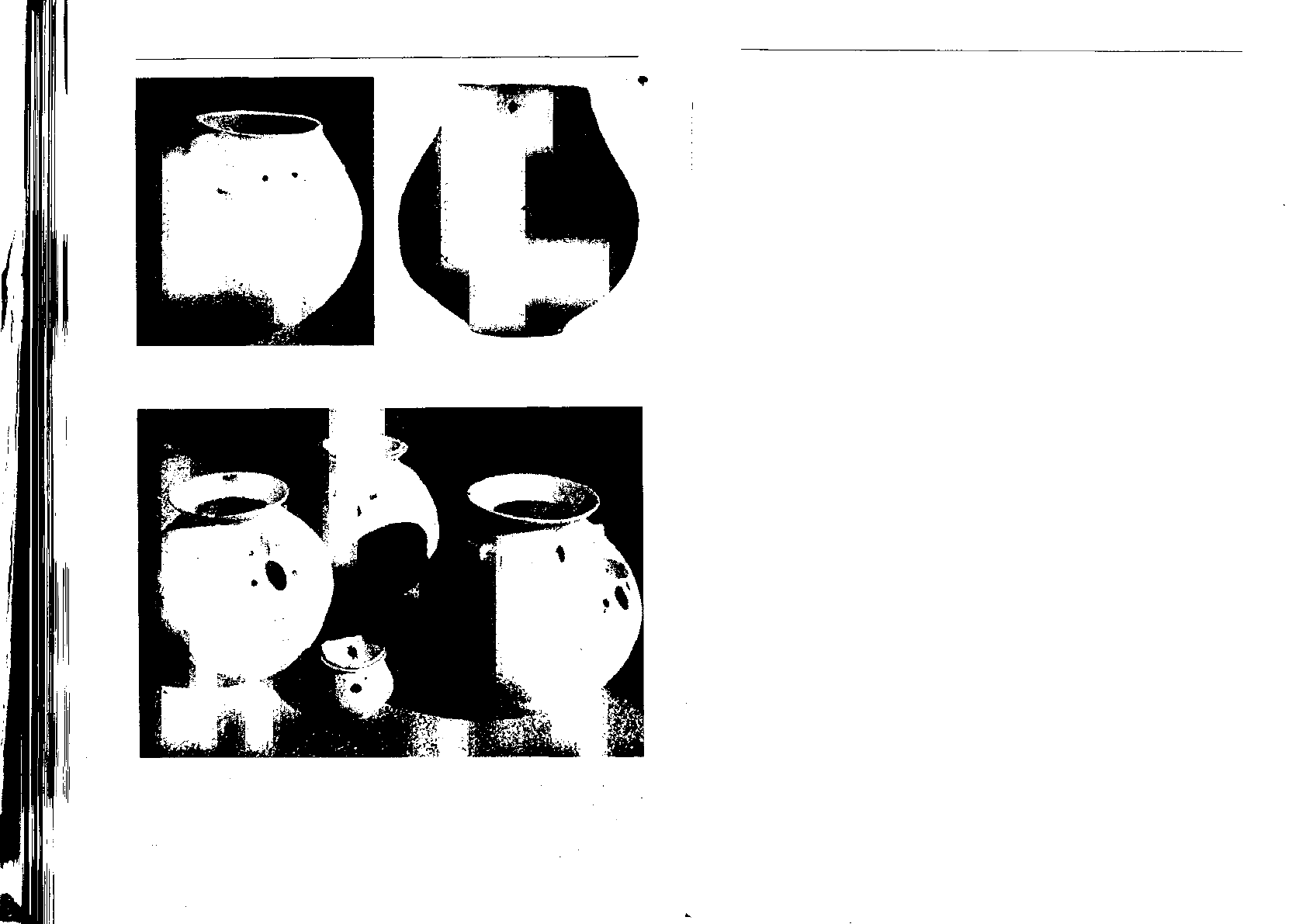
1
264
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
VI. Птицы, собаки и погребальные костры
265
Глазастые урны в долине Свата, Лоебанр, погр. 13/2 (слева) и в Европе, Ресково, Польша,
ранний железный век (справа)
Лицевые урны из долины Свата (могильники Лоео.анр и Кателаи, период V)
Рис. 85. Глазчатые урны в Индостане и Венгрии.
По данным Дж. Стакуля, 1971
письменности выхвачены из небытия и возвеличены копии, а оригиналы
скрыты во тьме времен. Там, где покоятся каменные громады археологиче-
ского материала и где играют живые и зыбкие зарницы мифологии. Изредка
они удачно падают на обломки разрушенных строений, объединяют их на миг
своим светом и связывают в целое. В этот миг рождается знание, история ста-
новится на ступень глубже, а исследователя охватывает пронзительное ощу-
щение счастья. Ловите миг удачи!
История повторяется. Особенно история расселения индоевропейцев.
Давно уже замечено, что индоевропейские народы (как, впрочем, и тюрки,
и семиты) шли по одним и тем же маршрутам, как бы подгоняя, подталкивая
друг друга, потому что генераторы народов, раз возникнув, работали тысяче-
летиями. Через Кавказ на юг из степей прошли люди катакомбной культуры (их
катакомбы теперь найдены в Армении), позже — киммерийцы, за киммерий-
цами спешили скифы, за скифами направились аланы. Огибая Каспий, в Азию
вторглись тохары, за ними — индоарии, за теми — иранцы. Греки прибыва-
ли в Грецию с севера нескольким волнами, последняя — дорийская. Сколько
волн пронеслось мимо стен Трои в Азию, не раз сокрушая эти стены? Лувийцы,
палайцы, хетты, армяне, фригийцы... Последовательность их пока неясна.
Есть гипотеза (опирающаяся на прямые указания Геродота и выводы некото-
рых лингвистов), что армяне вышли из фригийской народности. Если гипотеза
верна, тогда взятие Трои, сокрушение Хеттской империи и поход в Индию —
древнейшие этапы истории армянского народа. Но верна ли гипотеза?
Единство человечества держится не только на общности происхожде-
ния или на универсальности законов истории, но и на сети сильных, нередко
неожиданных связей между отдаленными народами и странами. Выявление
одной из них позволило опознать еще один блок ранних индоевропейцев —
фригийский — среди культур бронзового века Европы. А это еще один шаг на
пути к отысканию прародины всех индоевропейцев.
Несомненно, фригийцы были сильным, самобытным и предприимчивым
народом — одним из тех, которые формировали облик мира. Отрадно, что
удалось восстановить подлинную историческую роль этого народа и размах
его деяний, что из-за сказок о разрубленном узле и ослиных ушах проступает,
наконец, гораздо более яркая и впечатляющая быль истории.
Народ этот исчез, не оставив прямых наследников. Наиболее близкими
его родственниками могут считаться армяне. Но, конечно, воспрянь из мерт-
вых какой-либо фригиец тех времен, белокурый и голубоглазый, он не узнал
бы в нынешних армянах, черноволосых и носатых, своих сородичей. Как не
узнал бы и протоармянин. И лишь прислушавшись к их речи, быть может, уло-
вил бы в некоторых словах знакомые звучания и решил бы, что это близкий
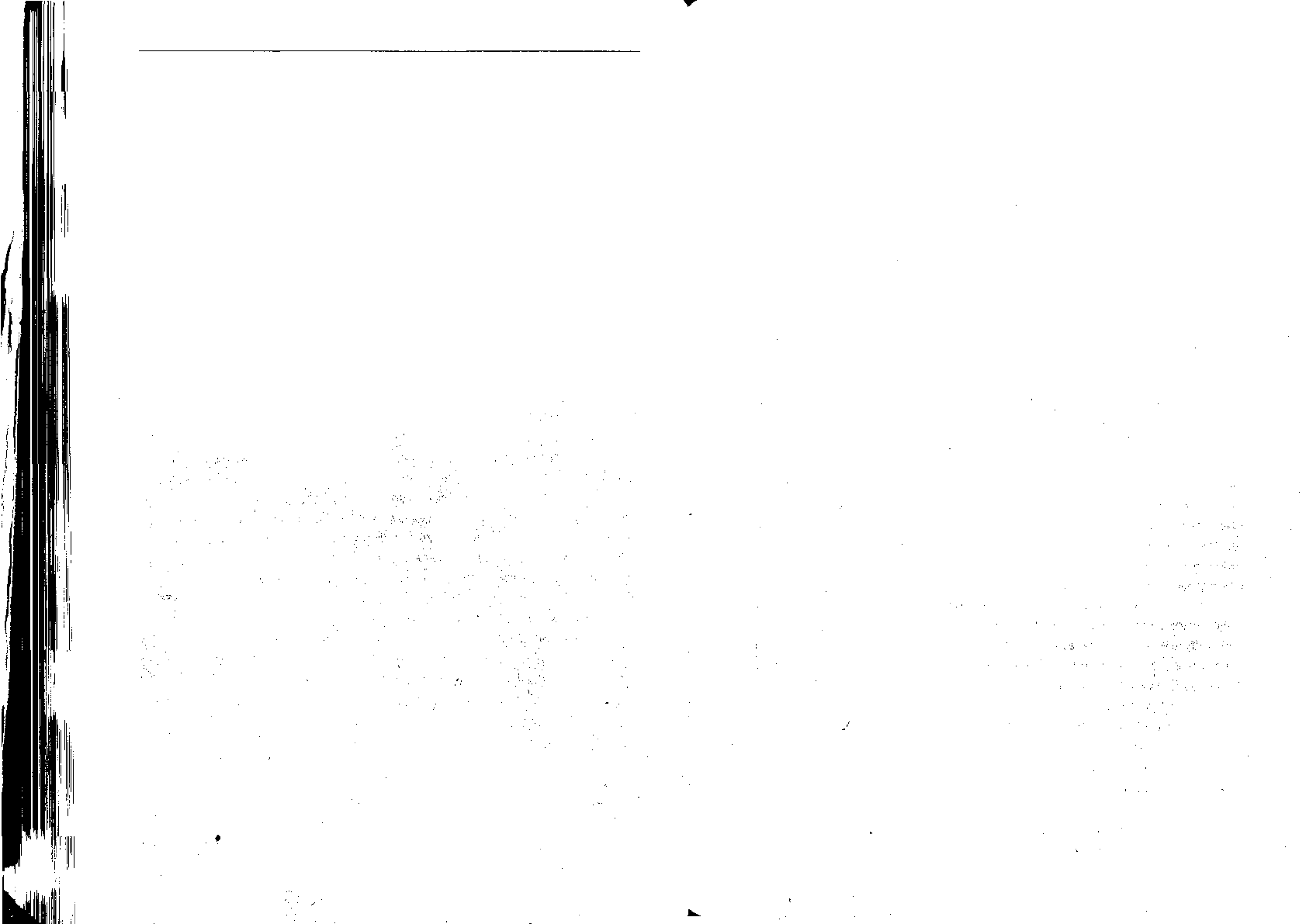
266
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
язык, только очень искаженный. А разве узнал бы древний русич своих потом-
ков в нынешних русских? Скорее всего, он и не понял бы нынешнюю русскую
речь — как нам нужен перевод для понимания «Слова о полку Игореве».
Ни раса, ни язык не остаются неизменными. Кровь того или иного да-
лекого предка составляет лишь тысячную долю в крови нынешнего челове-
ка, а какие гены из тысяч полученных возобладали — дело случая. Ничем не
гарантировано, что это те же, которые совпадут с наследованием фамилии,
статуса, национальности и самосознания. Внешность может определяться
одними генами, а способности — другими. Гены фригийцев и мушков могли
быть переданы не только армянам, но и индийцам, а также народам Среднего
и Нижнего Подунавья и даже Малой Азии. Они могли попасть в генофонд ту-
рок, так же как и армян.
Проще уловить какие-то языковые формы и древние образы мифологии,
сохранившиеся от древнего народа. Но они существуют теперь в совершенно
иных сочетаниях.
Так и с фригийцами. Гены и образы этого народа достались многим, а сла-
ву его и его роль в истории не унаследовал никто.
VII. Каменные люди медного века
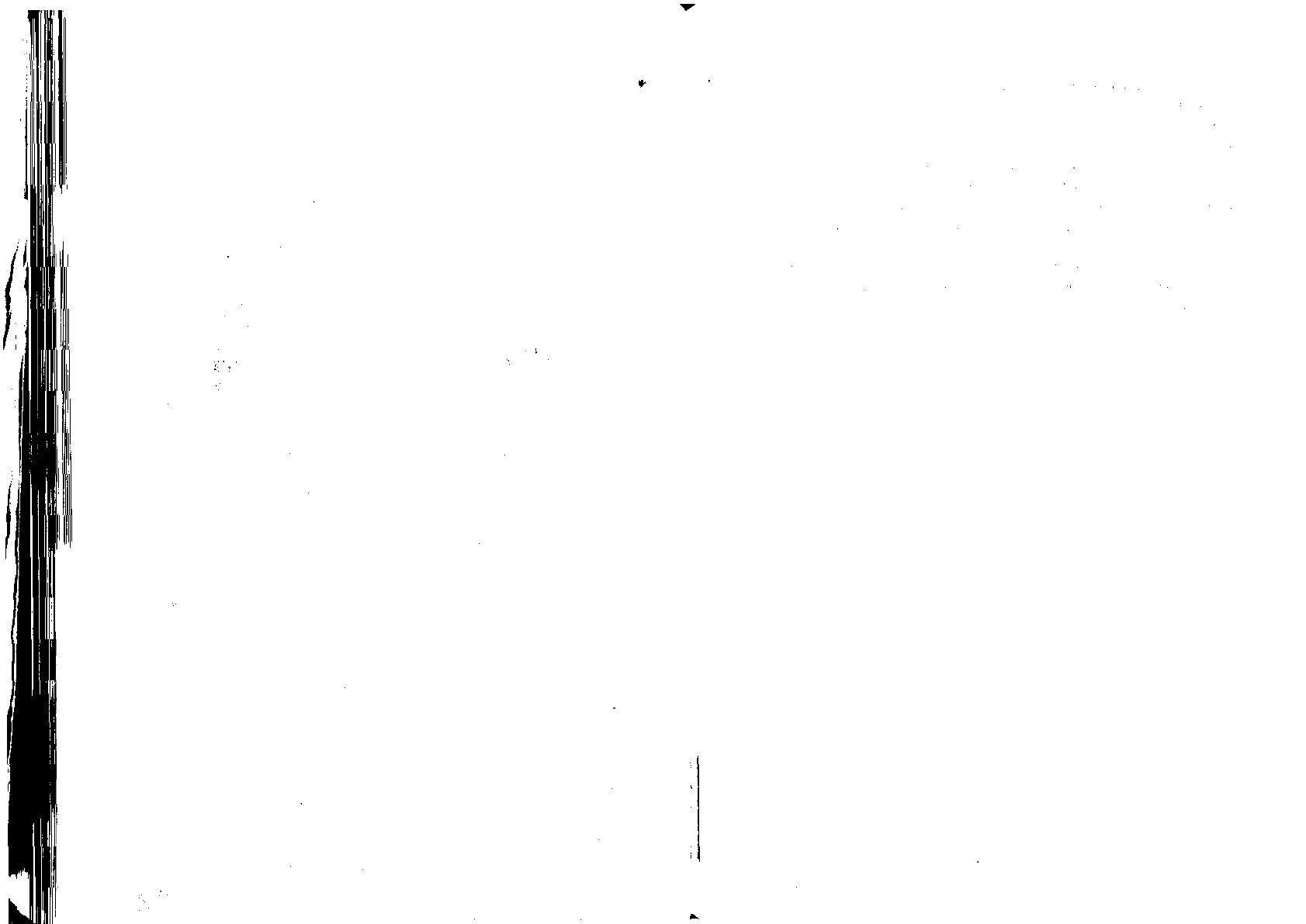
О дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
— Не Бог, не Бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.
И. Бунин. Каменная баба.
1. Три шага в глубь тысячелетий. Болваны на земле и под землей. Что
остается в памяти от степей? Знойное солнце, запахи выжженных трав и в бес-
крайней шири курган — мощный, как бы распластанный. А воображение ваше
помещает сверху каменную бабу, вросшую в землю. Только воображение.
В реальной степи каменных баб не осталось. Тысячи их разбиты, уничтожены.
Их крушили древние захватчики, чтобы погубить надежду и силу аборигенов;
разбивали христианские святоши — из страха и ревности — как языческих
кумиров; разрушали и современные механизированные вандалы — на щебень
или просто из озорства. Лишь те сохранились, что давно свезены в музеи. Там
они одиноко ютятся в тесных залах или группами прозябают на заднем дво-
ре, прислоненные к стенкам. Издали — будто тихо совещаются, как повернее
сберечь тайну веков. Подойдешь поближе — стоят безмолвные, загадочные
и неприступные. Серый известняк изъеден временем, широкие лица стерты
или сбиты, в руках — сосуд, в который заглянуть невозможно.
В начале века графиня П. С. Уварова, глава Московского археологического
общества, собрала сведения о 1133 каменных бабах на европейском Юге Рос-
сии, еще стоявших в поле. Современный свод С. А. Плетневой зарегистрировал
данные о 1322, но сохранилось реально (большей частью в музеях) только около
680 статуй. В XVII в. их было еще очень много. Описывая в полях степь, русский
историк сообщал: «И везде стоят яко человеки по древнему обычаю от каменя
соделанныя, но тыя каменья уже мхом поростоша». Еще за полтысячи лет до того
русский летописец отмечал в степи «курган высок, а на нем 3 человека камен-
ных». В другом месте он указывал исток реки, а «по тому истоку люди, каменные
болваны». Происходя от тюркского «палван» ('богатырь'), слово «болван» с той
поры переменило свое значение на бранное — стало синонимом безмыслия, ка-
менного лба, но тогда оно означало просто степную каменную статую.
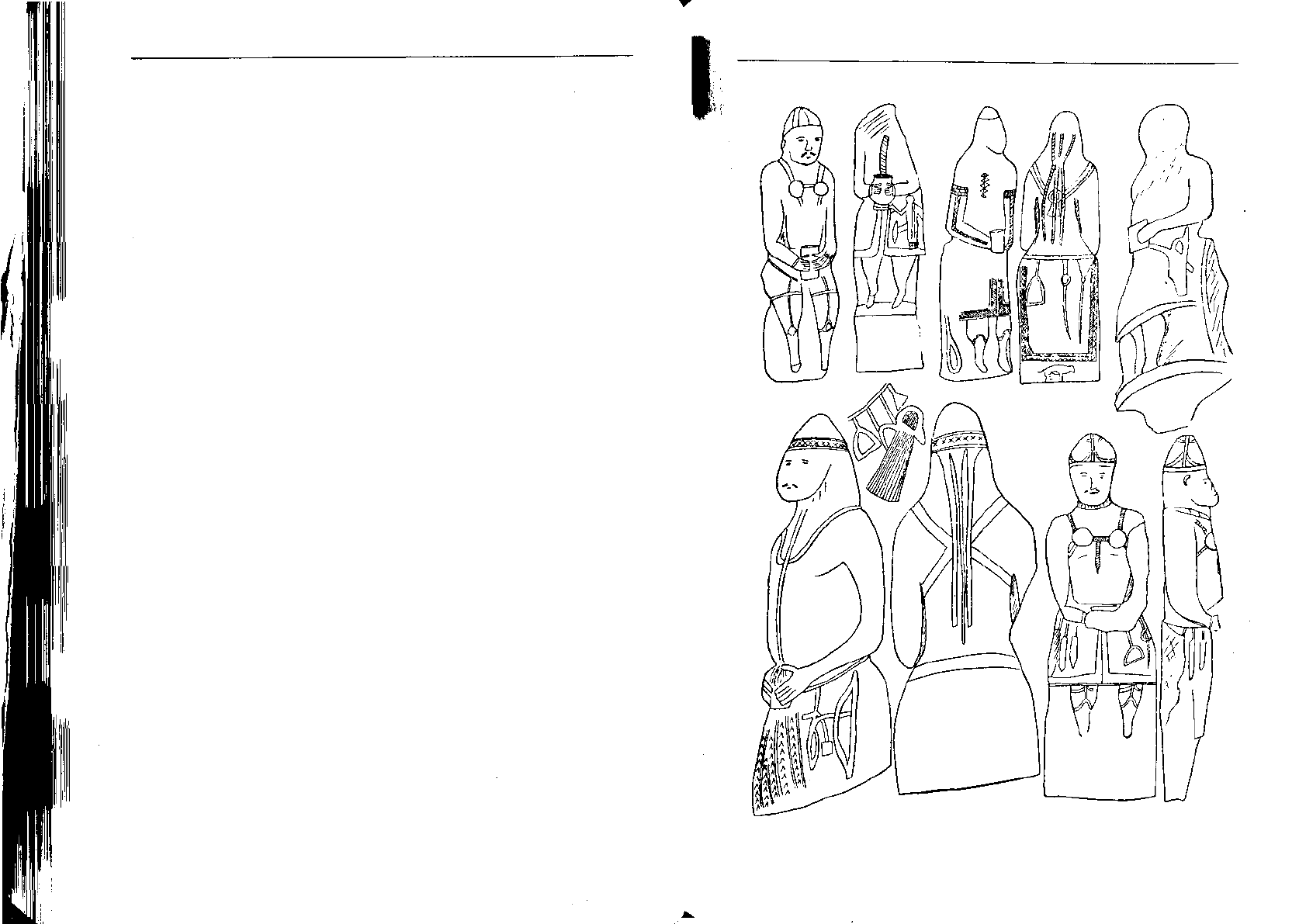
270
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Новое русское и украинское население звало этих истуканов «каменными "
бабами» (рис. 86). Многие статуи и в самом деле изображали женщин, но по-
ловина — мужчин. Однако и у этих сзади висели косы, а спереди были изобра-
жены нагрудные бляхи доспеха и мускулы, наподобие женской груди. Поэтому
русские люди и в них видели женщин. В прошлом веке среди ученых было
немало споров о том, кого изображали эти статуи и какой народ их поставил.
Называли самые разные народы — от гуннов до скифов, от болгар до кельтов.
Англичанин Д. Каррутерс, путешествовавший по степи в начале XX в., отри-
цал монголоидность каменных баб — по его впечатлению, такие лица можно
найти у любого полковника британской армии, а сосуд он принял за табакерку
(его отчет о путешествии получил золотую медаль Королевского географиче-
ского общества).
Наконец, петербургский профессор Н. И. Веселовский привел основа-
тельные доводы в пользу половцев. При этом он вспомнил путевые записки
западного монаха Вильгельма Рубрука, посланного в середине XIII в. Людо-
виком IX в ставку монгольского хана. Рубрук отметил, что половцы «насыпа-
ют большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом
к востоку и держащую у себя в руке перед пупком чашу». Чаша есть у многих
каменных баб. Раскопки начала XX в. показали, однако, что хотя это действи-
тельно половецкие статуи (изображенное на них оружие и убор совпали с ве-
щами из половецких погребений XI—XIII вв.), местоположение статуй не свя-
зано с конкретными погребениями: под статуей чаще всего нет половецкого
погребения, а над погребениями, даже богатыми, обычно нет статуи. Значит,
это были не надгробья, а памятники, которые воздвигались поодаль, на воз-
вышенных местах, на высотах (а в степи это, как правило, старые курганы)
в честь умерших. В советское время российские ученые разъяснили, что идея
каменной бабы связана с обычаем тюркских народов — чувашей, казахов,
киргизов — заменять покойника на поминках деревянной куклой с сосудом,
чтобы ела и пила вместе со всеми. Половцы тоже тюрки. Каменный истукан —
это половецкий вариант той же замены.
Обычай воздвигать каменные бабы возник в VI—VII вв. среди тюрков
Восточной Сибири и Монголии, а оттуда был принесен в степи между Волгой
и Днепром. Значит, тут их возраст 8-10 веков, а на востоке они еще на не-
сколько веков старше.
О народе и назначении каменных истуканов помнит и русский язык. Сло-
во «болван» попало в русскую речь через какой-то тюркский язык, где оно
звучало «палван», из персидского, а там «пэхлэбан» значило «богатырь». Зна-
чит, сами степняки-тюрки (видимо, соседи Киевской Руси половцы) называ-
ли статуи «богатырями», то есть у них был культ героев, как у греков. В этих
280 I/II. Каменные люди медного века
271
Рис. 86. Каменные бабы — половецкие статуи (Федоров-Давыдов, 1966)
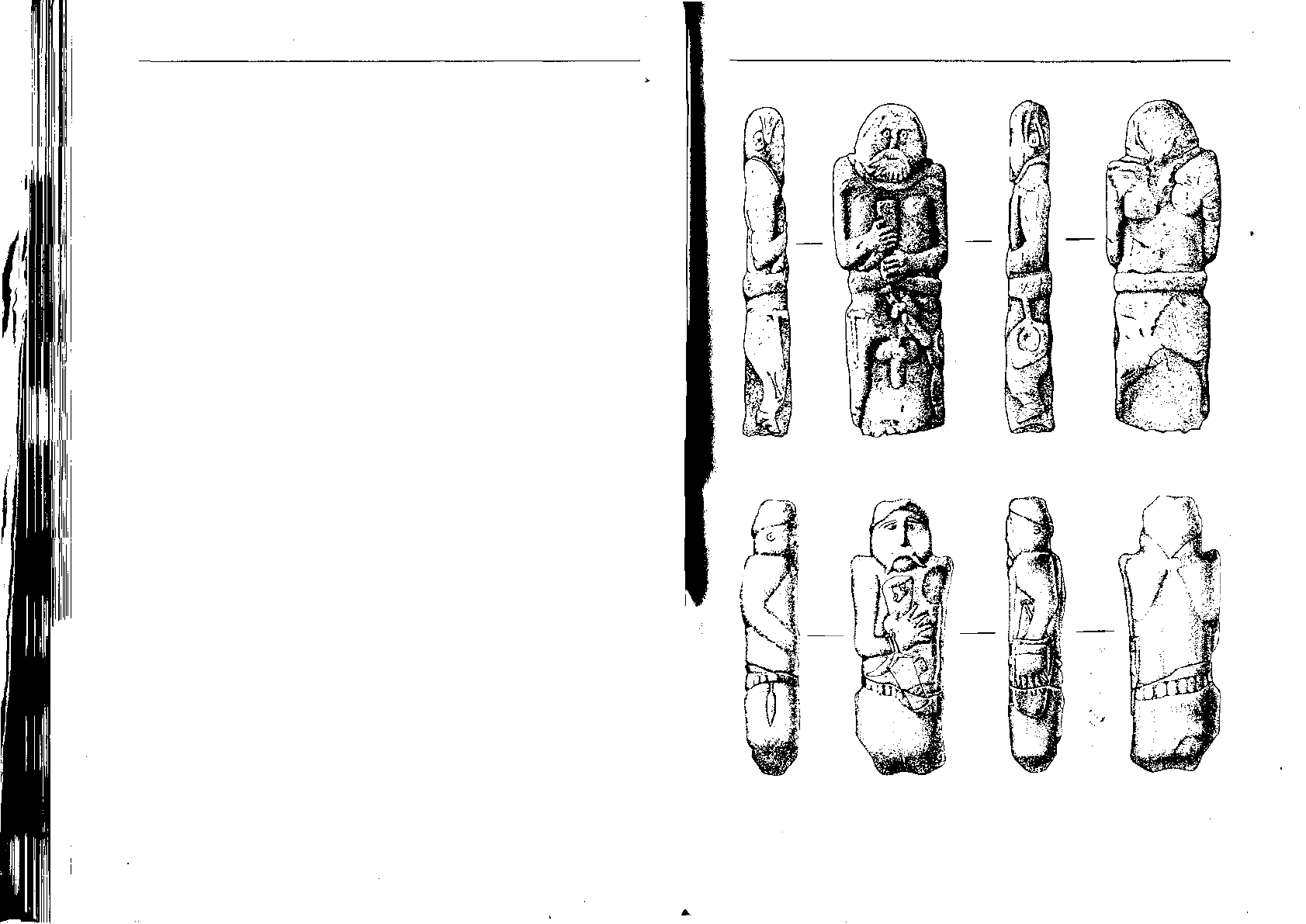
270
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
кумирах половцы почитали предков знати, древних вождей и их жен, духам
которых приносили жертвы.
Побаивались их и позднейшие обитатели этих мест. Когда в начале XX в.
губернский землемер Грузинов снял каменную бабу с кургана у Старой Яблон-
ки и поручил крестьянам доставить ее в Саратов, то при переправе через реку
крестьяне «бросили болвана в воду, сказав, что он сам выпрыгнул из телеги»
(я процитировал губернский отчет по Веселовскому).
Уже в послереволюционное время от этой массы каменных баб была от-
делена сравнительно небольшая серия истуканов (дюжина-другая), которые
на тысячу лет древнее — относятся к скифскому времени (VII—I вв. до н. э.).
Этих опознали по изображениям типично скифских вещей: меча-акинака
с перекрестьем в форме бабочки и лопастью, отходящей от ножен, колчана-
горита, рога-ритона. По-видимому, эти статуи тоже были поставлены в память
о древних вождях, легендарных героях: меч, лук, ритон у скифов — инсигнии
царской власти (рис. 87).
Так как скифы были современниками греческих колоний в Причерномо-
рье, археологи, изучающие скифов, штудируют древнегреческих авторов и по
привычке переносят на скифские вещи греческую терминологию. Вот и эти
каменные изваяния они стали называть греческим словом «стелы» — со-
гласитесь, гораздо элегантнее, чем «каменные бабы» (хотя сами изваяния не
краше тех). Но так как «стела» у греков — это просто ограненный каменный
столб, то к слову «стела» добавляют греческую же характеристику: «антропо-
морфная» («человекообразная»).
Этим же термином окрестили и еще более древние, очень примитивные из-
ваяния, найденные уже не на поверхности земли, а при раскопках греческих
городов Крыма. Стелы были употреблены греками как простые плиты для
сооружения городской стены V в. до н. э. Поэтому археологи 1930-1950-х гг.
(В. Ф. Гайдукевич, В. Н. Даниленко и др.) сообразили, что это более древние
стелы, изваянные туземцами — жителями поселка, на месте которого греческие
колонисты основали в VII в. свой город. Этих туземцев сочли киммерийцами —
предшественниками скифов, а их поселок отнесли к концу II тыс. до н. э.
Постепенно раскопки открывали все новые стелы этого типа, уже не
в греческих городах, а в степных курганах (рис. 88). Вспомнили и некоторые
дореволюционные раскопки (начиная с 1878 г.). Первыми киевские и крым-
ские археологи (А. И. Тереножкин, А. А. Щепинский и др.) отвергли кимме-
рийскую гипотезу. Становилось всё более ясно, что эти стелы не на несколько
веков древнее скифских, а уходят в гораздо более глубокую древность, ведь
курганы, из которых появлялись на свет божий эти стелы, — это памятники
бронзового века с погребениями ямной и катакомбной культур, а культуры
280 I/II. Каменные люди медного века 272
272
Рис. 87. Скифские изваяния (Ольховский и Евдокимов, 1994)
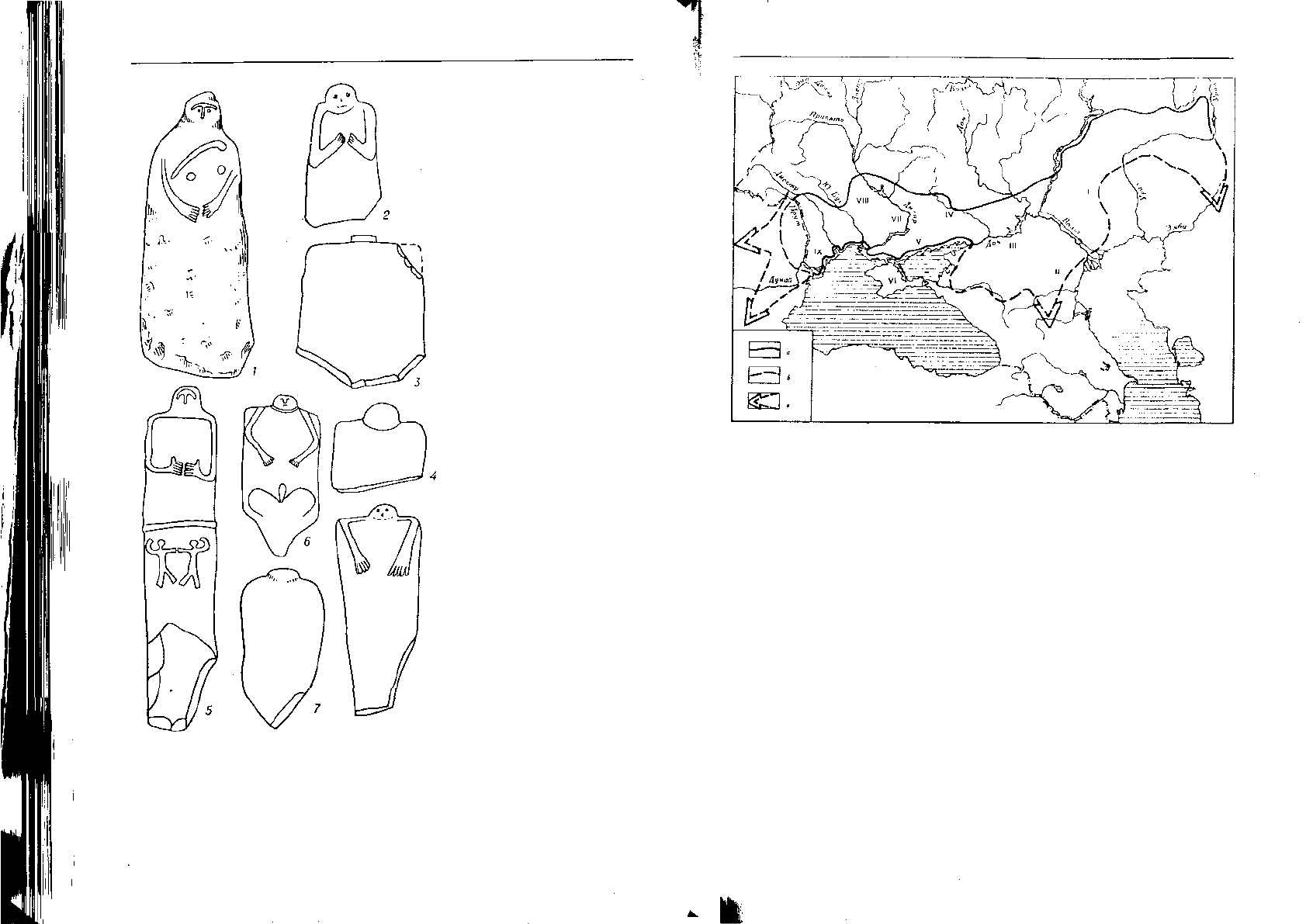
270
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
эти на одну-две тысячи лет
древнее скифов!
Как легко мы опери-
руем тысячелетиями: буд-
то костяшками на счетах.
Привычка! Но очнешься —
оторопь берет: какая без-
дна времени! Для нас Ки-
евская Русь — седая древ-
ность, а ведь эпоха, в ко-
торую мы уже опустились
с этими каменными истука-
нами, более чем в три раза
древнее Киевской Руси. За
это время три раза можно
было пройти историческое
развитие от челна Свя-
тослава до космического
корабля. Три раза — всю
полноту российской исто-
рии. А эти «бабы» всё спа-
ли тут под курганами...
2. Нашествие степ-
няков? «Осев» на ямную
и катакомбную культуры,
скромные стелы приобре-
ли чрезвычайную значи-
тельность, потому что са-
ми эти культуры занимают
в археологии особое ме-
сто. Они появились в науке
в начале нынешнего века,
когда московский архео-
лог В. А. Городцов рас-
сортировал погребения
бронзового века в раскопанных им степных курганах, выделив три последова-
тельные культуры. Он заметил, что позиция погребений в стратиграфии курга-
нов, как правило, совпадает с типом могилы: ранние — в прямоугольных ямах,
8
Рис. 88. Древнейшие антропоморфные стелы Северного
Причерноморья (Телегин, 1971)
280 I/II. Каменные люди медного века 274
274
Рис. 89. Карта ямной культуры (по Мерперту, 1974)
а — документированные границы области; 6 — предполагаемые границы области;
в — направления вторжений в инокультурные области; варианты: I — Волжско-Уральский;
II — Предкавказский; III — Донской; IV — Северо-Донецкий; V — Приазовский;
VI — Крымский; VII — Нижнеднепровский; VIII — Северо-Западный; IX — Юго-Западный
более поздние — в катакомбах (подземных камерах, отведенных в сторону
от ямы подкопом под стенку), самые поздние — в срубах и в насыпи кургана.
По этим рубрикам распределились и типы посуды: в ямах — яйцевидные со-
судики с округлым донцем, в катакомбах — плоскодонные горшки, роскошно
орнаментированные отпечатками шнура и тесьмы, в срубах и в насыпи — би-
конические сосуды с угловатым прочерченным орнаментом и грубые банки.
Культуры получили название по устройству могилы: ямная, катакомбная,
срубная. Три культуры — три народа, последовательно сменявших друг дру-
га в степях. Отчеты Городцова стали классикой русской археологии (кстати,
это те самые раскопки, в которых была выявлена несвязанность половецких
«баб» с погребениями).
При дальнейших исследованиях картина несколько усложнилась, но
основа осталась городцовская. Из всех трех культур ямная имела наибольший
территориальный охват: от Заволжья до Нижнего Подунавья (рис. 89). Прак-
тически вся европейская степь. Долго сохраняли значение и предложенные
Городцовым даты. Грубо говоря, три ступеньки в глубь времен по полтыся-
чи лет на каждую: срубная культура заняла вторую половину II тыс. до н. э.,
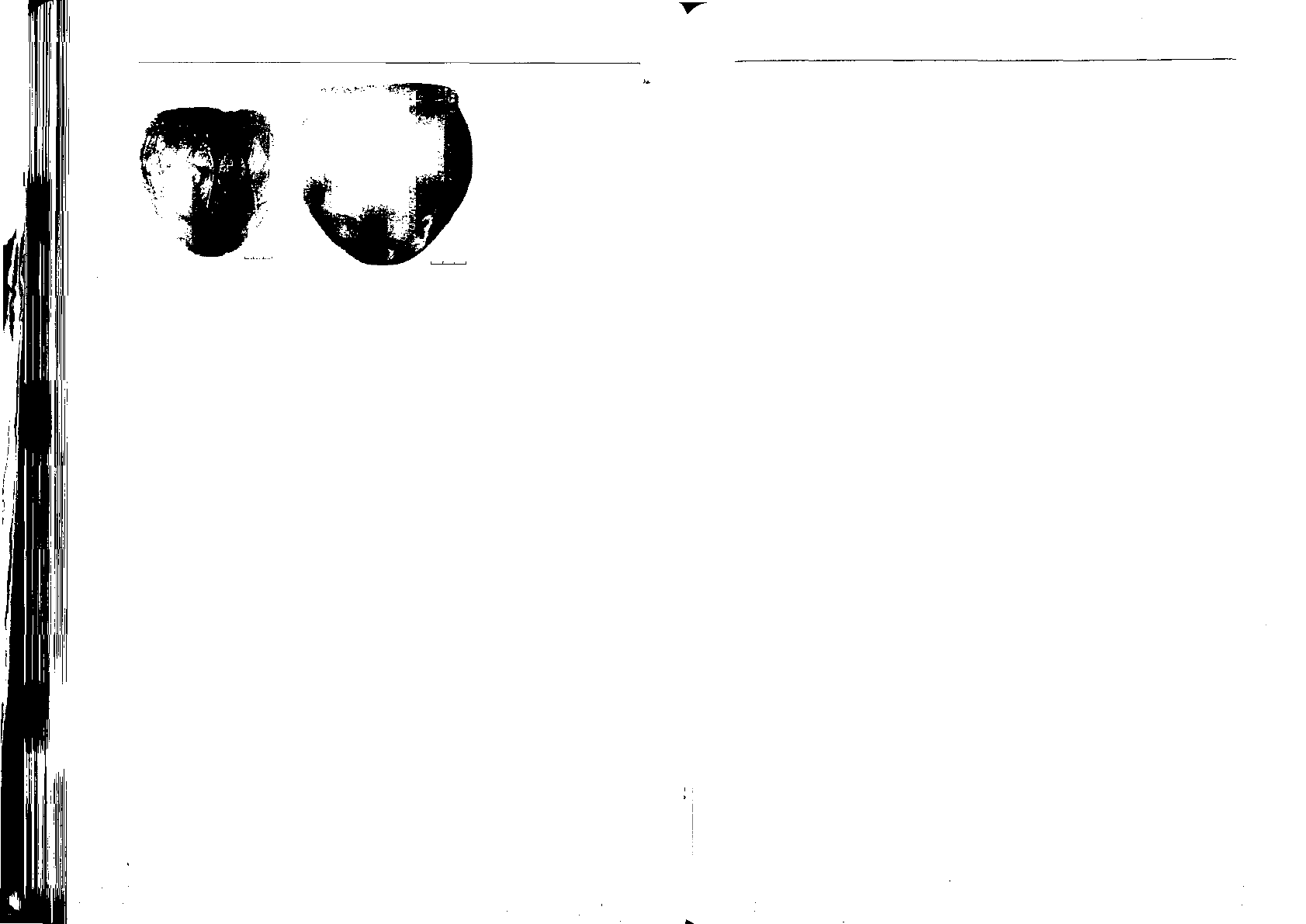
270
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Рис. 90. Сосуды из ямных погребений Нижнего Поволжья:
слева —Быково I, кург. 17, погр. 7,
справа — Верхне-Погромное, кург. 9, погр. 11
катакомбная на Украи-
не — первую, а предше-
ствующая ямная — вто-
рую половину III тыс.
(по новым радиоугле-
родным датировкам,
пришлось ямную и ка-
такомбную углубить еще
почти на тысячу лет).
Пожалуй, ни одна
культура мира не при-
влекала такого всеоб-
щего внимания ученых,
как ямная. И это несмотря на внешнюю неприглядность ее памятников (рис. 90):
могилы — простые ямы, мало вещей, драгоценностей и вовсе нет, и всё же!
Дело в том, что на ямную культуру пришлось возложить все надежды по ре-
шению индоевропейской проблемы. К этому времени гипотезы происхождения
индоевропейцев из Центральной Европы (северная и дунайская) испытывали
чрезвычайные трудности, азиатская гипотеза в своем индийском варианте была
давно дискредитирована (вариант переднеазиатский, ныне очень громкий, еще
не был разработан), а северочерноморская гипотеза — та ничего, та числилась
перспективной с точки зрения лингвистов.
В ямной культуре европейские археологи, начиная с немецкого археолога
Эрнста Вале и очень авторитетного английского археолога-марксиста Гордона
Чайлда, и увидели исходный очаг индоевропейцев — с ней стали связывать
индоевропейский праязык. Началось это в 30-е гг. XX в. и продолжалось до
последнего времени. Реконструкция словаря рисовала первых индоевропей-
цев подвижным пастушеским народом, обладавшим повозками и конями, а ям-
ное население именно таково — поселения недолговременные, очень слабо
прослеживаются, культура известна в основном по курганным захоронениям,
в них часто оказываются кости овцы и коровы, остатки повозок. Конь, правда,
попадается редко, но ведь животные, которые в могилах, были в основном за-
упокойной пищей, а коня, вероятно, не ели. Так тогда полагали.
Однако приняв ямную культуру второй половины III тыс. (опять же, как
тогда полагали) за исходную, нужно было объяснить широкое распростра-
нение индоевропейцев — на всю Европу и часть Азии — минимум к первым
векам следующего тысячелетия, когда хетты оказались уже в Малой Азии, ми-
кенские греки — в Греции, арии — в Индии. Времени на многостепенную экс-
пансию оставалось катастрофически мало. Приходилось вести все миграции
280 I/II. Каменные люди медного века 280
276
прямо из ямной культуры, а следов повсеместного присутствия «ямников»
в Европе и Азии не было, как не было и доказательств происхождения других
культур всех этих мест из ямной. Удревнение ямной культуры на тысячу лет
несколько облегчило выведение из нее южных народов, но не западных: те
ведь удревнились одновременно. А как раз южные уж очень с ней несхожи.
Почти по всей Европе (кроме крайнего запада и юга) были распро-
странены так называемые «культуры шнуровой керамики и боевого топора».
Они охватывали и Восточную Европу. Вот с ними-то есть все основания свя-
зывать индоевропейцев — правда, не индоевропейский пранарод, а его уже
разделившихся потомков. По крайней мере, значительную их часть (герман-
цев, балтов, славян и др.). Об этом говорят и территориальные совпадения,
и линии преемственности культур, и особенности быта. Это признают все. По
общему облику эти культуры близки ямной — пастушеские, очень воинствен-
ные и агрессивные (недаром в инвентаре — боевой топор). Но это чересчур
общие сходства.
Построения многочисленных охотников выводить культуры шнуровой
керамики из ямной натолкнулись на сильную оппозицию археолога из ГДР
Александра Хойслера. Этот исследователь, совершенно свободно владею-
щий русским языком (редкость даже для ГДР), не раз приезжал в СССР, изучал
вещи в наших музеях, составил двухтомную сводку материалов ямной и ката-
комбной культур, правда, только по литературе, но зато раньше наших ученых
(у нас такой нет до сих пор). Дотошный и скрупулезный, он сопоставил ям-
ную культуру с культурами шнуровой керамики Центральной Европы и при-
шел к выводу: они коренным образом различны — настолько, что должны
быть признаны чуждыми друг другу. Сходство чисто внешнее и объясняется
тем, что обе культуры примерно одновременны и принадлежат к одной стадии
и одному типу хозяйственного и социального развития. А стоит детализиро-
вать — и окажется, что именно традиционные особенности разные. В ямной
культуре посуда яйцевидная и однообразная, а у «шнуровиков» — плоскодон-
ные кубки и корчаги («амфоры») с богатейшим орнаментом. В ямных могилах
мужчины и женщины захоронены одинаково, а у «шнуровиков» различаются
по ритуалу (мужчины на правом боку, женщины — на левом). «Ямники» густо
посыпаны красной охрой, у «шнуровиков» она почти неизвестна, кроме того,
они лежат в другой позе, и т. д. Хойслер мыслит прямолинейно и работает кон-
сервативно, но очень добротно (рис. 91).
Я также выступил против сторонников гипотезы о степной экспансии
в Европу. С моей точки зрения, европейские культуры шнуровой керамики
имеют в Центральной Европе местные корни: они повторяют там основные
параметры предшествующей культуры воронковидных кубков — в той уже
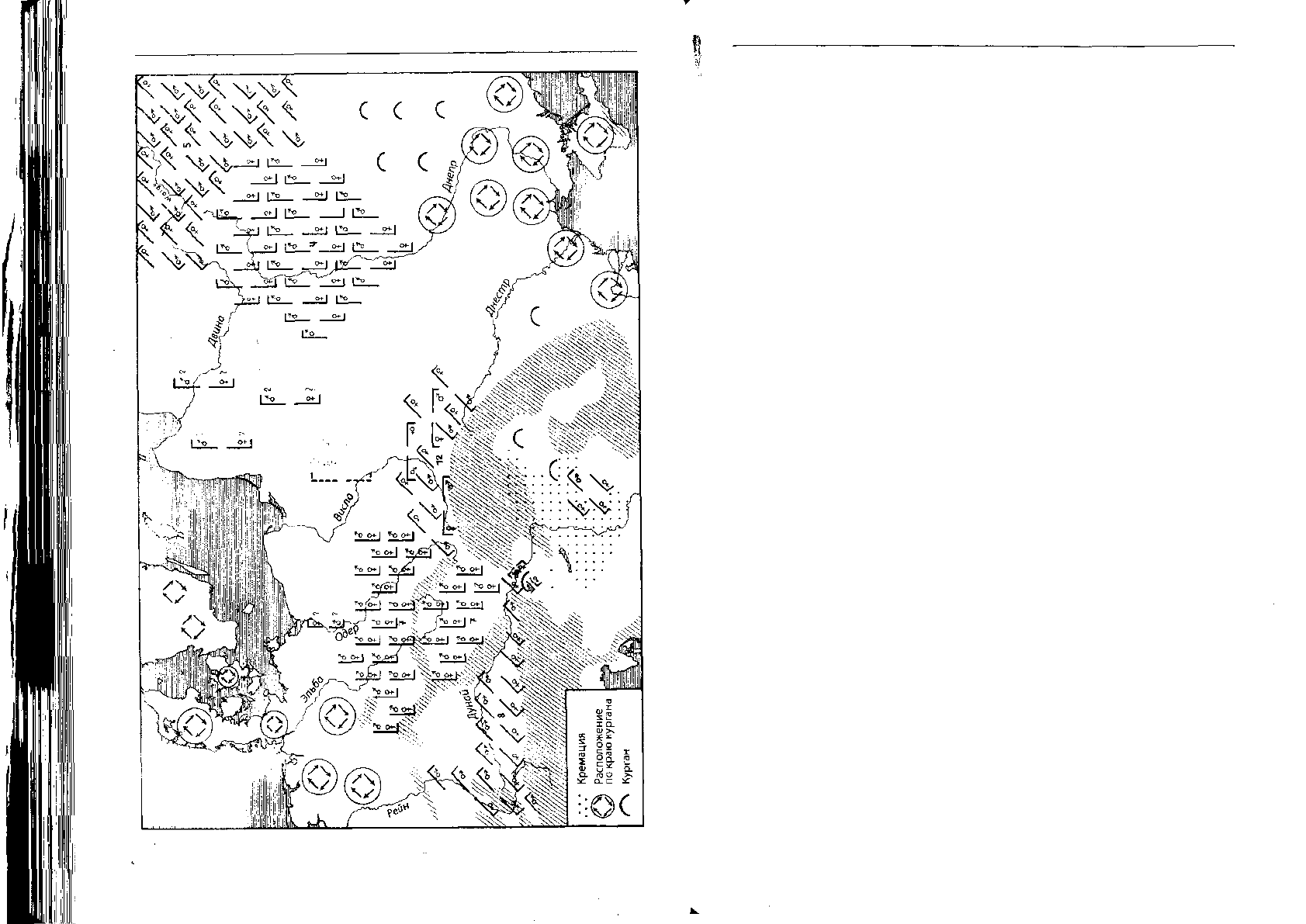
270
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Рис. 91. Ямная культура — не предок культур шнуровой керамики
(схема А. Хойслера — Hausler, 1992)
280 I/II. Каменные люди медного века 139
278
налицо и те же керамические формы (амфора и кубок), и шнуровой орнамент,
и каменный боевой топор, и курган. В 1964 г. в трудах международной конфе-
ренции 1962 г. в Галле (ГДР) была опубликована моя таблица развития кера-
мики от воронковидных кубков к шнуровым.
Возражения Хойслера и мои не очень удручали адептов экспансии ям-
ной культуры: речь в них идет о сходствах и несходствах, а это понятия от-
носительные. Необходимую меру сходства, чтобы оно было равносильно
родству, никто никогда не устанавливал, и все оценки можно легко объявить
субъективными. Вам кажется, что ребенок — вылитый отец, а мне не кажет-
ся; по-моему, он больше смахивает на соседа. Конечно, бывают случаи, когда
невозможно сомневаться, и всё-таки установление отцовства, как известно,
производят не так.
3. Одесский курган. Гораздо больше неприятностей для сторонников
ямной экспансии создавали проблемы хронологии. На хронологической шка-
ле ямная культура занимала вторую половину III тыс., и культуры шнуровой
керамики тоже относились к III тыс., к той же второй половине. Как же вы-
вести их из ямной? Не могут же быть мать и дочери одного возраста! Нельзя
ли удревнить начало ямной культуры? Вначале казалось, что это удается, но
вскоре пришлось разочароваться. Радиоуглеродная датировка действитель-
но удревнила ямную культуру почти на тысячу лет, но ... на ту же тысячу лет
удревнились и ранние культуры шнуровой керамики.
Хронологию степных культур строить трудно: многослойных поселений,
образующих хребет хронологии, почти нет; погребения бедны и обычно не
связаны друг с другом. Спасает привязка (находками импортных вещей) к хро-
нологической шкале оседлых земледельческих культур Правобережной Укра-
ины и Балкан — трипольской и родственных ей: их хронология построена на
учете многослойных поселений. Трипольская культура с ярко расписанной
керамикой давно разделена на этапы, носящие буквенные обозначения (А, В,
С). Эти этапы уже в советское время разделены на подэтапы (обозначаются
римскими цифрами), а в последние годы выделены еще более дробные перио-
ды (обозначены маленькими арабскими цифирками).
В конце полуторатысячелетнего существования трипольской культуры ее
характер резко изменился — появились курганы, шнуровая орнаментация ке-
рамики,хотя и трипольская расписная посуда не исчезла. Курган обычно обне-
сен кольцом крупных камней — в лексиконе мегалитических сооружений это
называется «кромлех» (по-бретонски «кривой камень»). Сейчас все признают,
что это выдает примесь какого-то иного населения. Одни исследователи назы-
вают эту смешанную культуру позднетрипольской, другие — посттрипольской
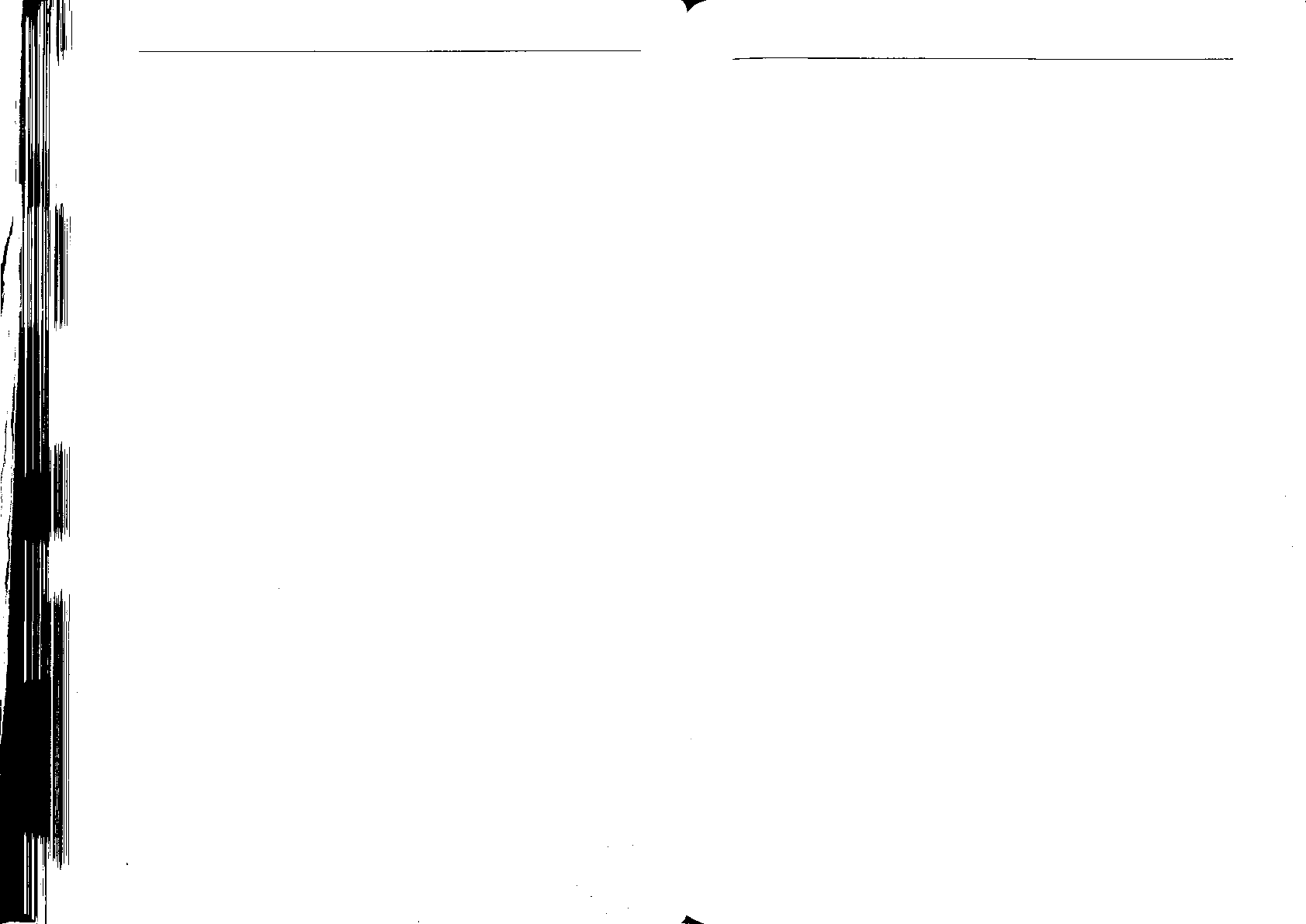
280
270 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
(послетрипольской). Ее наиболее известный прибрежный вариант — усатов-^
екая культура (названа так по находкам у с. Усатова).
Еще до революции на окраине Одессы был раскопан большой курган
с двумя концентрическими кромлехами, в котором были как усатовские, так
и ямные погребения, катакомбные и прочие. Раскопавшие курган археоло-
ги не разобрались в его структуре, но потом Городцов специально занялся
изучением их раскопок и пришел к выводу, что курган был воздвигнут перво-
начально над ямной могилой, а усатовские впущены сверху. То есть ямная
культура оказывалась древнее усатовской, древнее шнуровой керамики, она
оказывалась самой древней курганной культурой степей. Инородную примесь
в усатовской культуре можно было бы считать ответвлением ямной культуры.
Но послевоенные массовые раскопки степных курганов не подтвердили
этого. В этих курганах не раз обнаруживались вместе усатовские и ямные по-
гребения, иногда они задевали друг друга, и всякий раз ямная могила проре-
зала усатовскую. Стало быть, Городцов ошибся, и в Одесском кургане первое
погребение не принадлежало ямной культуре (не всякая могила-яма принадле-
жит ямной культуре, в наше время тоже хоронят в ямах). Да и счет тысячелетий
с тех пор стал другим: с середины XX в. в практику археологов вошел радиоугле-
родный метод датировки, и ныне усатовскую культуру относят не ко II тыс., как
во времена Городцова, а к середине IV тыс., ямную же культуру Городцова — ко
второй половине IV тыс. Получается неувязка: она позже усатовской.
Московский археолог профессор А. Я. Брюсов попытался вывести индо-
европейскую экспансию на всю Европу не из ямной, а из катакомбной культу-
ры, но уж это ни в какие ворота: и вовсе слишком поздно. Сходств со «шнуро-
виками» у «катакомбников», пожалуй, даже побольше, чем у «ямников», есть
на Западе и катакомбы, но западные и средиземноморские катакомбы старше
степных, так что, скорее, можно предположить противоположно направлен-
ную экспансию (что я и сделал).
Словом, происхождение европейских культур от ямной или катакомбной
не вытанцовывается, степная экспансия на запад повисла в воздухе. Как же
вписались стелы в эту ситуацию? Что нового они внесли?
4. Два шага в сторону. Менгиры в Румынии и Франции. Среди древ-
нейших стел обнаружились и не столь уж примитивные экземпляры — с изо-
бражением рук, пояса, черт лица, разных предметов вооружения. Некото-
рые археологи выстроили их (стелы) в эволюционный ряд — от простейших
к более разработанным — и предположили, что тут развитие. Идея кажет-
ся логичной, но, странное дело, простейшие стелы нередко залегают вместе
с разработанными.
I/II. Каменные люди медного века
140
Еще с 1920-х гг. каменные идолы, в том числе весьма разработанные, об-
наружились в Румынии, и тогда же финский ученый Арне Тальгрен, специалист
по первобытным древностям России, сопоставил их с украинскими. Сорок лет
спустя московская исследовательница Т. Д. Блаватская в духе времени заклю-
чила, что на Дунае стелы появились в результате продвижения туда ямной
культуры из наших степей — похожие погребения там также имеются, правда,
только в тех районах, куда языками заходит с востока степь (такие районы
есть в Румынии, Болгарии и Венгрии).
Против этого предположения выступил в Москве А. А. Формозов. Он от-
метил, что для правильного понимания этих памятников нужно включить в поле
зрения не только Нижнее Подунавье, но и мегалитические культуры Западной
Европы (Франции, Северной Италии, Испании), и такие исследования уже ведут-
ся. Собственно, само название, которое археологи Румынии выбрали для своих
стел, говорит об ориентировке на памятники Франции: «статуи-менгиры». Мен-
гиры — это огромные стоящие каменные столбы, каких много в числе мегали-
тических сооружений Франции (на языке бретонцев «менгир» значит «длинный
камень»). Термином «менгир» румыны характеризовали форму этих изваяний
и подчеркивали их первобытную грубость, а дополнением «статуя» — что, в от-
личие от простых менгиров, они всё-таки передавали облик человека.
Но наряду с менгирами во Франции имелись и настоящие антропоморфные
изваяния, подобные румынским и украинским. И, что существенно, во Франции
различаются по разработанности не только стелы, но и детали на них. И тут
заметно, что простые варианты — не прототипы разработанных, а их рудимен-
ты: в них нет смысла, а есть лишь подобие тем, которые смысл имеют. То есть
эволюционный рядтутудобно построить, но противоположный: можно просле-
дить, как детали, реалистично переданные на разработанных стелах, сменяются
упрощенными намеками и вовсе бессмысленными фигурами на более простых
стелах. Оказывается, стелы деградируют, а не прогрессируют.
Спускаясь по лестнице тысячелетий (а в археологии это очень реальное
движение по слоям вниз), мы всегда склонны верить, что эта лестница в жи-
вой истории вела только вверх, и в общем это верно. Но общее складывается
из частностей, а в частных случаях — и как же их много! — всё бывает наобо-
рот. Спускаясь по этой лестнице, нужно одолеть искушение видеть внизу только
примитив, не поддаваться иллюзии всеобщего непрерывного роста. Для этого
археология в XX в. преподнесла нам немало поучительных сюрпризов — велико-
лепную пещерную живопись древнекаменного века, высокие цивилизации в глу-
бочайшем прошлом Африки и пустынь Средней Азии, города в VII тыс. до н. э.
Не будем удивляться, если стелы преподадут нам новый урок: их отно-
сили к железному веку (ведь нужен железный резец, чтобы ваять!), и вот уже
