Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении
Подождите немного. Документ загружается.


71
в укор медикам, состоявшим при их дворе… Что касается до народа, то вообще он не
верил иноземным врачам. Духовенство признавало грехом лечиться у человека
неправославной веры» (Костомаров: 136-137).
Интересным является и тот факт, что наряду со знахарями и травниками
конкуренцию врачами на Руси составляли и цирюльники, воспринимавшиеся как свои,
понятные, а следовательно, и вызывавшие большее доверие. Приведем отрывок из книги
Е. Иванова «Меткое московское слово» (Иванов 1982: 190-197).
Цирюльник был почти то же, что и парикмахер, но вместе с тем лекарь,
исполнявший фельдшерские и даже докторские операции. К цирюльникам относились как
к людям мудрым, усвоившим себе высокое звание лекарской науки. Им доверяли,
пожалуй, больше, чем врачам, приписывая чуть не силу колдунов и «наговорщиков». Мне
приходилось слышать:
- Ну его ко псам твоего дохтура, - завтра запрягу коня и отвезу бабу к цирюльнику
Петровичу
∗
. Есть такая добрая душа. Сорок верст от нас… А уж как лечит, как лечит!
Иван Назарыч совсем от живота отходил, а он его справил. Три слова сказал и воду дал
пить… Дохтора при Баранове холеру разводили!
Сообщавший мне это крестьянин находился в губернском городе Нижнем
Новгороде, где было рукой подать и до больницы, и до частной врачебной помощи.
Говорили также:
Нашему кузнецу Павлу земский дохтор жилу не туды завернул на локте, без руки
человека оставил, а цирульник потянул, и все, как не бывало. Вот те и дохторье! Дым с
худой трубы от Елоховой шишки! (записано в 1907 г. в селе Городце на Волге от
неизвестного)».
И еще примеры противопоставления врачей и цирюльников, приведенных Е.
Ивановым: «Портило, а не лекарь! Были ране фершала-цирульники… (Записано в 1916 г.
в подмосковной деревне Новая Лужа ст. Химки от неизвестной).
Покойникам кровь отворять твоя докторица годится! (записано в 1905 г. в
местности Великий враг на Волге от неизвестного).
Скажи дохтуру моей кобыле в хвосту волосы нарастить!.. (Записано в 1906 г. в
местности Работки на Волге от неизвестного).
Мутила меня, мутила твоя фершалша, аль дохтурша с бабой. Порошков давала
горьких-нагорьких. Лопала их, лопала моя Анка – с души от горечи тянет. Пищу жрать не
могла! Повел к бабке Маланье… Та ее на горячий полок да березовым веником с солью
нахлестала – и как рукой прочь. Возня одна с вашими учеными лекарями… Глянь-ка на
Анку – ровно жеребец, одна бревно на воз валит! Даром на шестом месяце брюхатая…
(Записано в 1905 г. в местности Котово на Волге от неизвестного).
Многие ученые и сами врачи отмечают это сохранившееся преклонение перед
медициной в целом и ее отдельными представителями, что многие считают важной
составляющей успеха лечения. Вера в знания врача очень важны для пациента.
Гиппократу приписывают такие слова: «Некоторые пациенты, даже зная о своем
безнадежном положении, могут выздороветь, если верят в своего врача».
Сами врачи говорят об этом так: «Это и есть тот редкий случай, когда ученье не
свет. Непомерное медицинское просвещение вредно, ибо оно «раздевает» медицину,
лишает ее ореола «таинства», не оставляет для больного ничего непостижимого. А
больному нужна вера в неизвестное для него «то» (в личности врача, в медицине вообще),
что должно помочь ему исцелиться». «Медицина должна оставаться ну если не таинством,
то все же и не упрощенным ритуалом. Что-то должно быть, - подчеркивает академик Е.И.
Чазов (1978), - что вызывает у пациента почтение к медицине, уважение к такому знанию,
которым он не владеет» (Сук: 48-49). Необходимость сохранения такого ореола вокруг
врача подчеркивает и З.Балоян в статье «Заповедь Гиппократа» (Лит. газ., 1973, 18 авг.),
когда пишет: «Люди-то мы такие же, но работа у нас другая. Особая. Больной, доверяя
врачу свою жизнь, не просто верит ему, но подсознательно считает его этаким магом,
волшебником, не таким, как все, а возможно, и человеком с капроновыми нервами. И вот
∗
Обращение по отчеству обычно характеризует близкие, дружеские отношения.
72
вместо ожидаемых качеств – раздражительность, отсутствие такта, ограниченность,
неинтеллигентность, которые сами по себе уже порождают врачебную ошибку, не говоря
о более серьезных просчетах…» (Грандо: 143).
Особое положение врача, его необычность подтверждает и эксперимент,
проведенный О.В. Коротеевой, при изучении дефиниций. Говоря о том, что примерно
каждое третье незнакомое слово учащиеся пытаются отнести к медицине (Гиацинт -
болезнь, скорее всего что-то воспалилось), она объясняет это тем, что «с одной стороны, в
коллективном сознании непонятное ассоциируется с медицинским дискурсом. Врач
недоступен. Для него больница, которая вызывает у большинства людей неприятные
ощущения, - привычное место. Он знает то, чего не знают другие: как помочь, как
облегчить боль. Он разбирается в латыни и т.д. С другой стороны, большое количество
рекламы лекарственных препаратов, многочисленные предложения изменить что-то в
себе, подправить свое здоровье тоже накладывают свой отпечаток». Исходя из этой
тенденции, мы провели следующий эксперимент: для определения испытуемым был
предложен ряд лингвистических терминов, которые, скорее всего, должны были являться
для них агнонимами. Каждому из 150-ти испытуемых предлагалось ответить на вопрос
«Что означают следующие три слова?» (всего для эксперимента было отобрано 50
терминов). Ответы распределились следующим образом: 1) 14 определений были даны
либо правильно, либо с помощью тематизатора отнесены к соответствующей области; 2) в
27 случаях респонденты не побоялись признаться, что не знают значения каких-то слов; 3)
109 терминов были причислены к области медицины. Чаще всего термины соотносили с
лекарствами (Бустрофедон - таблетки какие-то. Асиндетон - лекарство, импортное,
скорее всего); второй по численности группой были указания на какие-либо заболевания
(Флексия - нарыв. Дейксис - воспалительное заболевание); затем можно выделить какие-то
производимые медицинские манипуляции (Парцелляция - удаление чего-то при
хирургической операции. Изоглосса - это лечебная физиопроцедура), а так же некоторые
другие процессы, имеющие непосредственное отношение к медицине (Дискурс - курс
лечения, скорее всего, в санатории. Аблаут - ситуация, когда пациент умер после долгого
лечения, наверное) (Коротеева 1999: 18).
Воздействие на больного начинается еще до того, как он приходит в кабинет
конкретного врача, во многом определяющими факторами являются усвоенные
социальные стереотипы, предыдущий опыт взаимодействия, все знания, каким-либо
образом связанные с данной ситуацией. Вот как об этом пишет один из самых известных
исследователей проблем взаимодействия врача и пациента доктор Харди: «Болезнь не
может быть понята лишь на основе оценки поведения человека, его впечатлений и
переживаний только в настоящее время. И в настоящем живут и продолжают
оказывать воздействие прошлый опыт и впечатления… Болезнь как новая, незнакомая
опасность рождает страх перед неизвестностью. Больной прибегает к опыту прошлого,
знакомого ему, чтобы преградить путь этой неизвестности, «овладеть» ею. Новое,
неизведанное он связывает с уже известным, пережитым, старым. Его страхи и опасения
питает все то, что он видит, слышит, представляет, когда-то учил, читал о заболевании,
а также сам тот орган, который поражен этим заболеванием… В результате заболевания
активируются примитивные представления, больший или меньший опыт людей» (Харди:
26).
Воздействие начинается уже с оценивания внешнего вида профессионала,
сравнивания его со сложившимися в культуре стереотипами правильного или
неправильного поведения.
Н.А. Магазаник пишет в своей книге:
Диагностический процесс для врача начинается уже с момента появления
больного: его внешнего вида, походки, особенностей речи и т.п. Однако нельзя забывать,
что и больной с первых мгновений оценивает врача. Разница в том, что, если врач видит
каждого пациента на фоне бесконечной вереницы больных, то для больного врач –
человек необычный, уникальный, которому он вверяет свое благополучие, а то и жизнь.
Поэтому он пытливо и с особым пристрастием изучает врача… Больной не может оценить
73
компетентность врача, особенно при кратком общении; это доступно лишь
профессионалу. Больной изучает своего врача прежде всего как человека: добр ли он,
внимателен ли, участлив, спокоен или суетлив (ведь в любом деле мастера видно по его
уверенности и неторопливости).
Больной, как правило, считает, что хороший врач целиком отдает себя своей
профессии, у него нет ни времени, ни интереса следить за новинками моды; врач, по его
мнению, должен быть одет скромно и просто. Кроме того, медицина всегда ассоциируется
с чистотой, да и вообще можно ли себе представить неряху мастером своего дела. Вот
почему врач обязательно должен быть опрятен и чистоплотен (Магазаник: 15-16).
Наряду с внешним видом оцениваются манеры, поведение, после чего у пациента
уже формируется первое впечатление о враче, которое должно вызвать доверие к нему как
к специалисту. После этого, как правило, начинается разговор с пациентом, где важны и
форма и содержание. Сами врачи советуют это делать следующим образом:
Перейдем теперь к беседе с больным. С первых слов надо создать впечатление
приветливости, участия, готовности помочь. Равнодушный тон, сухое обращение,
невнимательность здесь губительны. Если больной взволнован или страдает от боли,
одышки, необходимо сначала успокоить его, пообещать помочь, например: «Сейчас,
голубчик, я постараюсь вам помочь, только сначала мне надо вас осмотреть и задать
несколько вопросов, так что потерпите немного» (Магазаник: 16-17).
Кстати, если при неясном заболевании физикальное исследование не обнаруживает
патологии, я никогда не упускаю случая сказать: «Я очень тщательно осмотрел вас, но
ничего плохого не нашел. Какое у вас заболевание, я пока не знаю, но либо болезнь не
опасная, либо она еще не причинила большого вреда, так что еще ничего не потеряно.
Конечно, надо будет сделать несколько специальных исследований, но падать духом не
следует». Действительно, последующие анализы и наблюдение часто оправдывают
подобный оптимизм (Магазаник: 31).
Все же чаще больной вместо ожидаемой поддержки сталкивается с запугиванием
со стороны врачей, размышляя о причинах которых, Бернард Лоун пишет, это происходит
из-за боязни обвинения в неправильном лечении, к тому же догматическое изложение
самых мрачных перспектив позволяет быстрее убедить больного, резко ограничивая его
сомнения и вообще отметая все вопросы. Пациентам же крайне важно, чтобы о них
заботились, а забота в основном выражается в словах. В данном случае речь не идет о
правде или лжи. «Слова, с которыми врач обращается к больному, должны исходить из
самого понятия врачевания и помогать пациенту поправиться и надеяться на лучшее, если
даже шансов на выздоровление немного. В ином случае страдает сама суть профессии
врача. «Даже при самых мрачных обстоятельствах надо оставлять дверь немного
приоткрытой», - говорил доктор Левайн. Когда Левайн разговаривал с пациентом, каждое
слово его было пронизано оптимизмом. Закончив осмотр, он всегда клал руку на плечо
своего подопечного и тихо говорил: «У вас все будет в порядке» (Лоун: 4-5).
Рассказывая о силе слова, Лоун приводит пример того, как употребленный им
термин пациент истолковал по-своему и воспринял как позитивную установку:
В течение двух недель после сердечного приступа этот 60-летний мужчина
находился в отделении интенсивной терапии. Мы обнаружили у него все возможные
осложнения, перечисленные в учебниках медицины. Каждый вдох давался ему с большим
трудом, больной был слаб и не мог принимать пищу. Из-за недостатка кислорода у него
постоянно прерывался сон. Губы его посинели, периодически он хватал ртом воздух,
словно задыхался. Каждое утро во время осмотра мы входили в его палату с тяжелым
чувством. Были исчерпаны все методы ободрения, и я не мог найти верный тон, боясь
подорвать доверие этого умного человека». Однако внезапно больному стало лучше и
через неделю его выписали из больницы, спустя шесть месяцев он пришел на прием:
«Судя по внешнему виду, он был в отличной форме. Хотя его сердце сильно пострадало,
застойные явления отсутствовали и угрожающих симптомов не наблюдалось. Я не мог
поверить своим глазам.
- Это чудо! – воскликнул я.
74
- Да нет тут никакого чуда, - проговорил он и рассказал, что его спасло.
Он действительно чувствовал себя тогда очень плохо и уже смирился с мыслью о
неизлечимости своей болезни. Он решил, что надеяться больше не на что.
- Двадцать четвертого апреля, - продолжал мой собеседник, - вы со своими ассистентами
пришли ко мне утром. Все встали вокруг кровати и уставились на меня так, словно на мне
уже надеты белые тапочки. Потом вы приложили стетоскоп к моей груди и вдруг
произнесли: «ритм галопа». То, что вы говорили до этого, я считал просто утешением. А
тут поверил, что если мое сердце может выдать настоящий галоп, то я вовсе не умираю, а,
наоборот, начинаю поправляться. Так что, док, сами видите, чуда здесь никакого нет. Все
дело в удачно сказанном слове.
Пациент не знал, что «ритм галопа» - очень опасный симптом, когда растянутый и
перенапряженный левый клапан безуспешно пытается качать кровь (Лоун: 6).
Если больной приносит с собой результаты прошлых обследований, то врач
демонстративно откладывает в сторону и говорит: «Прежде всего я займусь вами, а потом
этими бумажками, ведь лечить-то надо вас, а не анализы». В глубине души больной ждет
именно этого (Магазаник: 33).
Рассуждая о том, что ждет больной от врача, Н.А. Магазаник говорит, что больной
ждет не только лекарственного лечения, он не знает, что с ним случилось, и поэтому хочет
услышать название болезни, диагноз: ведь ничто так не питает страх, как
неопределенность, неизвестность. Кроме того, больной хочет знать, что ему самому надо
делать, чтобы выздороветь: каков у него должен быть режим, какие нужны лекарства или
процедуры, сколько времени продлится лечение, каковы перспективы на выздоровление и
на восстановление трудоспособности. И, что очень важно, любой человек в кабинете
врача жаждет ободрения, успокоения; он хочет услышать, что болезнь его не так уж и
страшна, что ему можно помочь.
Очень ценным является то, что в книге даются примеры такого щадящего
отношения в разговоре с больным. Автор советует, сообщая диагноз, говорить простым,
понятным языком и помнить, что некоторые термины имеют в обиходе зловещий,
устрашающий оттенок и поэтому их употребление нежелательно. Далее приводятся
примеры из лечебной практики: «Так, если больной с тревогой спрашивает: «Неужели у
меня астма?», - ясно, что этот термин означает для него мучительную и неизлечимую
болезнь. И я, не колеблясь, отвечаю: «Нет, у Вас бронхит с астматическим компонентом».
Разница между этими заболеваниями не так уж велика, а лечение практически одинаково.
Если мне приходится диагностировать саркоидоз, то первым делом объясняю, что этот
термин не имеет никакого отношения ни к саркоме, ни к злокачественной опухоли и что
вообще это заболевание доброкачественное и часто не требует никакого лечения. В
остром периоде инфаркта миокарда и предпочитаю говорить о сердечном приступе или о
затянувшемся спазме сосудов сердца и только спустя несколько дней, когда состояние
больного стабилизировалось и он уже адаптировался к больничной обстановке, я сообщаю
ему, что он перенес инфаркт, но что опасность уже позади. Вместо стенокардии лучше
сказать о спазме сосудов сердца (кстати, слово «спазм» помогает объяснить больному
пользу нитроглицерина, который многими используется неохотно и редко именно из-за
его ассоциации с такими «страшными» названиями, как стенокардия, инфаркт,
ишемическая болезнь сердца)» (Магазаник: 34). Здесь мы видим примеры изменения
структуры поля значений реципиента через сообщение новой информации об уже
известных ему вещах для изменения представления реципиента об их взаимосвязи, а
следовательно и его отношения к этим вещам.
Известный английский хирург Кэлнан писал: «Любой ценой избегайте
устрашающих диагнозов. Да, конечно, больной может заявить, что он хочет знать всю
правду, но смягчить правду милосердием – вот достойная практика. Когда дело идет о
том, чтобы сообщить больному его диагноз, такт и человечность должны стоять на первом
месте. Лучше сказать о сердечном приступе, чем о тромбозе коронарных артерий;
новообразование лучше, чем рак; повышенное давление лучше, чем гипертония, и
75
нервные головные боли лучше, чем невроз тревоги. Эти слова не только мягче, они более
понятны» (Магазаник: 35). Само изменение названия болезни в данных примерах меняет
коннотативное значение этого объекта для реципиента, тем самым изменяя и отношение к
своему состоянию.
Предупреждая о недопустимости грубой лжи, голословного отрицания и чрезмерно
оптимистичных слов, автор предлагает использовать психотерапевтический прием –
логическое убеждение, которое заключается в приведении аргументов, понятных и
потому убедительных для больного, в союзники берется его разум. Для нас очень важны
примеры использования этого приема в сложных для врача ситуациях, еще раз
показывающих, что убеждение может происходить и через воздействие непосредственно
на смысловое поле: в этом случае врач не сообщает больному ничего, чего бы он уже не
знал, но то, что он знает, представляет для него в ином свете.
При назначении психотропных средств, если больной знает область их применения
и отказывается их пить («Что я, сумасшедший что ли?»). Отвечая на это и предваряя
такую реакцию (человек может уже дома прочитать довольно подробные интрукции-
вкладыши), Н.А. Магазаник советует заранее проговорить: «Это лекарство используют
также и психиатры, но это вовсе не значит, что у вас психическое заболевание. Вы,
наверное, слышали о таком лекарстве, как хинин, который применяют при лечении
малярии. Кроме того, его используют в акушерстве для сокращения матки после родов и в
кардиологии при перебоях сердца. Так и это лекарство имеет различные области
применения. Кроме того, дозы, которые я вам назначаю, очень маленькие, при
психических болезнях дают гораздо больше» (Магазаник: 39).
Далее говорится о том, что избегать надо не только устрашающих, но и так
называемых обидных диагнозов. Услышав слова «невроз», «истерия», «депрессия»,
больной иногда заключает, что врач навязывает ему ярлык невропата, т.е. вспыльчивого,
вздорного, несимпатичного человека. Поэтому лучше сказать о нервном переутомлении
или истощении. Такая формулировка показывает, что больной перенес много моральных
страданий или чрезмерно работал и потому достоин уважения и сочувствия, а в его
болезни нет ничего постыдного (Магазаник: 37).
После того как больному назвали диагноз, надо приободрить и обнадежить его.
Автор предлагает о факторах риска сказать так: «Вы не курите, У Вас нет диабета,
давление у вас нормальное; все это благоприятные факторы, «три – ноль в Вашу пользу».
Вы заболели недавно, стало быть, болезнь еще не запущена и органические, необратимые
изменения пока, наверное, невелики. Значит, вполне можно рассчитывать на хорошие
результаты, если только вы будете аккуратно лечиться». Или «У вас есть два отягчающих
обстоятельства: вы курите и у вас гипертония. Но зато у вас нет диабета, который
особенно ускоряет развитие атеросклероза, да и лечить диабет трудно. Что касается
гипертонии, то теперь в нашем распоряжении имеются настолько эффективные средства,
что этот фактор риска нас с вами не должен пугать. А бросить курить – целиком в ваших
силах, и не говорите мне, что это трудно: тысячи людей делают это и, наверное, даже
среди ваших знакомых есть бросившие курить. Вы должны отчетливо понимать, как это
важно для вас, если вы хотите избежать инфаркта. Ваша воля плюс лекарства – гарантия
успеха» (Магазаник: 41).
Полезно похвалить больного, подчеркнув что-то положительное в медицинском
отношении, даже если это не имеет прямого отношения к данной болезни. Например, он
бросил курить: «Отлично, значит у вас есть сила воли, а это важнейший фактор
выздоровления»; больной занимается физкультурой: «Какой вы молодец! Если бы все
больные вели себя так!»; больной около 40 лет, она недавно родила: «Молодец, вы
отважная женщина! А раз все обошлось благополучно, значит, и сердце у вас хорошее!»
(Магазаник: 43).
Чаще всего в работе врача используется комплекс способов воздействия, например,
при назначении лекарств: «К сожалению, такую болезнь, как ваша, мы пока не умеем
лечить радикально, так, как, скажем, пневмонию. Болезнь ваша не вчера началась,
поэтому и лекарства придется принимать очень долго, многие месяцы подряд. Это вроде
76
очков: пока я их ношу, зрение нормальное, но стоит их снять – и я снова вижу плохо. Так
и наши лекарства: пока вы их принимаете, давление будет хорошим, ваши сосуды и
сердце не будут страдать от перегрузки». Вслед за этим два распространенных
предрассудка, чаще всего отпугивающих от длительного приема лекарств. «А не вредно
ли принимать эти лекарства так долго, не пострадает ли моя печень (почки и др.)?» -
«Даже если бы эти лекарства и оказывали хоть какой-нибудь вред, он несравнимо меньше,
чем вред от вашей болезни. Вот вы не врач, но, конечно, знаете, что нелеченая гипертония
часто приводит к инфаркту или инсульту; а слышали ли вы пусть даже об одном случае
смерти от адельфана (допегита, анаприлина и т.п.)?» - «А не привыкну ли я к вашим
лекарствам? Ведь тогда нечем будет меня лечить…» - «Эти лекарства применяют уже
десятки лет, они испытаны на сотнях тысяч больных, и еще никто из врачей не описал
привыкания к ним» (Магазаник: 43).
Любой профессиональный коммуникатор, а тем более врач должен помнить, что
его слова оказывают большое воздействие на пациента, мы собрали огромное количество
примеров некорректного речевого поведения медицинских работников, да и сами врачи
отмечают факты небрежного обращения со словом: «К сожалению, словесная
бестактность порой не ограничивается сферой общения врачей друг с другом, а
распространяется иногда и на больных. «Ну и попотели же мы на вашей операции»,
«Голубчик, у вас же давление 200 на 100! Как же вы можете заснуть? (Это в ответ на
просьбу больного дать ему какое-нибудь снотворное лекарство). «Такая молодая и…
такая больная!», «И как вы вообще живете с таким сердцем?», «Сердце ваше дряхлое»,
«Ваше сердце старше вас» и т.п.
Нельзя забывать, что малейшая оговорка, двусмысленность в речи могут
травмировать больного, как, например, обращение массажистки к больному при
подготовке к массажу: «Протяните ноги!»
Непростительные деонтологические ошибки допускаются иногда во время
рентгенологического обследования. Больной стоит за экраном. Ассистент подзывает
студентов и говорит: «Посмотрите, какое сердце. Другой пример- рентгенолог диктует:
«Луковица деформирована, сердце лежит, желудок в форме крючка». Нетрудно
представить, что происходит с больным после такого заключения.
Часто можно слышать в разговоре медицинского персонала такие выражения:
«наш больной», «не наш больной», «интересный больной», «неинтересный больной»,
«скорая помощь привезла одни желудки». Медицинская сестра перед инъекцией,
осматривая руку больной, восклицает: «У вас же вен нет!» «А где же они?» - в ужасе
спрашивает больная. Консультант на обходе: «Здесь селезенки нет», и т.д. и т.п. (Грандо:
155-156).
Есть врачи, которые в разговоре с больными злоупотребляют специальной
медицинской терминологией, прибегают к непонятным и ненужным выражениям: «У вас
серьезное нарушение вегетативной системы», «У вас склероз сосудов мозга!», «У вас не в
порядке эндокринная система» и т.п. Такие пугающие выражения (кроме того, что они
медицински неграмотны) очень сильно действуют на больных и могут осложнить или
затянуть течение болезни, а то и вызвать ятрогению, которая является результатом
психологической безграмотности врача. Особое распространение термины «ятрогения»,
«ятрогенный» получили после статьи Бумке (1925) «Врач как причина душевных
расстройств». Эти термины происходят от греческого слова iatros – «врач» и означают
психогенное заболевание или невроз, возникающий на почве неблагоприятного
воздействия на психику больного поведения врача или других медицинских работников
(Грандо: 157).
И.В. Пешков так пишет о необходимости осознанного использования речевого
воздействия: «Объективно наша речь всегда влияние и изменение. Влияние на кого-то и
изменение чего-либо. Все дело в степени этих изменений и осознанности этого влияния.
Риторическое обучение и заключается во включении субъективного фактора. Важно,
чтобы каждый homo sapiens осознал, что он не просто homo loquens (человек говорящий),
но homo verbo agens. Термин «говорящий человек» напоминает о говорящем попугае,
77
который произносит сам не знает что. Не умелый (не обученный) говорящий человек,
хоть знает, что он произносит, но не знает, что он этим делает. Задача риторики – научить
человека действовать словом по возможности сознательно» (Пешков: 267).
Итак, при речевом воздействии в профессиональной сфере следует учитывать
следующие моменты:
1. этнокультурные стереотипы, закрепляющие социально одобренные модели
поведения, внешнего вида и т.д., а также наличие определенного опыта
взаимодействия со специалистами из этой сферы приводят к прогнозированию
образа профессионала и его действий; соответствие нормам способствует
большему доверию, а следовательно, облегчает процесс воздействия;
2. межкультурные различия, выражающиеся в разном мировосприятии: как правило,
профессиональный мир у специалиста гораздо богаче, чем это может представить
себе неспециалист; одним из следствий этого является разница в трактовке
социальных знаков, избыток синонимов для обозначения одного явления (или
закрепление в языке тонких различий) у профессионалов, и лакуны у обывателей;
3. наличие смыслового поля у индивида, возникшего благодаря структурации
присвоенного им общественного опыта, т.е. той «сетки», через которую он «видит»
мир, той системы категорий, с помощью которой он этот мир расчленяет и
интерпретирует.
1.6. Речевое поведение в сфере «человек-человек». Обслуживание или
сервис: национальная специфика
В настоящее время в России можно отметить сосуществование двух типов
обслуживания: наряду с традиционным уже сформировался прозападный стиль,
отличительной чертой которого является подчеркнутая технологичность действий,
холодная вежливость и неназойливость, такой сервис еще называют «незаметным». В
сознании большинства россиян это обслуживание связывается с дорогими ресторанами,
гостиницами, бутиками, в которых можно увидеть копирование западных моделей от
оформления помещений до поведения сотрудников, и воспринимается скорее как
экзотика, чем как норма.
Привычнее для россиян традиционное «грубое» обслуживание, поскольку особое
внимание, подчёркнуто деловое отношение, «дежурная» улыбка, как и «дежурная»
вежливость, в русской культуре осуждаются.
Низкую вежливость обслуживающего персонала отмечает в своей работе И.А.
Стернин. Вежливость в сфере русского сервиса была и пока остается низкой. Одной из
причин представления о невежливости русского сервиса у граждан западных стран
является неулыбчивость русского обслуживающего персонала, что воспринимается
западной культурой как невежливость. С другой стороны, невежливость российского
обслуживающего персонала описывается как равнодушие к клиенту, а также отражает
возможные случаи грубости. Это действительно имеет место и объясняется
привилегированным положением продавцов по отношению к покупателю в долгие годы
массового дефицита товаров, продуктов и услуг в советской России (Стернин 2001).
О.Е. Белянко и Л.Б. Трушина объясняют хмурость, унылость, неулыбчивость
русских, уже вошедших в поговорку, общим пессимистическим настроем: «Новое
поколение русских бизнесменов, оказывается, специально учат улыбаться. Желание все
покритиковать, поругать знакомо каждому русскому. Отсюда и хмурость, неулыбчивость,
невеселость характера и выражения лица. Можно, конечно, это объяснить себе и другим –
ведь нас всегда учили «осуждать так называемые западные фальшивые улыбки». Но кто
же мешает улыбаться искренно, смеяться от души?! Нет, это не в русском характере. Даже
поговорка есть – «Смех без причины – признак дурачины» (Белянко, Трушина: 72).
В то же время нелюбезность и даже агрессивность продавщиц в магазинах и
вообще работников сферы обслуживания они пытаются объяснить не столько
существовавшим ранее хроническим дефицитом товаров и услуг в обществе, но и
78
психологическими причинами, тем, что в бывшем СССР сознательно культивировалась
так называемая психология победителя, то есть в любом конфликте – политическом,
социальном, семейном, личном – человека учили стараться быть победителем. Не искать
возможности сотрудничества или сглаживания противоречий между людьми, а именно
победить. Естественно, у продавщицы в магазине при таком подходе возможностей
продемонстрировать свое превосходство над покупателем было вполне достаточно
(Белянко, Трушина: 73).
Пережитки неприкрытого даже «дежурной улыбкой» духа соперничества мы
встречаем постоянно. З.В. Сикевич пишет об этом так: «Действительно, трудно оспорить
то, что в своем практическом воплощении свобода в современной России – это не столько
свобода сотрудничества и доброжелательного диалога, сколько своевольное навязывание
своего понимания свободы ради крушения чужой» (Сикевич: 48).
Однако основные причины национально-культурной специфики российского
обслуживания, на наш взгляд, кроются в исторических особенностях формирования этого
слоя. Издавна на Руси люди обслуживающего персонала, «обслуга», набирались из
крепостных и, соответственно, были лишены всяких прав как «люди подлого звания».
Тяжелые условия жизни и труда вызывали у них стремление не столько служить, сколько
прислуживаться для собственной выгоды» (Харченко, Шкатова 1998: 220).
Об особенностях службы пишет и Н.И. Костомаров: «У русских было понятие, что
служить следует хорошо тогда только, когда к этому побуждает страх, - понятие общее у
всех классов, ибо и знатный господин служил верою и правдою царю, потому что боялся
побоев; нравственное убеждение вымыслило пословицу: за битого двух небитых дают.
Самые милосердные господа должны были прибегать к палкам, чтобы заставить слуг
хорошо исправлять свои обязанности: без того слуги стали бы служить скверно. Произвол
господина удерживался только тем, что слуги могли от него разбежаться, притом
обокравши его. Русские же не ценили свободы и охотно шли в холопы… Раб в полном
нравственном смысле этого слова, русский холоп готов был на все отважиться, все
терпеть за своего господина и в то же время готов был обмануть его и даже погубить»
(Костомаров: 153-154).
С другой стороны, вся система государственной власти была устроена так, что
представители всех слоев населения по отношению к верховной власти находятся в
одинаково подчиненном положении (бояре, представители высшей аристократии,
называли себя «холопами государевыми»). Павел I выговаривал фельдмаршалу: «В
России вельможи только те, с которыми я разговариваю и только пока я с ними
разговариваю (Прохоров: 66-67).
Это привело к тому, что в России практически каждый человек обладает как
минимум двумя моделями поведения: хозяина и слуги, которые хорошо разработаны («ты
начальник – я дурак, я начальник – ты дурак»), при этом модель сотрудничества, когда
взаимодействие осуществляется на равных, свойственна скорее дружеским отношениям.
К тому же само прислуживание рассматривается как холуйство и считается
непрестижным, недостойным, что часто вызывает у представителей сферы услуг желание
компенсироваться за счет клиентов, доказать свое превосходство. В речевом поведении
это выражается в виде упреков, поучений, инструкций:
- В примерочную почему входите без закройщицы?
- Вы сами-то взяли бы в руки такую грязную обувь?
- Сколько раз можно повторять: ремонт зонтов через дорогу, у нас только обувь!
- Не хотите отпарывать пуговицы – сами и чистите свое пальто!
- Бабушка, с вашей пенсией только в отдел шарфики!
- Давайте быстрее, я, что, до вечера должна вас ждать?
Непрестижность сферы обслуживания и грубость специалистов приводят к
накапливанию негативных оценок и постоянной готовности к конфликтам со стороны
клиентов. Парадоксальным кажется замечание Ф.Дж. Роджерс, касающегося
обслуживания в Америке: «Общепринятое отношение к обслуживанию выглядит
забавным парадоксом. Все его хотят, но мало кто хочет его предоставить. Некоторые
79
воспринимают обслуживание как унижение – атавизм времен подобострастных лакеев,
однако я очень сомневаюсь, тысячи айбиэмовцев, работающих в сфере обслуживания,
испытывали унижение от того, как они зарабатывают на жизнь» (Роджерс: 193).
В этом случае закономерны высказывания, демонстрирующие несогласие с
отнесением профессии врача к сфере обслуживания.
«Професор В.А. Иванов считает, что «медицина – это ремесло лечения», а по Ю.
Крелину, мы, врачи, вообще «не лечим, мы обслуживаем, как парикмахерская,
прачечная». Стоит ли после этого удивляться, что именно такое представление о
сущности работы врача бытует и у некоторых людей, не имеющих медицинского
образования.
Если к сфере обслуживания медицину причисляют немедики, то удивительного в
этом мало. Ведь исключительно широкая в последние годы пропаганда общемедицинских
знаний среди населения начинает давать и обратный эффект: у некоторых людей
вырабатывается скептическое отношение к службе охраны здоровья, они начинают
смотреть на нее как на одну из разновидностей бытового сервиса. Но не в интересах
больных, чтобы такая точка зрения о врачебной деятельности распространялась и
утверждалась. Ведь называть лечение «обслуживанием», значит совершенно упускать из
виду то важное обстоятельство, что «врачевание, - как подчеркивает академик А.Ф.
Билибин, - сфера служения, а не обслуживания» («Медицинская газета», 1978, №67).
Служение и обслуживание – слова одного корня, но сколь разную смысловую
нагрузку они несут! Служение – это мобилизация сил и воли врача, вдохновение на
подвиг. Обслуживание – исполнение обязанностей без того огромного напряжения,
которое требуется для спасения жизни человека. Отличие здесь в сути выполняемой
работы. Отдавая должное официанту, закройщику, парикмахеру как представителям
нужных и хороших профессий, нельзя забывать о том, что их работа не сравнима с
работой хирурга за операционным столом, врача в реанимационном зале, в бригаде
скорой помощи по силе напряжения ума и воли. Хирургическая операция – не то, что
модная и даже самая сложная стрижка. Профессионализм врача требует не только
больших знаний, но и постоянного умения мыслить и не отступать от высоких требований
чести.
Приравнивать медицину к сфере обслуживания, к ремеслу, значит снижать
эффективность ее воздействия на больного. И все же этот процесс уравнивания довольно
заметен в наше время.
Это ощущение спасительной силы во враче, веры в него мы и должны учитывать
полнее. Польза от этого очевидна: врач не будет низводиться до положения ремесленника,
обслуживающего персонала, а значит, и психотерапия, проводимая им, и лечение вообще
окажутся более эффективными.
Когда врач лишь отрабатывает положенные часы, лечит по заученным еще в
студенческие годы методикам, усваивает новое в медицине и применяет его на практике
не в силу профессионального энтузиазма, а лишь во избежание административных
неприятностей. Ему безбедно живется, он только протоколирует, только обслуживает.
Случаи превращения врача в «обслуживающий персонал» не единичны (Сук: 46-48).
Но есть категория пациентов (не только больных), которая заведомо
неуважительно относится не только к врачу, но и к медицине вообще. Их требования
подчас необоснованны, субъективны, нереальны, и чаще всего являются следствием
мещанского высокомерия и низкой культуры. Такие пациенты представляют себе работу
врача как «обслуживание» их персон, а до остального им дела нет.
К сожалению, у нас бытуют такие выражения, как «врач обслуживает»,
«медицинское обслуживание» и др. Однако нет ничего общего между профессиями,
занимающимися непосредственно обслуживанием населения, и творческим трудом врача.
В последние годы в прессе было много критических выступлений в адрес врачей.
Участились и жалобы пациентов. Однако, наряду со справедливой критикой, следовало
бы отметить, что отношение некоторой части пациентов и их родственников к медицине,
своему здоровью оставляет желать лучшего. Систему здравоохранения они считают всего
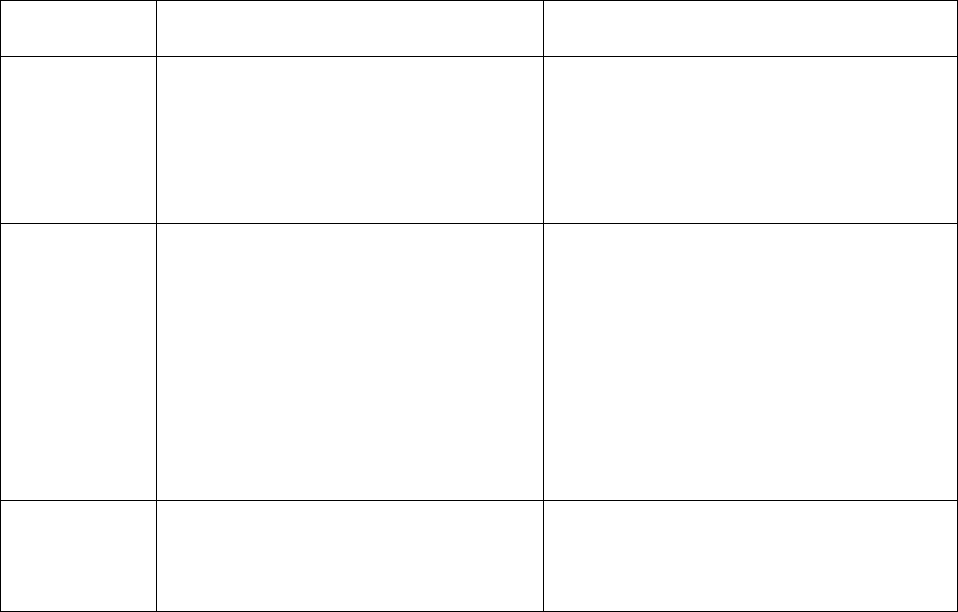
80
лишь еще одной сферой услуг. Может быть такое мнение результат того, что медицинская
помощь у нас бесплатная и общедоступная. Но это глубокое заблуждение (Грандо: 137-
139).
Характерным является употребление наряду со словом «обслуживание» (как видно
из примеров, получившим в наше время отрицательное значение) заимствованного
термина «сервис». Попытку исследовать, насколько иноязычная лексика вошла в живую
речь и принимается на психологическом уровне носителями языка – русскими,
предприняла З.В. Сикевич. Для этого в инструментарий был включен список слов (40),
расположенных парами, где каждому иноязычному слову, входящему в русский язык,
соответствует его полный или приблизительный аналог. Респондентам же предлагалось
отметить то слово из каждой пары, которое им больше нравится.
В результате по степени привлекательности русского или иноязычного аналога
языковые предпочтения петербуржцев разделились на три группы:
1. Существенное предпочтение русского слова. Иностранный аналог полностью или
почти полностью отвергается: распространитель 65,4 % - дистрибьютор 10,7,
универсам, магазин: 8,4 – супермаркет, маркет 15,1.
2. Русский и иностранный аналоги сосуществуют, и четкого предпочтения между
ними не обнаруживается: управляющий 53,0 – менеджер 27,2, предприниматель
55,9 – бизнесмен 28,8, дело 51,3 – бизнес 37,0.
3. Иностранный аналог вытесняет русский синоним, который не выглядит
привлекательным: градоначальник 21,2 – мэр 59,7, обслуживание 32,7 – сервис
60,2.
В качестве одного из выводов этого эксперимента З.В. Сикевич предлагает
следующий: «Рискну предположить, что «сервис» для русского человека – это «хорошее
обслуживание», как в «нормальных» государствах, в то время как русское
«обслуживание» ассоциируется со «сферой обслуживания», которая у большинства
соотечественников вызывает сугубо отрицательные эмоции» (Сикевич: 103-105).
Для выявления места этих понятий в языковом сознании носителей русской
культуры был проведен свободный ассоциативный эксперимент с участием 163
респондентов, где «сервис» и «обслуживание» были представлены среди 75 разных
стимулов.
Сервис
Обслуживание
Синонимы обслуживание (57), услуга (5),
удобство (3), высший класс
обслуживания, приятная услуга,
уровень услуги, хорошая жизнь,
класс (3), сервис
сервис (39), ремонт (2), услуги,
хорошая услуга, сфера (2)
Определение
(какое?)
ненавязчивый (6), на уровне,
навязчивый, непонятный, плохой,
современный, убогий
плохое (7), на высшем уровне (3), по
высшему классу (3), хорошее (3),
бытовое (2), высшее (2), на дому (2),
на уровне (2), высокое, долгое,
качественное, классное, лживое,
невыносимое, оставляет желать
лучшего, сервисное (2), скверное,
спец (2), стремное, техническое,
четкое
Автомобиль авто (14), машины (4), автомобиль
(2), BMW, автомобильный,
автосервис, Аспект, заправка
бензина, мастерская, мыть машины
машина, машины, мыть машины
