Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры - Учебное пособие
Подождите немного. Документ загружается.


Из книги Делёза Жиль Делёз (1926—1995 гг.) — известный французский •«Различие философ. В своих
работах он провозгласил, что филосо-
и повторение» фия больше не должна докапываться до сути бытия, а • всего лишь ползать «по поверхности» как
клещ или блоха. Тем самым философия утрачивает всякое серьезное значение и превращается в игру. Его книга
«Различие и повторение» (1969) — одна из первых работ складывающего постмодернизма. Приводимый ниже
отрывок из нее хорошо иллюстрирует его способ философствования. Однако данный текст весьма сложен для
понимания, поэтому читатель может его пропустить.
Слабости книги часто бывают проявлениями бессодержательности неосуществленных намерений.
Заявление о намерениях в этом смысле свидетельствует о подлинной скромности по отношению к
идеальной книге. Нередко говорят, что предисловие следует читать лишь в конце. Заключение же,
напротив, — вначале; это верно для нашей книги, в которой заключение могло бы сделать ненужным
чтение всего осталь-
uf\rr\
ного.
M*\SM. \J.
Обсуждаемый здесь сюжет явно присутствует в воздухе нашего времени. Можно выделить знаки этого
явления: все более и более подчеркнутая ориентация Хайдеггера на философию онтологического Раз-
личия; применение структурализма, основанное на распределении различительных признаков в
пространстве сосуществования; искусство современного романа, вращающееся вокруг различия и
повторения не только в наиболее отвлеченных размышлениях, но и в результативных техниках;
открытия в разнообразных областях присущей повторению силы, свойственной также
бессознательному, языку, искусству. Все эти признаки могут быть отнесены на счет обобщенного
антигегельянства: различие и повторение заняли место тождественного и отрицательного, тождества и
противоречия. Происходит это потому, что различие не включает отрицание, позволяя довести себя до
противоречия лишь
753
в той мере, в которой его продолжают подчинять тождественному. Главенство тождества, как бы оно
ни понималось, предопределяет собой мир представления. Однако современная мысль порождается
крушением представления, как и утратой тождеств, открытием всех тех сил, которые действуют под
воспроизведением тождественного. Современный мир — это мир симулякров. Человек в нем не
переживает Бога, тождество субъекта не переживает тождества субстанции..Все тождества только
симулированы, возникая как оптический «эффект» более глубокой игры — игры различия и
повторения. Мы хотим осмыслить различие само по себе и отношения различного с различным
независимо от форм представления, сводящих их к одинаковому, пропускающих через отрицание.
Современная жизнь такова, что, оказавшись перед лицом наиболее механических, стереотипных
повторений вне нас и в нас самих, мы не перестаем извлекать из них небольшие различия, варианты и
модификации. И наоборот — тайные, замаскированные, скрытые повторения восстанавливают в нас и
вне нас голые, механические, стереотипные повторения. В
(
симулякре повторение уже нацелено на
повторения, различие — на различия. Именно повторения повторяются, различающее различается.
Цель жизни — добиться сосуществования всех повторений в пространстве распределения различия; у
истоков этой книги — два направления исследований: первое относится к понятию различия без
отрицания, потому что именно различие, не подчиненное тождественному, не дойдет, «не должно бы
дойти» до оппозиции и противоречия; второе направление исследования касается понятия повторения,
когда физические, механические или голые повторения (повторение Одинакового) обнаруживают свою
причину в более глубоких структурах скрытого повторения, где маскируется и смещается «диф-
ференциальное» (differentiel). Оба эти направления исследования спонтанно соединились, потому что
понятия чистого различия и сложного повторения во всех случаях, казалось, совпадают и
смешиваются. Постоянному расхождению и смещению различия непосредственно соответствуют
смещение и маскировка в повторении.
Есть немало опасностей в обращении к чистым различиям, свободным от тождественного, ставшим
независимыми от отрицания. Самая же большая опасность — впасть в прекраснодушные
представления: имеются, мол, только различия, примиримые и соединимые, далекие от
кровопролитной борьбы. Прекраснодушие говорит: мы разные, но не противостоящие... Понятие
проблемы, связанное, как мы увидим, с понятием различия, также как бы питает состояние
прекраснодушия: только задачи и вопросы имеют значение... Однако мы счирем, что как только
проблемы достигают степени свойственной им положительности, как только различия становятся
предметом соответствующего утверждения, они высвобождают силы агрессии и отбора, которые раз-
754
рушают прекраснодушие, лишают его самотождественности, разбивая его благие намерения.
Битвы и разрушения, вызываемые отрицательным, — лишь видимости по сравнению с теми,
которые определяются проблематичным и различающим, а прекраснодушные — только видимые
мистификации. Симулякру свойственно не быть копией, а опрокидывать все копии, опрокидывая

также и образцы: всякая мысль становится агрессией.
Философская книга должна быть, с одной стороны, особым видом детективного романа, а с другой
— родом научной фантастики. Говоря о детективном романе, мы имеем в виду, что понятия в
некой зоне присутствия должны вмешиваться в разрешение локальной ситуации. Они сами
меняются вместе с задачами. У них есть сферы влияния, где, как мы увидим, они осуществляются
в связи с «драмами» и путем известной «жестокости». У них должно быть соответствие, но оно не
должно исходить от них. Соответствие должно прийти извне.
Таков секрет эмпиризма. Эмпиризм ни в коей мере не противодействует понятиям, не взывает
просто к пережитому опыту. Напротив, он предпринимает самую безумную из ранее известных
попыток создания понятий. Эмпиризм — это мистицизм понятий и их математизм. Но он трактует
понятие именно как объект встречи, здесь—сейчас, или, скорее, как Erewhon (обратное
прочтение по where — нигде), откуда появляются неисчерпаемые «здесь» и «сейчас», всегда
новые, иначе распределенные. Только эмпиризм может сказать: понятия есть сами вещи, но вещи
в свободном и диком состоянии, по ту сторону «антропологических предикатов». Я составляю,
переделываю и разрушаю свои понятия, исходя из подвижного горизонта, из всегда
децентрированного центра и всегда смещенной периферии, их повторяющей и
дифференсирующей. Современной философии свойственно преодолевать альтернативу
временного — вневременного, исторического — вечного, частного — универсального. Вслед за
Ницше мы открываем вневременное как более глубокое, чем время и вечность, — философия не
есть философия истории или вечности, она вневременна, всегда и только вневременна, то есть
«против этого времени, в пользу времени, которое, я надеюсь, придет». Вслед за Сэмю-элом
Батлером мы открываем Erewhon как означающее одновременно исходное «нигде» и «здесь—
сейчас», смещенное, замаскированное, измененное, постоянно пересоздаваемое. Ни эмпирические
частности, ни абстрактное универсальное, a Cogito для распавшегося мыслящего субъекта (moi).
Мы верим в мир, в котором индивидуации лишены персонификации, особенности —
доиндивидуальны: великолепие «безличного» (on). Вот откуда тот аспект фантастики, который
необходимо вытекает из Erewhon. Цель этой книги — выявить приближение к связности, не более
присущей нам, людям, чем Богу или миру.
755
В этом смысле это скорее апокалиптическая книга (третье время временного ряда).
Научная фантастика присутствует здесь еще ив другом смысле, выявляющем слабости. Как можно
писать иначе, как не о том, чего не знаешь или плохо знаешь? Воображают, что именно об этом и
есть что сказать. Берутся писать лишь в той точке знания, его высшей точке, которая разделяет
наше знание и наше невежество и переводит одно в другое. Только так и решаются писать.
Восполнить незнание значит лишь отложить письмо на завтра или, вернее, сделать его не-
возможным. Может быть, для письма это более опасная связь, чем та, которую оно будто бы
поддерживает со смертью, с молчанием. Итак, о науке, к сожалению, говорилось, мы это
чувствуем, явно не научным образом.
Приходит время, когда писать философские книги так, как это делалось издавна, будет
невозможно: «О, старый стиль...». Поиск новых средств философского выражения был начат
Ницше и должен быть сегодня продолжен в связи с обновлением некоторых других искусств,
например, театра и кино. По этому поводу мы уже сейчас можем поднять вопрос о применении
истории философии. История философии, как нам представляется, должна играть роль, во многом
аналогичную роли коллажа в живописи. История философии является воспроизведением самой
философии. Следует, чтобы изложение истории философии действовало как подлинный двойник и
включало присущее двойнику максимальное изменение. (Можно представить философски бо-
родатого Гегеля, философски безволосого Маркса на том же основании, что и усатую Джоконду.)
В реальной книге надлежит так рассказать о философии прошлого, как будто это книга —
воображаемая и мнимая. Известно, что Борхесу великолепно удаются пересказы воображаемых
книг. Но он идет еще дальше, рассматривая реальную книгу, например «Дон Кихота», как
воображаемую, воспроизведенную воображаемым автором, Пьером Менаром, рассматриваемым в
свою очередь в качестве реального. Таким образом, корреляция самого верного и точного
повторения — максимум различия (текст Сервантеса и текст Менара словесно идентичны, однако
'второй бесконечно более богат...). Изложения истории философии должны представлять собой
некое замедление, застывание и остановку текста: не только текста, с которым они соотносятся, но
также текста, в который они включаются. Так что у них двойное существование, в идеальном
двойнике — чистое повторение старого и современного текста, одного в другом. Вот почему мы

должны были иногда включать в наш текст исторические заметки ради приближения к этому
двойному существованию.
(Делёз Ж. Различие и повторение. С. 9—12)
756
Из книги Бодрий- Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) — известный француз-яра«Система ский философ,
социолог и культуролог, один из видней-вещей» ших представителей постмодернизма. В центре
его исследований находятся культура повседневной жизни, мир вещей и общества потребления.
На пути к социологии расстановки?
Сегодня жилище ценится не за его удобство и уют, а за его информативность, насыщенность
изобретениями, контролируемость, постоянную открытость для сообщений, вносимых вещами;
ценность сместилась в сторону синтагматической исчислимости, которая, собственно, и лежит в основе
современного «жилищного» дискурса.
Действительно, изменилась вся концепция домашнего убранства. В ней более нет места
традиционному вкусу, создававшему красоту через незримое согласие вещей. То был своего рода
поэтический дискурс, где фигурировали замкнутые в себе и перекликавшиеся между собой предметы;
сегодня предметы уже не перекликаются, а сообщаются между собой; утратив обособленность своего
присутствия, они в лучшем случае обладают связностью в рамках целого, в основе которой — их
упрощенность как элементов кода и исчислимость их отношений. Через их неограниченную
комбинаторику человек и осуществляет свой структурирующий дискурс.
Такой новый тип обстановки повсеместно утверждается рекламой: «Оборудуйте себе удобную и
рациональную квартиру на площади 30 метров!», «Умножьте свою квартиру на четыре!» Вообще,
интерьер и обстановка трактуются рекламой в понятиях «задачи» и «решения». Именно в этом, а не во
«вкусе», заключается ныне умение обставить свой дом — не в создании с помощью вещей театральной
мизансцены или особой атмосферы, а в решении некоторой задачи, в нахождении наиболее
остроумного ответа в сложно переплетенных условиях, в мобилизации пространства.
На уровне серийных вещей возможности такого функционального дискурса ограниченны. Вещи и
предметы обстановки представляют собой рассеянные элементы, для которых не найдено правил
синтаксиса: если их ра'сстановка и обладает исчислимостью, то это исчислимость от нехватки, и вещи
предстают здесь скудными в своей абстрактности. Однако такая абстракция необходима: именно
благодаря ей на уровне модели элементы функциональной игры получают однородность. Человек
прежде всего должен перестать вмешиваться в жизнь вещей, вчитывать в них свой образ, — и тогда, по
ту сторону их практического применения, он сумеет спроецировать в них свою игру, свой расчет, свой
дискурс, а эту игру осмыслить как некое послание другим и себе самому. На такой стадии вещи,
образующие «среду», совершенно меняют свой способ существования, и на смену социологии, мебели,
приходит социология расстановки.
757
Об этой эволюции свидетельствует реклама — как ее образы, так и дискурс. В дискурсе субъект
непосредственно фигурирует как актер и манипулятор, в индикативе или императиве; напротив, в
образах его присутствие опускается — действительно, в известном смысле оно было бы
анахроничным. Субъект есть порядок, который он вносит в вещи, и в этом порядке не должно быть
ничего лишнего, так что человеку остается лишь исчезнуть с рекламной картинки. Его роль играют
окружающие его вещи. В доме он создает не убранство, а пространство, и если традиционная
обстановка нормально включала в себя фигуру хозяина, которая яснее всего и коннотировалась всей
обстановкой, то в «функциональном» пространстве для этой подписи владельца уже нет места.
Человек расстановки
Нам ясно теперь, какой новый тип обитателя дома выдвигается в качестве модели^ «человек
расстановки» — это уже не собственник и даже не просто пользователь жилища, но активный
устроитель его среды. Пространство дано ему как распределительная структура, и через контроль над
пространством он держит в своих руках все варианты взаимоотношений между вещами, а тем самым и
все множество их возможных ролей. (Он, следовательно, и сам должен быть «функционален»,
однороден своему пространству, — только тогда он может отправлять и принимать сообщения от
своей обстановки.) Для него самое важное уже не владение и не пользование вещами, но
ответственность — в том точном смысле, что он постоянно заботится о возможности давать и получать
«ответы». Вся его деятельность экстериоризирована. Обитатель современного дома не «потребляет»
свои вещи. (Здесь опять-таки нет места «вкусу» — двусмысленному слову, подразумевающему
замкнутые по форме и «съедобные» по субстанции предметы, предназначенные для внутреннего
усвоения.) Он доминирует над ними, контролирует и упорядочивает их. Он обретает себя в
манипулировании системой, поддерживая ее в тактическом равновесии.
Разумеется, в такой модели «функционального» домашнего жильца есть доля абстракции. Реклама
пытается убедить нас, что современный человек, по сути, больше уже не нуждается в вещах, а лишь

оперирует ими как опытный специалист по коммуникациям. Однако домашняя обстановка есть одно из
проявлений переживания жизни, а потому большой абстракцией является приписывать ей модели
исчисления и информации, заимствованные из области чистой техники. К тому же такая чисто
объективная игра сопровождается целым рядом двусмысленных выражений: «на ваш вкус», «по вашей
мерке», «персо-нализация», «эта обстановка станет вашей» и т.д., — которые по видимости
противоречат ей, а фактически составляют ее алиби. Предлагаемая человеку расстановки игра с
вещами всякий раз получает свое место в двойной игре рекламы. Вместе с тем в самой логике этой
игры
758
содержится прообраз некой общей стратегии человеческих отношений, некоторого человеческого
проекта, модуса вивенди новой технической эры — подлинного переворота во всей цивилизации,
отдельные проявления которого прослеживаются даже в повседневном быту.
В традиционном быту вещь переживалась и вплоть до наших дней изображалась во всем западном
искусстве как скромный, пассивный фигурант, раб и наперсник человеческой души, отражая в
себе целост
:
ный порядок, связанный с некоторой вполне определенной концепци
:
ей убранства и
перспективы, субстанции и формы. Согласно этой концепции форма предмета есть абсолютный
рубеж между внутренним и внешним. Это неподвижный сосуд, внутри которого — субстанция.
Таким образом, все вещи, и в частности предметы обстановки, помимо своих практических
функций имеют еще и первичную воображаемую функцию «чаши»
1
. Этому соответствует их
способность вбирать в себя душевный опыт человека. Тем самым они отражают в себе целое ми-
ровоззрение, где каждый человек понимается как «сосуд душевной жизни», а отношения между
людьми — как соотношения, трансцендентные их субстанциям; сам дом становится
символическим эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальней-
шем обобщается в идеальной схеме его включения в структуры общества. Все вместе дает
целостный образ жизни, чей глубинный строй — строй Природы, первозданной субстанции,
откуда и вытекает всякая ценность. Создавая или изготавливая вещи, придавая им некоторую
форму, которая есть культура, человек преобразует субстанции природы; первозданная схема
творчества зиждется на возникновении одних субстанций из других — от века к веку, от формы к
форме; это творчество ab utero
2
, со всей сопровождающей его поэтико-метафоричес-кой
символикой
3
. Итак, поскольку смысл и ценность возникают из процесса взаимонаследования
субстанций под общей властью формы, то мир переживается как дар (по закону бессознательного
и детской психики), который должно раскрыть и увековечить. Тем самым форма, ограничивающая
собой предмет, все же сохраняет в себе частицу природы, присущую человеческому телу; то есть
всякая вещь в глубине своей антропоморфна. При этом человека связывает с окружающими его
вещами такая же (при всех оговорках) органическая связь, что и с органами его собственного тела,
и в «собственности» на вещи всегда
1
Однако в этой символической структуре, судя по всему, действует как бы закон размера: любой, даже
фаллический по своему назначению предмет (автомобиль, ракета), превысив некоторый максимальный размер,
оказывается вместилищем, сосудом, маткой, а до некоторого минимального размера относится к разряду
предметов-пенисов (даже если это сосуд или статуэтка).
2
Из материнской утробы (лат.).
3
Его эквивалентом всегда было и интеллектуально-художественное производство, традиционно мыслившееся под
знаком дара, вдохновения, гения.
759
виртуально присутствует тенденция вбирать в себя их субстанцию через поедание и «усвоение».
В современных же интерьерах намечается конец такого природного строя; через разрыв формы,
через разрушение формальной перегородки между внутренним и внешним и всей связанной с нею
сложной диалектики сути и видимости возникает некоторое новое качество ответственного
отношения к вещам. Жизненный проект технического общества состоит в том, чтобы поставить
под вопрос самую идею Генезиса, отменить любое происхождение вещей, любые изначально
данные смыслы и «сущности», еще и по сей день конкретно символизируемые мебелью наших
предков; в том, чтобы сделать вещи практически исчислимыми и концептуализированными на
основе их полной абстрактности, чтобы мыслить мир не как дар, а как изделие, как нечто домини-
руемое, манипулируемое, описываемое и контролируемое, одним словом приобретенное
1
.
Этот современный строй вещей, принципиально отличаясь от традиционного строя вещей
порожденных, также, однако, связан с некоторым фундаментальным символическим строем. Если
прежняя цивилизация, основанная на природном строе субстанций, соотносима со структурами
оральной сексуальности, то в современном строе производства и функциональности следует
видеть строй фаллический, основанный на попытках преодолеть и преобразовать данность,

прорваться сквозь нее к объективным структурам, — но также и фекальный строй, который
основан на поисках квинтэссенции, призванной оформить однородный материал, на исчислимости
и расчлененности материи, на сложной анальной агрессивности, сублимируемой в игре, дискурсе,
упорядочении, классификации и дистрибуции.
Даже тогда, когда организация вещей предстает в техническом проекте сугубо объективной, она
все равно образует мощный пласт, в котором спроецированы и зарегистрированы бессознательные
импульсы. Лучшим подтверждением этого может служить нередко проступающая сквозь
организационный проект (то есть в нашем случае сквозь волю к расстановке) обсессия:
необходимо, чтобы все сообщалось между собой, чтобы все было функционально — никаких
секретов, никаких тайн, все организовано, а значит все ясно. Это уже не традиционная навязчивая
идея домашнего хозяйства — чтобы все вещи были на своем месте и в доме всюду было чисто. Та
страсть носила моральный, со-
1
Впрочем, такая модель человеческой деятельности с ясностью проступает лишь в сфере высокой технологии или
же наиболее сложных бытовых предметов — магнитофонов, автомашин, бытовой техники, где отношения
господства и распределения наглядно выражаются в циферблатах, приборных досках, пультах управления и т.д. В
остальном же повседневный быт все еще в значительной степени регулируется традиционным типом практики.
760
временная же — функциональный характер. Она получает объяснение, если соотнести ее с функцией
испражнения, для которой требуется абсолютная проводимость внутренних органов. Возможно,
именно здесь глубинная основа характерологии технической цивилизации: если ипохондрия
представляет собой обсессиональную заботу об обращении субстанций в организме и о
функциональности его первичных органов, то современного кибернетического человека можно было
бы охарактеризовать как умственного ипохондрика, рдержимого идеей абсолютной проводимости
сообщений.
Лучшее из домашних животных
Комнатные животные образуют промежуточную категорию между людьми и вещами. Собаки, кошки,
птицы, черепахи или канарейки своим трогательным присутствием означают, что человек потерпел
неудачу в отношениях с людьми и укрылся в нарциссическом домашнем мирке, где его субъективность
может осуществляться в полном спокой-ствии. Отметим попутно, что эти животные лишены пола
(нередко специально кастрированы для жизни в доме), — подобно вещам, они бесполые, хотя и живые,
именно такой ценой они могут стать аффективно успокоительными; лишь ценой собственной
кастрации, реальной или символической, они способны играть для своего владельца регулятивную
роль в отношении страха кастрации — ту роль, которая в высшей степени присуща и всем
окружающим нас вещам. Ибо вещь — это безупречное домашнее животное. Это единственное
«существо», чьи достоинства возвышают, а не ограничивают мою личность. В своей множественности
вещи образуют единственный разряд существующих объектов, которые действительно могут
сосуществовать друг с другом, не ополчаясь друг на друга своими взаимными различиями, как живые
существа, а сходясь покорно к средостению моей личности и без труда слагаясь вместе в моем
сознании. Вещь лучше, чем что-либо другое, поддается «персонализации», а вместе с тем и
количественному пересчету; и эта субъективная бухгалтерия не знает исключений, в ней все может
стать предметом обладания и психической нагрузки или же, при коллекционерстве, предметом
расстановки, классификации, распределения. Таким образом, вещь в буквальном смысле превращается
в зеркало: отражаемые в нем образы могут лишь сменять друг друга, не вступая в противоречие.
Причем это безупречное зеркало, так как отражается в нем не реальный, а желанны!, образ. Одним
словом, собака, от которой осталась одна лишь верность. Я могу смотреть на нее,.а она на меня не
смотрит. Вот почему вещи получают всю ту нагрузку, что не удалось поместить в отношения с
людьми. Вот почему, человек столь охотно идет на регрессию, «отрешаясь» от мира в своих вещах. Не
будем, однако, обманываться этой отрешенностью, породившей целую сентиментальную литературу о
неодушевленных предметах. Эта отре-
761
шенность есть регрессия, эта страсть есть страсть к бегству. Конечно, вещи играют регулятивную роль
в повседневной жизни, они разряжают немало неврозов, поглощают немало напряжении и энергии
траура; именно это придает им «душу», именно это делает их «своими», но это же и превращает их в
декорацию живучей мифологии — идеальную декорацию невротического равновесия.
(БодрийярЖ. Система вещей. С. 20-24, 75-76)
Религия и церковь
В XX в. по мере развития современной цивилизации в странах Европы и Северной Америки продолжался
процесс секуляризации общества. В настоящее время многие люди в этих странах — атеисты, а большое
число верующих являются таковыми скорее «по привычке», часто даже не веря в догматы христианства
(например, в рай и ад). Тем не менее религия и церковь играют еще заметную роль в жизни общества во

многих странах. В слаборазвитых странах (например, в мусульманском мире, в Латинской Америке и т.д.)
религии по-прежнему принадлежит доминирующая роль в культуре.
К важнейшим событиям религиозной жизни XX в. можно отнести следующие.
Во-первых, в начале века по инициативе протестантских церквей возникло экуменическое движение за
объединение всех христианских церквей. Во второй половине XX в. в борьбе за мир, социальный прогресс и
гуманизм начали объединяться религиозные деятели различных церквей и вероучений (христиане,
мусульмане, буддисты и т.д.).
Во-вторых, произошли значительные изменения в вероучении католической церкви — крупнейшей на
сегодняшний день религиозной организации. Особенно это проявилось в деятельности Второго
Ватиканского собора (1962— 1965), на котором были приняты решения о реформе литургии (теперь службу
разрешается вести на национальных языках, а не латыни), об экуменизме, о задачах церкви в современном
мире и т.д.
В-третьих, в ряде районов мира продолжался процесс появления и развития синкретических религий: чаще
всего это стихийно возникающий синтез насаждаемого европейскими колонизаторами христианства и
местных верований (например, афро-бразильские кандомбле и умбанда — см. с. 764). Тенденция к синтезу
всех религий мира в единую нашла своих защитников и во многих религиозных и мистических учениях XX
в. — от теософии Е.П. Бла-ватской до Унифицированной церкви Муна.
И, в-четвертых, интереснейшей особенностью культуры высокоразвитых стран XX в. является расцвет (с
середины 1960-х гг.) так называемых «нетрадиционных» или «молодежных» религий. Их бурный рост
связан прежде всего с молодежными движениями последней трети XX в., содержанием которых были
«сексуальная» и «психоделическая» («наркотическая») революции, борьба против войны во Вьетнаме (в
США), борьба с конформизмом буржуазного мира и т.п. В рамках этих нетрадиционных религий можно
выделить
762
ряд направлений: различные типы неохристианства (например, движение «Иисус-революция»),
неоориентализма (восточные культы, «пересаженные» на западную почву, скажем, «кришнаизм»),
возрожденные первобытные формы верований (например, шаманизм
1
), синкретические культы (скажем,
Унифицированная церковь Муна) и др. Особое место среди них занимают сциен-' тология — секта, учение
которой имеет псевдонаучное содержание, а также различные колдовские и сатанинские культы и секты.
Последние довольно часто — по форме или содержанию — оказываются связаны с различными
молодежными музыкальными группами.
Католическая Способствовать восстановлению единства между церковь всеми
христианами — одна из главных задач Свя-
об экуменизме щенного Вселенского Второго Ватиканского Собора Ибо Христом Господом была
основана одна и единая Церковь, хотя многие христианские Общины представляют себя
истинным наследием Иисуса Христа; все они исповедуют себя учениками Господа, но
воспринимают это по-разному и идут различными путями, словно Христос Сам разделился.
Очевидно, такое разделение явно противоречит воле Христа, является соблазном для мира и вре-
дит самому святому делу — проповеди Евангелия всей твари.
Но Владыка веков, который мудро и долготерпеливо преследует замысел Своей благодати по
отношению к нам грешникам, начал в наши дни обильнее вливать на разъединенных между собой
христиан дух покаяния и желание единства. Везде в большом числе есть люди, вдохновленные
этой благодатью; также и среди разъединенных с нами братьев, по действию споспешествующей
благодати Духа Святого, возникло движение, все более и более расширяющееся и стремящееся к
восстановлению единства всех христиан.
В этом движении к единству, называемом экуменическим, участвуют призывающие Триединого
Бога и исповедующие Иисуса как Господа и Спасителя, не только отдельные лица, но и
объединенные в Общины, в которых они услышали Евангелие и которые они называют Церковью
своей и Божией. При этом почти все, хотя и по-разному, стремятся к единой и видимой Церкви
Божией, которая была бы подлинно вселенской, посланной ко всему миру, чтобы мир обратился к
Евангелию и таким образом спасся во славу Божию.
Итак, с радостью принимая во внимание все это, возвестив уже учение о Церкви, сей Священный
Собор, проникнутый желанием восстановить единство между всеми учениками Христовыми,
намерен предложить всем католикам средства, пути и способы, которыми они могли бы
отозваться на этот Божий призыв и эту благодать.
(Постановление об экуменизме. С. 121—122)
1
Особую роль в распространении этих верований сыграли книги К. Кастене- ды о доне Хуане.
763
Афро-бразильские К настоящему времени в Бразилии возник целый ряд религии
синкретических верований, представляющих собой уни-
кальное слияние христианства (католицизма), африканских верований (черных рабов, завезенных из
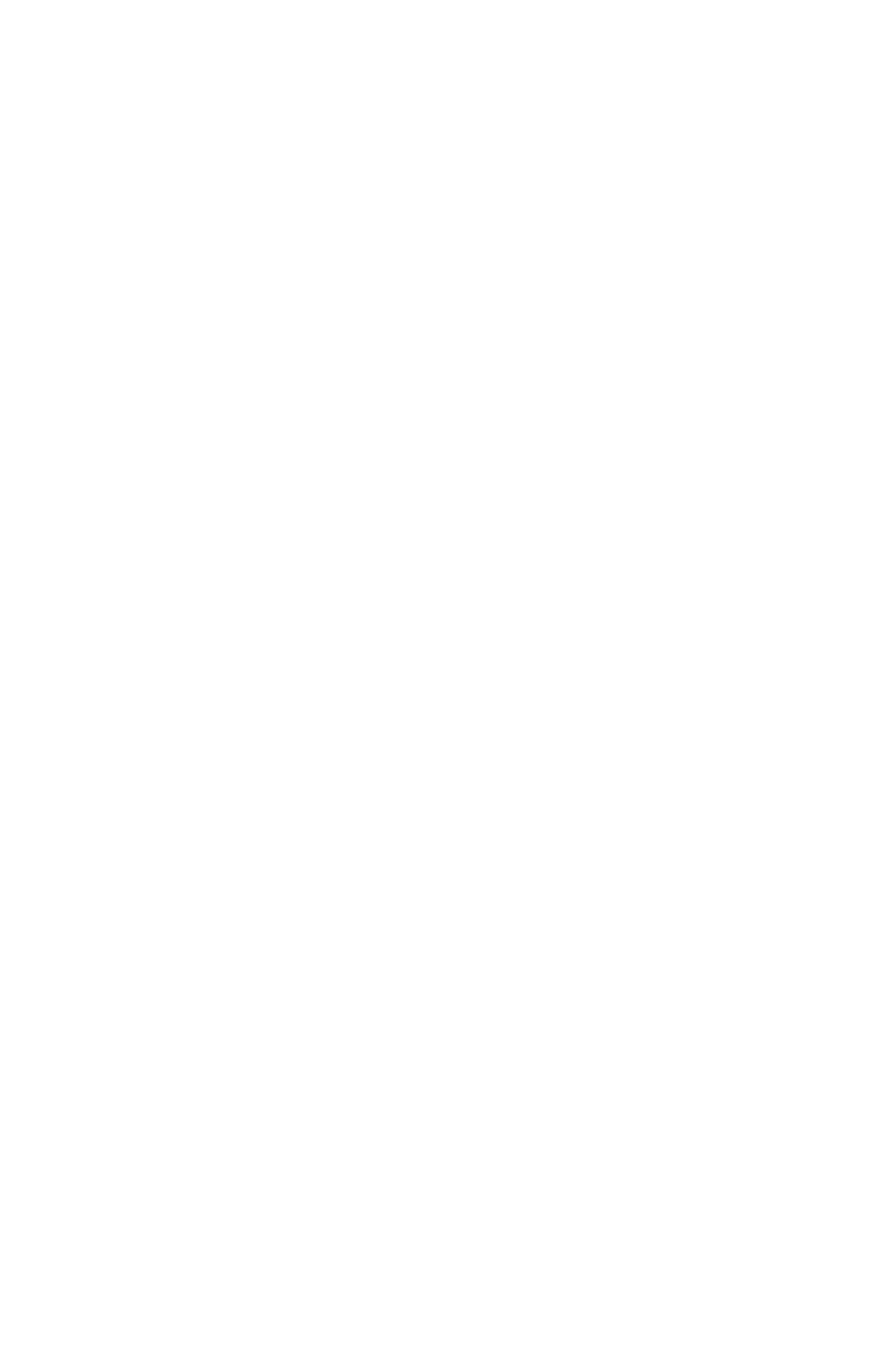
Африки) и первобытных верований индейцев — коренного населения страны. Кроме того, на эти верования
оказал большое влияние еще и спиритизм.
Жаркий вечер в Рио-де-Жанейро. Пятница. По широкой Авенида Атлантика, пролегающей вдоль
пляжа Копакабана, сплошным потоком движутся автомобили. Не обращая внимания на
проносящиеся мимо машины, хорошо одетая молодая женщина опускается на колени прямо
посреди дороги, на разделительной полосе, чтобы совершить молитву перед двумя свечами, семью
красными розами, сигаретой и открытой бутылкой крепкого напитка. Все эти предметы она
старательно расставляет и раскладывает на специальной салфетке. Неподвижно постояв некоторое
время на коленях, женщина поднимается на ноги и уходит, не оглядываясь.
На соседнем кладбище, в мерцающем свете поставленных в круг свечей, силуэт с мордой шакала
припадает к земле перед тесным кольцом собравшихся вокруг могилы людей, посылая им в лица
клубы дыма.
В покосившейся хижине на другом конце города живописно одетые танцоры раскачиваются на
размеченном мелом полу под равномерный бой барабана.
Во вместительной гостиной роскошной квартиры в фешенебельном районе Барра-да-Тихука
группа людей собирается в круг. Держась за руки, они начинают монотонно произносить по
слогам слова на незнакомом языке, в то время как один из них опускается на колени, полностью
сосредоточив внимание на стакане воды и старательно раскладывая вокруг него лепестки розы.
Подобные сцены можно наблюдать в Бразилии каждую ночь. Все это — проявления народных
магических традиций. Хотя государственной религией в этой стране является католицизм,
бразильцы (в отличие от своих испаноязычных соседей) очень веротерпимы. Они не имеют ничего
против иудеев и протестантов. Кроме того, в Бразилии много приверженцев местных афро-
американских религий, таких как умбанда, кимбанда, макумба, катимбо и кандомбле.
Верования этих религий проникли во все слои бразильского общества. Без них немыслима
бразильская культура. По оценкам государственных и церковных организаций, в Бразилии
существует около 300 000 «центров» (сентру), или «храмов» (террейру), где регулярно
совершаются магические ритуалы. Но эти данные следует считать заниженными, потому что
местонахождение многих храмов известно лишь узкому кругу посвященных. По-видимому, те, кто
принимают активное участие в ритуальной магии, составляют примерно одну треть
сташестидесятимиллионного населения Бразилии.
(Дау К.Л. Афро-бразильская магия. С. 15—16)
764
Самым знаменитым бразильским культом является умбанда. Его характерная черта — вера в возможность
общения с духами и богами (оришами), которые могут вселяться в особых людей-посредников, т.е.
медиумов. Большинство умбандистов верит в существование единого Бога-Творца Олоруна. Но считается,
закончив творение мира, Олоруна удалился на небо, перепоручив все дела младшим богам — ориша. Ориша
воплощают различные природные и социальные силы, а ряд из них слился в представлениях верующих с
католическими святыми.
Ошала — это больше, чем просто ориша. Он канонизирован как отец всех ориша и Повелитель
Планеты Земля. Подобно Омулу и Ошума-ре, он имеет два облика и, кроме того, в нем может
проявляться еще одно загадочное свойство.
В облике молодого бога Ошагуйи, благородного воина, он, куда бы ни шел, держит в руках пилау
(пестик). Его второй облик — согнувшийся старик Ошалуфа, опирающийся на палку, которой он
ударяет трижды о землю всякий раз, когда человек умирает, определяя этим дальнейшую судьбу
его души.
Хотя Ошала и синкретизируется с образом Иисуса Христа, он олицетворяет некоторые понятия,
совершенно непохожие на христианское спасение. Он — конец пути, начало смерти. Вот почему
он и его почитатели всегда одеты в белое — цвет скорби. Однако конец жизни в афро-бразильских
учениях не столь страшен, как в некоторых других религиях мира. Поскольку смерть неразрывно
связана с жизнью (ею неизбежно завершается жизнь), одно понятие не может существовать без
другого. Поэтому смерть, которую предлагает Ошала, — это просто последний отдых, то есть
покой. Покой же в свою очередь представляет положительное равновесие Вселенной,
окончательное слияние человека с природой;
Как воплощение святости, Ошала председательствует на церемониях очищения и торжественно
открывает сезон народных празднеств. Его приверженцы ежедневно меняют воду у его алтаря,
заменяя ее самой чистой жидкостью, какую им удается найти.
Загадочное свойство Ошала состоит в том, что, несмотря на то что он считается Отцом Богов и
женат на Нане, одет он как женщина.

(Дау К.Л. Афро-бразильская магия. С. 55—56)
Иисус-революция Многие западные ученые мужи утверждают, что наркомания, получившая
распространение среди известной части молодежи развитых капиталистических стран, часто
приводит молодых людей к «новым» культам. Одни становятся их приверженцами, пытаясь таким
образом излечиться от этого порока, других толкает к религии сам характер «психоделических»
галлюцинаций, третьи, начав потреблять идущие с Востока наркотики, затем заинте-
765
ресовываются и «восточными» культами, которые переживают ныне своеобразное «второе
рождение» в США и Западной Европе.
Несомненно, что так называемое психоделическое ощущение является одним из компонентов
«нового» мистического мировосприятия, культивируемого в рамках контркультуры. Зачастую его
рассматривают как неотъемлемый признак религиозности. Поэтому у идеологов контркультуры
критика объективного научного познания нередко дополняется призывами к «психоделическому
расширению сферы сознания» с помощью наркотических средств.
Своим происхождением слово «психоделизм» обязано основоположнику «религии ЛСД»
американскому психологу Тимоти Лири. Но еще в начале XX в. один из родоначальников
прагматизма, В. Джемс (1842— 1910), указал на единый психологический механизм классических
религиозно-мистических переживаний и «озарений», с одной стороны, и искусственных
наркотико-экстатических состояний — с другой...
«Религия ЛСД» получила особое распространение в связи с движением хиппи, этих главных
носителей идей контркультуры» которых одно время называли третьей, наряду с протестантами и
католиками, американской религиозной силой...
Сам основатель «религии ЛСД» Т. Лири в одной из своих работ писал, что «религия — это экстаз,
это свобода и гармония», и так охарактеризовал религиозно-мистическое значение наркотиков:
«ЛСД — это западная йога. Цель восточных религий, как и цель ЛСД, — высшая благодать, то
есть расширение границ сознания и достижение экстаза и удовлетворения»...
Одним из проявлений контркультуры следует считать и «движение Иисуса» (или «Иисус-
революцию»), возникшее в США в конце 60-х годов в молодежных кругах, пресыщенных
наркотиками и прочими допингами «свободного мира»...
Репортер французского журнала «Пари матч» так описывал свою встречу с обращенными в новую
веру американцами.
В Сан-Франциско на Сансет-бульваре можно встретить очень странных людей. Перед Китайским
театром меня останавливает какой-то очкастый хиппиобразный субъект. Лицо его искажено
гримасой неистовой ярости, но он восклицает:
— Любовь!
— Мир, — отвечаю я, чтобы отделаться.
— Нет, — рычит он, — любовь!
— Любовь, любовь... — разозлившись, ворчу я.
— О'кей! Мир, человек, любовь!
Таковы его последние слова, и мы расходимся, полные недоверия, в разные стороны.
Не успеваю пройти и десяти шагов, как меня обгоняют парень и девица в длинном платье. Эти
явно робеют.
766
— Спасли ли вы свою душу? — спрашивают они меня.
— Да, все в порядке.
— Вы познали Иисуса?
— Ну конечно. Я же христианин.
— Мы не верим, что вы обрели спасение. Придите к Иисусу, пока не поздно, — строго советует
девица. Они суют мне в ладонь какую-то записку. Это адрес...
Из окон дома рвется фанатическое пение, сопровождаемое поп-музыкой. Триста хиппи теснятся в
маленьком зале, воздев руки к небу и устремив взоры на изображение Христа, красующееся на
кафедре. В оркестре поп-музыки — пятнадцать электрических гитар, две флейты, гармоника и
тамбурин. На тамбурине играют мужчина и женщина с просветленными лицами: Сьюзи и Тони
Аламо, основатели «движения Иисуса»...
Новое движение, захлестнувшее всю страну, докатилось до Нью-Йорка. Его размах превзошел все
ожидания. В нем — и некий «бунтарский» аспект: его легко заметить в плакатах, продающихся по
50 цен-тов. На одном из них лозунг «Отдайте Вашингтону Вашингтоново, а Христу — Христово!»
и увеличенное изображение доллара. Есть и такой плакат: на фоне американского флага — сжатый

кулак с устремленным в небо указательным пальцем, подпись: «Вся власть Иисусу!»
«Движение Иисуса» начиналось так. Тони и Сьюзи Аламо, бывшие артисты мюзик-холла,
помогали неимущим юношам и девушкам, а также наркоманам. У них возникла мысль, что
мистический экстаз молитвы, усиленный и «дисциплинированный» ритмичной музыкой, может
заменить наркотики. «Воспарите с Христом!» — призывали молодежь супруги Аламо.
«Восп'арять» — значит впадать в экстаз, утрачивать ощущение собственного «я», без наркотиков
переживать состояния своеобразного транса, «опьяняться любовью к Христу». Это обеспечит
«спасение». Появился знаменитый плакат: «Иисус был хиппи». Вскоре чета Аламо приобрела
часовню и разработала литургию «новой религии». Все, что могло служить их целям, они
заимствовали где только можно: у негров — музыку и ритмы, у протестантов — публичное пока-
яние и совместные трапезы. Небольшими группами они спускались в подвал — оттуда не так
слышен шум — и стонали, вопили, оплакивая муки Христа. Они поклонялись Иисусу, который
стал их героем и идолом. Вскоре у «новой церкви» было уже 300 тыс. прихожан. Сотнями
принимали они крещение на побережье Атлантического океана. Об-ряд исполняли священники их
же возраста, похожие на них. У «новой церкви» есть свои группы поп-музыки, фирма пластинок
«Иезус-pe-корд» и печатный орган «Голливуд фри пресс».
«Движение Иисуса», весьма противоречивое по своей направленности, в основном функционировало
как своего рода «пересадочная станция на пути к респектабельности», через которую многие молодые
767
люди, «выбившиеся из колеи» (дропауты), отфильтровывались обратно к нормальной семейной
жизни, продолжению образования и регулярной работе.
Успех «движения Иисуса» у определенных слоев американской молодежи был оценен по
достоинству правящими кругами. Средства массовой информации не скупились на его рекламу. В
известной степени этому успеху способствовали рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»,
фильмы на ту же тему, радио- и телепередачи. Поклонение Иисусу становилось своего рода
модой. Его изображения красовались на рубашках, кофтах, сумках. Буржуазные религиоведы
стали с удовлетворением отмечать, что наконец-то американская молодежь вместо демонстраций
в защиту гражданских прав устраивает религиозные шествия во славу Иисуса.
Вскоре «новая мода» перекинулась из США в Европу. Буржуазная печать восприняла ее с явным
удовлетворением, отмечая, что речь идет о весьма доходном для многих крупных компаний
бизнесе...
В общем, мода на Христа оказалась великолепнейшим бизнесом. И первыми это обнаружили,
естественно, американцы.
(Григулевич И.Р. Пророки «иовой истины». С. 61—65)
Кришнаизм Кришнаизм — одна из сект, возникших в средневековой
Индии (в XV—XVI вв.) в рамках индуизма, а точнее, такого его направления, как вишнуизм (о
возникновении данной секты см. с. 380—382). В XVII—XX вв. кришнаизм широко распространился в
Индии, а в последней трети XX в., благодаря активной пропагандистской деятельности его представителей,
и по всему «высокоцивилизованному миру» — в основном, среди молодежи.
В 1965 г. в одном из скверов Нью-Йорка можно было часто видеть сидящего на скамейке
бритоголового старика в оранжевой хламиде, который под звуки индийского музыкального
инструмента громко повторял: «Харе Кришна!» — «Привет тебе, Кришна!» Вокруг него собирались
зеваки и всякого рода бродяги, которые с увлечением вторили ему. Так в США впервые узнали о
существовании учения Кришны и его проповеднике А. К. Бхактивендате Свами Прабхупаде. Год
спустя движение «Харе Кришна» (теперь оно более известно под таким названием) уже имело свои
филиалы в 22 американских городах. 90% его участников — это молодые люди не старше 25 лет, в
основном выходцы из семей среднего достатка. Негры и чиканос составляют в движении «Харе
Кришна» незначительное меньшинство. Живут последователи этого движения общинами по 12 или 24
человека.
Основоположником учения движения «Харе Кришна» считается бенгальский брамин Шайтания
Махаправху (родился в 1486 г.).
Основу этого учения составляет вера в бога Кришну и проповедь беззаветного служения ему для
установления с ним «прочного любое-
768
ного союза». К этой конечной цели можно прийти лишь путем достижения «сознания Кришны»
(отсюда другое название движения — «Международное общество сознания Кришны»). «Сознание
Кришны» достигается с помощью аскетического образа жизни и бесконечного (вплоть до
вхождения в экстаз) повторения молитв (мантр). Оно характеризуется восприятием окружающего
мира и собственного тела как иллюзии, отрицанием деятельности, направленной на

удовлетворение чувств и желаний, нигилистским отношением к достижениям цивилизации.
Шайтания Махаправху первым стал славить Кришну, танцуя и распевая в честь его гимны на
улицах и площадях городов. Нынешний глава секты — Прабхупада (настоящее имя — Абхай
Ширан Де) родился в 1896 г., изучал английский язык, философию и экономию в Калькуттском
университете, потом служил в одной химической фирме. С 1954 г. целиком посвятил себя
служению Кришне. Прабхупада много путешествует по свету (был и в Советском Союзе),
проповедуя свое учение. В частности, он утверждает, что, применяя различные приемы йоги,
может заставить душу дойти до выхода (шакра) в черепе, позволить человеку перенестись на
любую выбранную им планету.
Движение «Харе Кришна» имеет своих сторонников во Франции, ФРГ, Канаде, Италии и других
странах Запада
1
. Как правило, последователи этого культа порывают со своими семьями,
отказываются от сложившихся привычек и образа жизни, бросают школу или работу, поселяются
в ашрамах (своего рода монастырях), бреют головы, мужчины одеваются в шафрановые туники,
женщины — в сари, мало спят, соблюдают умеренность в еде, занимаются изучением ведийских
текстов, поют гимны на бенгальском языке и санскрите в честь Кришны, часами выкрикивают в
его честь славословия, попрошайничают на улицах. И так изо дня в день. Постепенно такой образ
жизни отупляет людей, превращает их в автоматы, в послушное орудие руководителей секты,
которые часто занимаются темными делами.
Нередко против кришнаистов выдвигаются обвинения в контрабанде, распространении
наркотиков, других противозаконных действиях. В декабре 1974 г. полиция произвела обыски в
ашрамах секты в ФРГ. При этом были обнаружены оружие и большие суммы денег. В июне 1979
г. во Франции проходил процесс над руководителями французского филиала «Международного
общества сознания Кришны», в котором насчитывалось от 500 до 700 членов. В феврале 1981 г.
деятельность секты во Франции была запрещена.
Несомненно, самый большой успех имело движение «Харе Кришна» в США, где обосновался его
верховный руководитель Свами Праб-1 хупада и находится штаб-квартира «Международного
общества сознания Кришны». Там же издается главный орган секты «Back to Godhead»
1 В настоящее время — и в России (Прим. сост.).
769
(«Назад к божественности»), который выходит якобы миллионным тиражом. Из 80 храмов «Харе
Кришна» половина находится в США. В секте много бывших наркоманов. Они осуждают
употребление наркотиков и «бесполезные удовольствия» — кино, телевидение.
(Григулевич И.Р. Пророки «навой истины». С. 112—115)
Массовое общество и массовая культура
Важнейшая черта культуры высокоразвитых стран XX в. — возникновение «массового общества» и
«массовой культуры». Некоторые предпосылки для них сформировались еще в XIX — начале XX в., но
становление их в значительной степени связано с развитием средств массовой информации и приходится в
основном на вторую половину XX в. В рамках массовой культуры и в некотором смысле как ее
противоположность возникают молодежные субкультуры.
Массовый человек. Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955 гг.) — крупнейший Из книги Ортега-и-
испанский философ XX в. По своим воззрениям был Гассета «Восста- близок к философии жизни и к
экзистенциализму. Он ние масс»- был одним из основоположников теории «массового об-
щества» и в своей работе «Восстание масс» (1930) сумел впервые выявить и проанализировать особенности
психологии современного человека высокоразвитых стран — «человека массы». Его идеи и выводы во
многом сохраняют актуальность и сейчас.
Введение в анатомию массового человека
Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и
неполитической? Почему он таков, каков есть, иначе говоря, он получился таким?
Оба вопроса требуют совместного ответа, потому и взаимно проясняют друг друга. Человек,
который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал
девятнадцатый век, но именно девятнадцатым веком он рожден и вскормлен...
Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век?
Прежде всего и во всех отношениях — материально доступной. Никогда еще рядовой человек не
утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и
ужесточалась жизнь рабочих, экономические перспективы среднего слоя становились день ото дня
все шире. Каждый день вносил лепту в его жизненный standard (стандарт). С каждым днем росло
чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало
смиренную признательность судьбе, ста-
770
