Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

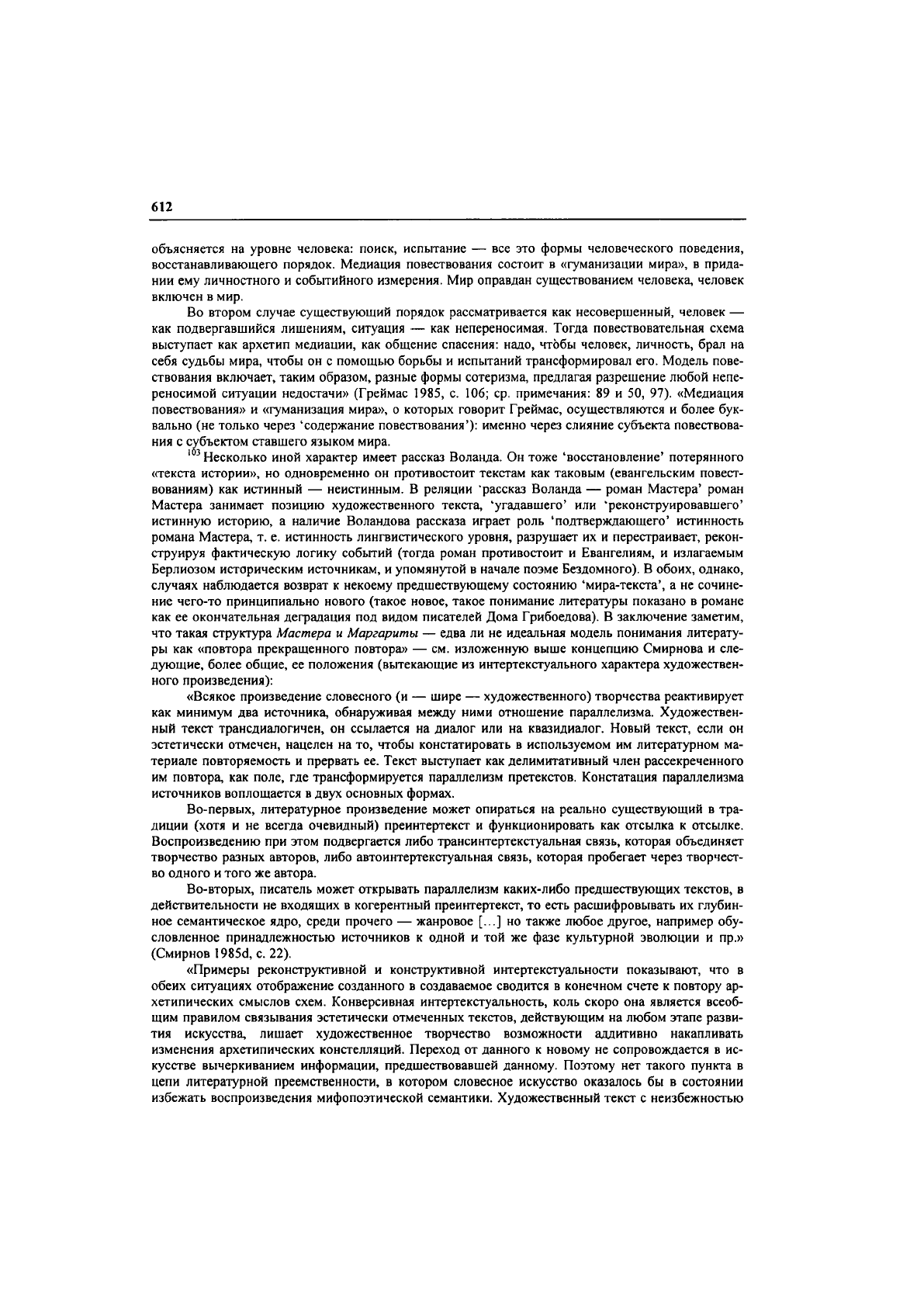
612
объясняется на уровне человека: поиск, испытание — все это формы человеческого поведения,
восстанавливающего порядок. Медиация повествования состоит в «гуманизации мира», в прида-
нии ему личностного и событийного измерения. Мир оправдан существованием человека, человек
включен в мир.
Во втором случае существующий порядок рассматривается как несовершенный, человек —
как подвергавшийся лишениям, ситуация — как непереносимая. Тогда повествовательная схема
выступает как архетип медиации, как общение спасения: надо, чтобы человек, личность, брал на
себя судьбы мира, чтобы он с помощью борьбы и испытаний трансформировал его. Модель пове-
ствования включает, таким образом, разные формы сотеризма, предлагая разрешение любой непе-
реносимой ситуации недостачи» (Греймас 1985, с. 106; ср. примечания: 89 и 50, 97). «Медиация
повествования» и «гуманизация мира», о которых говорит Греймас, осуществляются и более бук-
вально (не только через 'содержание повествования'): именно через слияние субъекта повествова-
ния с субъектом ставшего языком мира.
103
Несколько иной характер имеет рассказ Воланда. Он тоже 'восстановление' потерянного
«текста истории», но одновременно он противостоит текстам как таковым (евангельским повест-
вованиям) как истинный — неистинным. В реляции 'рассказ Воланда — роман Мастера' роман
Мастера занимает позицию художественного текста, 'угадавшего' или 'реконструировавшего'
истинную историю, а наличие Воландова рассказа играет роль 'подтверждающего' истинность
романа Мастера, т. е. истинность лингвистического уровня, разрушает их и перестраивает, рекон-
струируя фактическую логику событий (тогда роман противостоит и Евангелиям, и излагаемым
Берлиозом историческим источникам, и упомянутой в начале поэме Бездомного). В обоих, однако,
случаях наблюдается возврат к некоему предшествующему состоянию 'мира-текста', а не сочине-
ние чего-то принципиально нового (такое новое, такое понимание литературы показано в романе
как ее окончательная деградация под видом писателей Дома Грибоедова). В заключение заметим,
что такая структура Мастера и Маргариты — едва ли не идеальная модель понимания литерату-
ры как «повтора прекращенного повтора» — см. изложенную выше концепцию Смирнова и сле-
дующие, более общие, ее положения (вытекающие из интертекстуального характера художествен-
ного произведения):
«Всякое произведение словесного (и — шире — художественного) творчества реактивирует
как минимум два источника, обнаруживая между ними отношение параллелизма. Художествен-
ный текст трансдиалогичен, он ссылается на диалог или на квазидиалог. Новый текст, если он
эстетически отмечен, нацелен на то, чтобы констатировать в используемом им литературном ма-
териале повторяемость и прервать ее. Текст выступает как делимитативный член рассекреченного
им повтора, как поле, где трансформируется параллелизм претекстов. Констатация параллелизма
источников воплощается в двух основных формах.
Во-первых, литературное произведение может опираться на реально существующий в тра-
диции (хотя и не всегда очевидный) преинтертекст и функционировать как отсылка к отсылке.
Воспроизведению при этом подвергается либо трансинтертекстуальная связь, которая объединяет
творчество разных авторов, либо автоинтертекстуальная связь, которая пробегает через творчест-
во одного и того же автора.
Во-вторых, писатель может открывать параллелизм каких-либо предшествующих текстов, в
действительности не входящих в когерентный преинтертекст, то есть расшифровывать их глубин-
ное семантическое ядро, среди прочего — жанровое [...] но также любое другое, например обу-
словленное принадлежностью источников к одной и той же фазе культурной эволюции и пр.»
(Смирнов 1985d, с. 22).
«Примеры реконструктивной и конструктивной интертекстуальности показывают, что в
обеих ситуациях отображение созданного в создаваемое сводится в конечном счете к повтору ар-
хетипических смыслов схем. Конверсивная интертекстуальность, коль скоро она является всеоб-
щим правилом связывания эстетически отмеченных текстов, действующим на любом этапе разви-
тия искусства, лишает художественное творчество возможности аддитивно накапливать
изменения архетипических констелляций. Переход от данного к новому не сопровождается в ис-
кусстве вычеркиванием информации, предшествовавшей данному. Поэтому нет такого пункта в
цепи литературной преемственности, в котором словесное искусство оказалось бы в состоянии
избежать воспроизведения мифопоэтической семантики. Художественный текст с неизбежностью
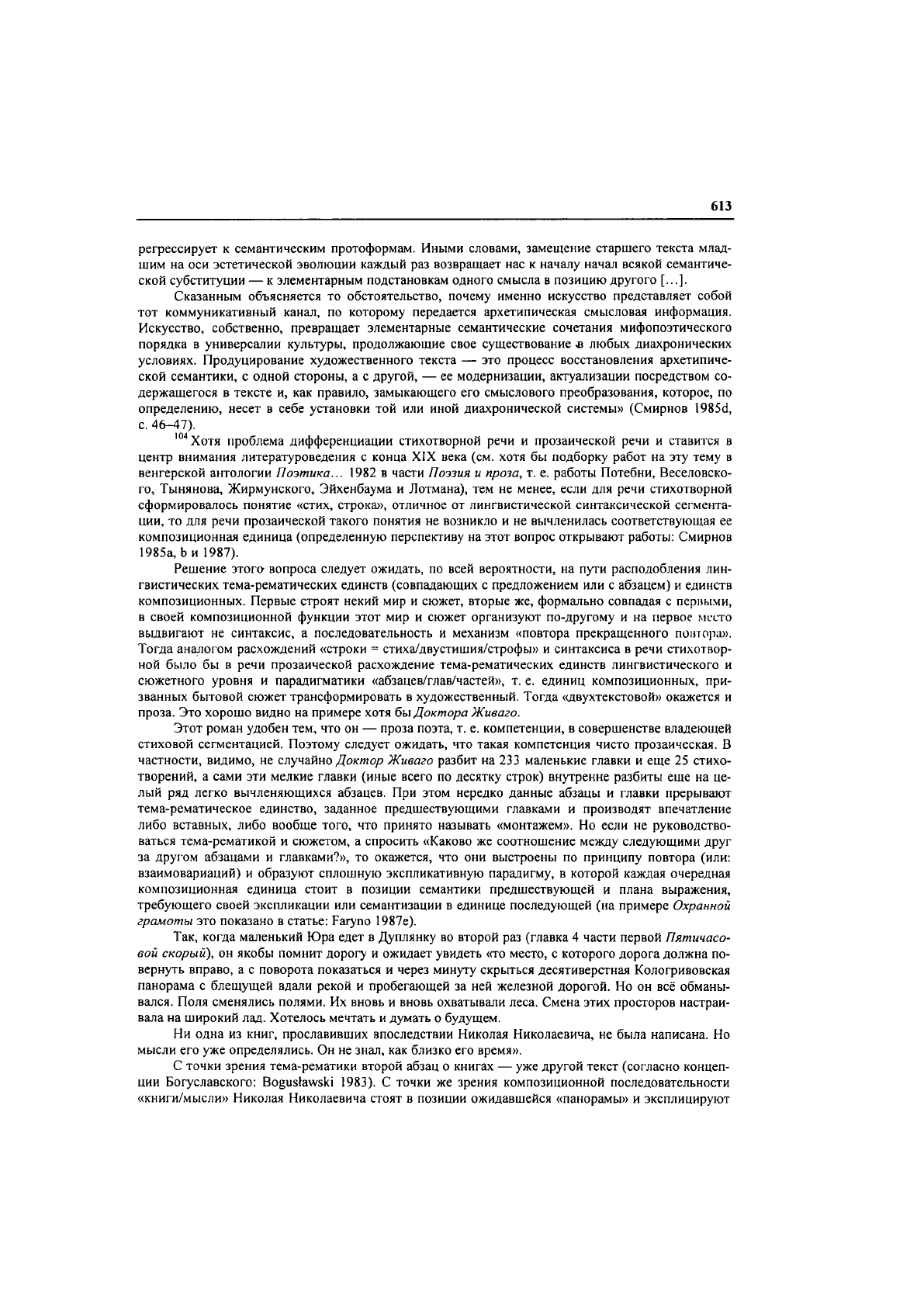
613
регрессирует к семантическим протоформам. Иными словами, замещение старшего текста млад-
шим на оси эстетической эволюции каждый раз возвращает нас к началу начал всякой семантиче-
ской субституции — к элементарным подстановкам одного смысла в позицию другого [...].
Сказанным объясняется то обстоятельство, почему именно искусство представляет собой
тот коммуникативный канал, по которому передается архетипическая смысловая информация.
Искусство, собственно, превращает элементарные семантические сочетания мифопоэтического
порядка в универсалии культуры, продолжающие свое существование л любых диахронических
условиях. Продуцирование художественного текста — это процесс восстановления архетипиче-
ской семантики, с одной стороны, а с другой, — ее модернизации, актуализации посредством со-
держащегося в тексте и, как правило, замыкающего его смыслового преобразования, которое, по
определению, несет в себе установки той или иной диахронической системы» (Смирнов 1985d,
с. 46-47).
104
Хотя проблема дифференциации стихотворной речи и прозаической речи и ставится в
центр внимания литературоведения с конца XIX века (см. хотя бы подборку работ на эту тему в
венгерской антологии Поэтика... 1982 в части Поэзия и проза, т. е. работы Потебни, Веселовско-
го, Тынянова, Жирмунского, Эйхенбаума и Лотмана), тем не менее, если для речи стихотворной
сформировалось понятие «стих, строка», отличное от лингвистической синтаксической сегмента-
ции, то для речи прозаической такого понятия не возникло и не вычленилась соответствующая ее
композиционная единица (определенную перспективу на этот вопрос открывают работы: Смирнов
1985а, b и 1987).
Решение этого вопроса следует ожидать, по всей вероятности, на пути расподобления лин-
гвистических тема-рематических единств (совпадающих с предложением или с абзацем) и единств
композиционных. Первые строят некий мир и сюжет, вторые же, формально совпадая с первыми,
в своей композиционной функции этот мир и сюжет организуют по-другому и на первое место
выдвигают не синтаксис, а последовательность и механизм «повтора прекращенного понтора».
Тогда аналогом расхождений «строки = стиха/двустишия/строфы» и синтаксиса в речи стихотвор-
ной было бы в речи прозаической расхождение тема-рематических единств лингвистического и
сюжетного уровня и парадигматики «абзацев/глав/частей», т. е. единиц композиционных, при-
званных бытовой сюжет трансформировать в художественный. Тогда «двухтекстовой» окажется и
проза. Это хорошо видно на примере хотя
бы
Доктора Живаго.
Этот роман удобен тем, что он — проза поэта, т. е. компетенции, в совершенстве владеющей
стиховой сегментацией. Поэтому следует ожидать, что такая компетенция чисто прозаическая. В
частности, видимо, не случайно Доктор Живаго разбит на 233 маленькие главки и еще 25 стихо-
творений, а сами эти мелкие главки (иные всего по десятку строк) внутренне разбиты еще на це-
лый ряд легко вычленяющихся абзацев. При этом нередко данные абзацы и главки прерывают
тема-рематическое единство, заданное предшествующими главками и производят впечатление
либо вставных, либо вообще того, что принято называть «монтажем». Но если не руководство-
ваться тема-рематикой и сюжетом, а спросить «Каково же соотношение между следующими друг
за другом абзацами и главками?», то окажется, что они выстроены по принципу повтора (или:
взаимовариаций) и образуют сплошную экспликативную парадигму, в которой каждая очередная
композиционная единица стоит в позиции семантики предшествующей и плана выражения,
требующего своей экспликации или семантизации в единице последующей (на примере Охранной
грамоты это показано в статье: Faryno 1987е).
Так, когда маленький Юра едет в Дуплянку во второй раз (главка 4 части первой Пятичасо-
вой скорый), он якобы помнит дорогу и ожидает увидеть «то место, с которого дорога должна по-
вернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская
панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он всё обманы-
вался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраи-
вала на широкий лад. Хотелось мечтать
и
думать о будущем.
Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была написана. Но
мысли его уже определялись. Он не знал, как близко его время».
С точки зрения тема-рематики второй абзац о книгах — уже другой текст (согласно концеп-
ции Богуславского: Bogusławski 1983). С точки же зрения композиционной последовательности
«книги/мысли» Николая Николаевича стоят в позиции ожидавшейся «панорамы» и эксплицируют
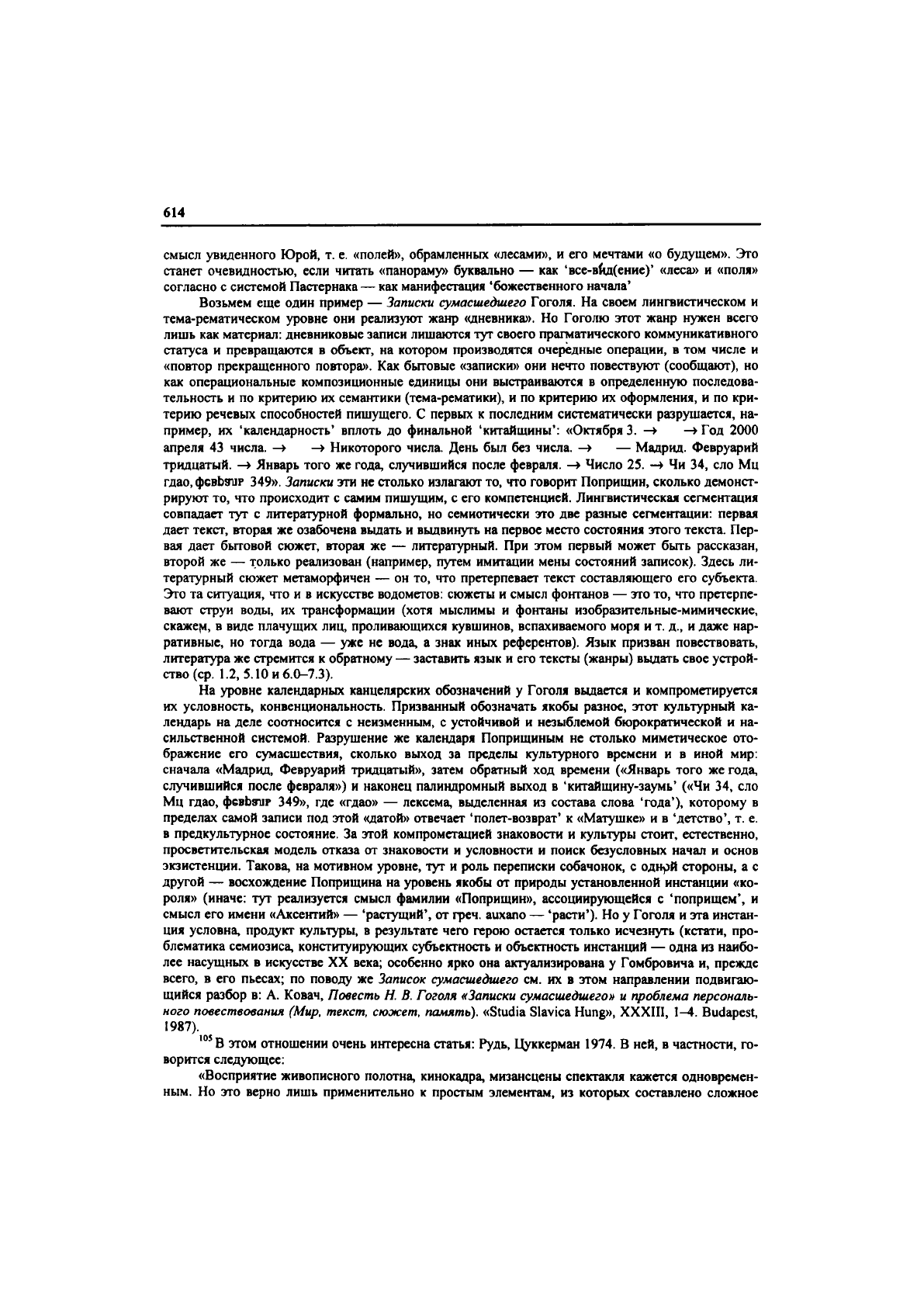
614
смысл увиденного Юрой, т. е. «полей», обрамленных «лесами», и его мечтами «о будущем». Это
станет очевидностью, если читать «панораму» буквально — как 'все-в(ід(ение)' «леса» и «поля»
согласно с системой Пастернака — как манифестация
ł
божественного начала'
Возьмем еще один пример — Записки сумасшедшего Гоголя. На своем лингвистическом и
тема-рематическом уровне они реализуют жанр «дневника». Но Гоголю этот жанр нужен всего
лишь как материал: дневниковые записи лишаются тут своего прагматического коммуникативного
статуса и превращаются в объект, на котором производятся очередные операции, в том числе и
«повтор прекращенного повтора». Как бытовые «записки» они нечто повествуют (сообщают), но
как операциональные композиционные единицы они выстраиваются в определенную последова-
тельность и по критерию их семантики (тема-рематики), и по критерию их оформления, и по кри-
терию речевых способностей пишущего. С первых к последним систематически разрушается, на-
пример, их 'календарность' вплоть до финальной 'китайщины': «Октября 3. -» Год 2000
апреля 43 числа. —> —> Никоторого числа. День был без числа. —> — Мадрид. Февруарий
тридцатый. -> Январь того же года, случившийся после февраля.
—•
Число 25. —> Чи 34, ело Мц
гдао, фсвЬэтіР 349». Записки эти не столько излагают то, что говорит Поприщин, сколько демонст-
рируют то, что происходит с самим пишущим, с его компетенцией. Лингвистическая сегментация
совпадает тут с литературной формально, но семиотически это две разные сегментации: первая
дает текст, вторая же озабочена выдать и выдвинуть на первое место состояния этого текста. Пер-
вая дает бытовой сюжет, вторая же — литературный. При этом первый может быть рассказан,
второй же — только реализован (например, путем имитации мены состояний записок). Здесь ли-
тературный сюжет метаморфичен — он то, что претерпевает текст составляющего его субъекта.
Это та ситуация, что и в искусстве водометов: сюжеты и смысл фонтанов — это то, что претерпе-
вают струи воды, их трансформации (хотя мыслимы и фонтаны изобразительные-мимические,
скаже^, в виде плачущих лиц, проливающихся кувшинов, вспахиваемого моря и т. д., и даже нар-
ративные, но тогда вода — уже не вода, а знак иных референтов). Язык призван повествовать,
литература же стремится к обратному — заставить язык и его тексты (жанры) выдать свое устрой-
ство (ср. 1.2, 5.10 и 6.0-7.3).
На уровне календарных канцелярских обозначений у Гоголя выдается и компрометируется
их условность, конвенциональность. Призванный обозначать якобы разное, этот культурный ка-
лендарь на деле соотносится с неизменным, с устойчивой и незыблемой бюрократической и на-
сильственной системой. Разрушение же календаря Поприщиным не столько миметическое ото-
бражение его сумасшествия, сколько выход за пределы культурного времени и в иной мир:
сначала «Мадрид, Февруарий тридцатый», затем обратный ход времени («Январь того же года,
случившийся после февраля») и наконец паливдромный выход в 'китайщину-заумь' («Чи 34, ело
Мц гдао, фсвЬэтір 349», где «гдао» — лексема, выделенная из состава слова 'года'), которому в
пределах самой записи под этой «датой» отвечает
ł
пoлeт-вoзвpaт
,
к «Матушке» и в 'детство', т. е.
в предкультурное состояние. За этой компрометацией знаковости и культуры стоит, естественно,
просветительская модель отказа от знаковости и условности и поиск безусловных начал и основ
экзистенции. Такова, на мотивном уровне, туг и роль переписки собачонок, с однрй стороны, а с
другой — восхождение Поприщина на уровень якобы от природы установленной инстанции «ко-
роля» (иначе: тут реализуется смысл фамилии «Поприщин», ассоциирующейся с 'поприщем', и
смысл его имени «Аксентий» — 'растущий', от греч. auxano — 'расти ). Но у Гоголя и эта инстан-
ция условна, продукт культуры, в результате чего герою остается только исчезнуть (кстати, про-
блематика семиозиса, конституирующих субъектность и объектность инстанций — одна из наибо-
лее насущных в искусстве XX века; особенно ярко она актуализирована у Гомбровича и, прежде
всего, в его пьесах; по поводу же Записок сумасшедшего см. их в этом направлении подвигаю-
щийся разбор в: А. Ковач, Повесть Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и проблема персональ-
ного повествования (Мир, текст, сюжет, память). «Studia Slavica Hung», XXXIII, 1-4. Budapest,
1987).
105
В этом отношении очень интересна статья: Рудь, Цуккерман 1974. В ней, в частности, го-
ворится следующее:
«Восприятие живописного полотна, кинокадра, мизансцены спектакля кажется одновремен-
ным. Но это верно лишь применительно к простым элементам, из которых составлено сложное
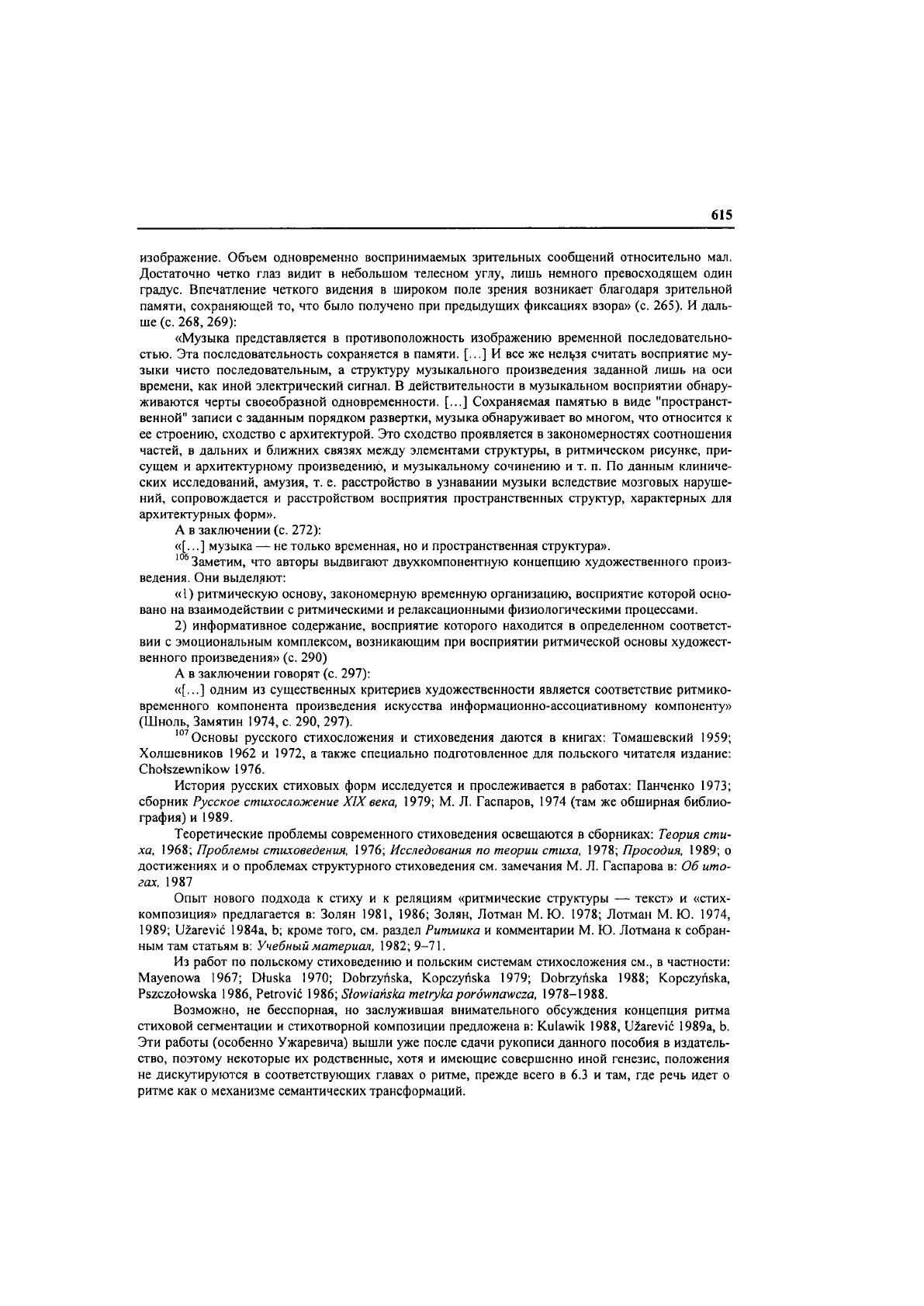
615
изображение. Объем одновременно воспринимаемых зрительных сообщений относительно мал.
Достаточно четко глаз видит в небольшом телесном углу, лишь немного превосходящем один
градус. Впечатление четкого видения в широком поле зрения возникает благодаря зрительной
памяти, сохраняющей то, что было получено при предыдущих фиксациях взора» (с. 265). И даль-
ше (с. 268, 269):
«Музыка представляется в противоположность изображению временной последовательно-
стью. Эта последовательность сохраняется в памяти. [...] И все же нельзя считать восприятие му-
зыки чисто последовательным, а структуру музыкального произведения заданной лишь на оси
времени, как иной электрический сигнал. В действительности в музыкальном восприятии обнару-
живаются черты своеобразной одновременности. [...] Сохраняемая памятью в виде "пространст-
венной" записи с заданным порядком развертки, музыка обнаруживает во многом, что относится к
ее строению, сходство с архитектурой. Это сходство проявляется в закономерностях соотношения
частей, в дальних и ближних связях между элементами структуры, в ритмическом рисунке, при-
сущем и архитектурному произведению, и музыкальному сочинению и т. п. По данным клиниче-
ских исследований, амузия, т. е. расстройство в узнавании музыки вследствие мозговых наруше-
ний, сопровождается и расстройством восприятия пространственных структур, характерных для
архитектурных форм».
А в заключении (с. 272):
«[...] музыка — не только временная, но и пространственная структура».
106
Заметим, что авторы выдвигают двухкомпонентную концепцию художественного произ-
ведения. Они выделяют:
«I) ритмическую основу, закономерную временную организацию, восприятие которой осно-
вано на взаимодействии с ритмическими и релаксационными физиологическими процессами.
2) информативное содержание, восприятие которого находится в определенном соответст-
вии с эмоциональным комплексом, возникающим при восприятии ритмической основы художест-
венного произведения» (с. 290)
А в заключении говорят (с. 297):
«[...] одним из существенных критериев художественности является соответствие ритмико-
временного компонента произведения искусства информационно-ассоциативному компоненту»
(Шноль, Замятин 1974, с. 290, 297).
107
Основы русского стихосложения и стиховедения даются в книгах: Томашевский 1959;
Холшевников 1962 и 1972, а также специально подготовленное для польского читателя издание:
Chołszewnikow 1976.
История русских стиховых форм исследуется и прослеживается в работах: Панченко 1973;
сборник Русское стихосложение XIX века, 1979; М. Л. Гаспаров, 1974 (там же обширная библио-
графия) и 1989.
Теоретические проблемы современного стиховедения освещаются в сборниках: Теория сти-
ха, 1968; Проблемы стиховедения, 1976; Исследования по теории стиха, 1978; Просодия, 1989; о
достижениях и о проблемах структурного стиховедения см. замечания М. Л. Гаспарова в: Об ито-
гах, 1987
Опыт нового подхода к стиху и к реляциям «ритмические структуры — текст» и «стих-
композиция» предлагается в: Золян 1981, 1986; Золян, Лотман М. Ю. 1978; Лотман М. Ю. 1974,
1989; Uzarevic 1984а, Ь; кроме того, см. раздел Ритмика и комментарии М. Ю. Лотмана к собран-
ным там статьям в: Учебный материал, 1982; 9-71.
Из работ по польскому стиховедению и польским системам стихосложения см., в частности:
Mayenowa 1967; Dłuska 1970; Dobrzyńska, Kopczyńska 1979; Dobrzyńska 1988; Kopczyńska,
Pszczołowska 1986, Petrovic 1986\ Słowiańska metryka porównawcza, 1978-1988.
Возможно, не бесспорная, но заслужившая внимательного обсуждения концепция ритма
стиховой сегментации и стихотворной композиции предложена в: Kulawik 1988, Uzarevic 1989а, b.
Эти работы (особенно Ужаревича) вышли уже после сдачи рукописи данного пособия в издатель-
ство, поэтому некоторые их родственные, хотя и имеющие совершенно иной генезис, положения
не дискутируются в соответствующих главах о ритме, прежде всего в 6.3 и там, где речь идет о
ритме как о механизме семантических трансформаций.
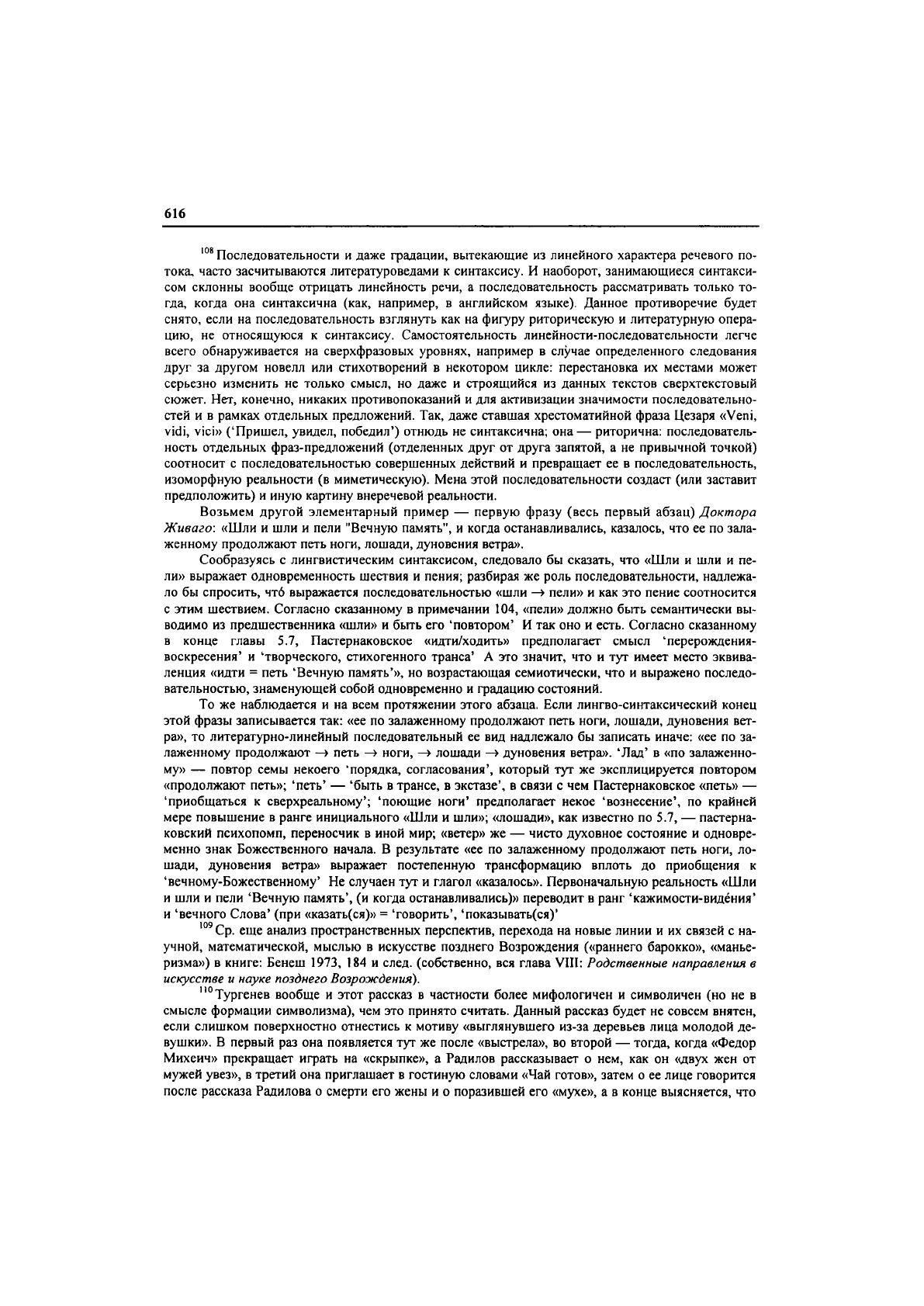
616
'^Последовательности и даже градации, вытекающие из линейного характера речевого по-
тока, часто засчитываются литературоведами к синтаксису. И наоборот, занимающиеся синтакси-
сом склонны вообще отрицать линейность речи, а последовательность рассматривать только то-
гда, когда она синтаксична (как, например, в английском языке). Данное противоречие будет
снято, если на последовательность взглянуть как на фигуру риторическую и литературную опера-
цию, не относящуюся к синтаксису. Самостоятельность линейности-последовательности легче
всего обнаруживается на сверхфразовых уровнях, например в случае определенного следования
друг за другом новелл или стихотворений в некотором цикле: перестановка их местами может
серьезно изменить не только смысл, но даже и строящийся из данных текстов сверхтекстовый
сюжет. Нет, конечно, никаких противопоказаний и для активизации значимости последовательно-
стей и в рамках отдельных предложений. Так, даже ставшая хрестоматийной фраза Цезаря «Ѵепі,
vidi, ѵісі» ('Пришел, увидел, победил') отнюдь не синтаксична; она — риторична: последователь-
ность отдельных фраз-предложений (отделенных друг от друга запятой, а не привычной точкой)
соотносит с последовательностью совершенных действий и превращает ее в последовательность,
изоморфную реальности (в миметическую). Мена этой последовательности создаст (или заставит
предположить) и иную картину внеречевой реальности.
Возьмем другой элементарный пример — первую фразу (весь первый абзац) Доктора
Живаго: «Шли и шли и пели "Вечную память", и когда останавливались, казалось, что ее по зала-
женному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра».
Сообразуясь с лингвистическим синтаксисом, следовало бы сказать, что «Шли и шли и пе-
ли» выражает одновременность шествия и пения; разбирая же роль последовательности, надлежа-
ло бы спросить, чт0 выражается последовательностью «шли
—>
пели» и как это пение соотносится
с этим шествием. Согласно сказанному в примечании 104, «пели» должно быть семантически вы-
водимо из предшественника «шли» и быть его 'повтором' И так оно и есть. Согласно сказанному
в конце главы 5.7, Пастернаковское «идти/ходить» предполагает смысл 'перерождения-
воскресения' и 'творческого, стихогенного транса' А это значит, что и тут имеет место эквива-
ленция «идти = петь 'Вечную память'», но возрастающая семиотически, что и выражено последо-
вательностью, знаменующей собой одновременно и градацию состояний.
То же наблюдается и на всем протяжении этого абзаца. Если лингво-синтаксический конец
этой фразы записывается так: «ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения вет-
ра», то литературно-линейный последовательный ее вид надлежало бы записать иначе: «ее по за-
лаженному продолжают
—»
петь
—»
ноги, —> лошади
—>
дуновения ветра». 'Лад' в «по залаженно-
му» — повтор семы некоего 'порядка, согласования', который тут же эксплицируется повтором
«продолжают петь»; 'петь' — 'быть в трансе, в экстазе', в связи с чем Пастернаковское «петь» —
'приобщаться к сверхреальному'; 'поющие ноги' предполагает некое 'вознесение', по крайней
мере повышение в ранге инициального «Шли и шли»; «лошади», как известно по 5.7, — пастерна-
ковский психопомп, переносчик в иной мир; «ветер» же — чисто духовное состояние и одновре-
менно знак Божественного начала. В результате «ее по залаженному продолжают петь ноги, ло-
шади, дуновения ветра» выражает постепенную трансформацию вплоть до приобщения к
'вечному-Божественному' Не случаен тут и глагол «казалось». Первоначальную реальность «Шли
и шли и пели 'Вечную память', (и когда останавливались)» переводит в ранг 'кажимости-видения'
и 'вечного Слова' (при «казать(ся)» = 'говорить', 'показывать(ся)'
109
Ср. еще анализ пространственных перспектив, перехода на новые линии и их связей с на-
учной, математической, мыслью в искусстве позднего Возрождения («раннего барокко», «манье-
ризма») в книге: Бенеш 1973, 184 и след. (собственно, вся глава VIII: Родственные направления в
искусстве и науке позднего Возрождения).
110
Тургенев вообще и этот рассказ в частности более мифологичен и символичен (но не в
смысле формации символизма), чем это принято считать. Данный рассказ будет не совсем внятен,
если слишком поверхностно отнестись к мотиву «выглянувшего из-за деревьев лица молодой де-
вушки». В первый раз она появляется тут же после «выстрела», во второй — тогда, когда «Федор
Михеич» прекращает играть на «скрыпке», а Радилов рассказывает о нем, как он «двух жен от
мужей увез», в третий она приглашает в гостиную словами «Чай готов», затем о ее лице говорится
после рассказа Радилова о смерти его жены и о поразившей его «мухе», а в конце выясняется, что
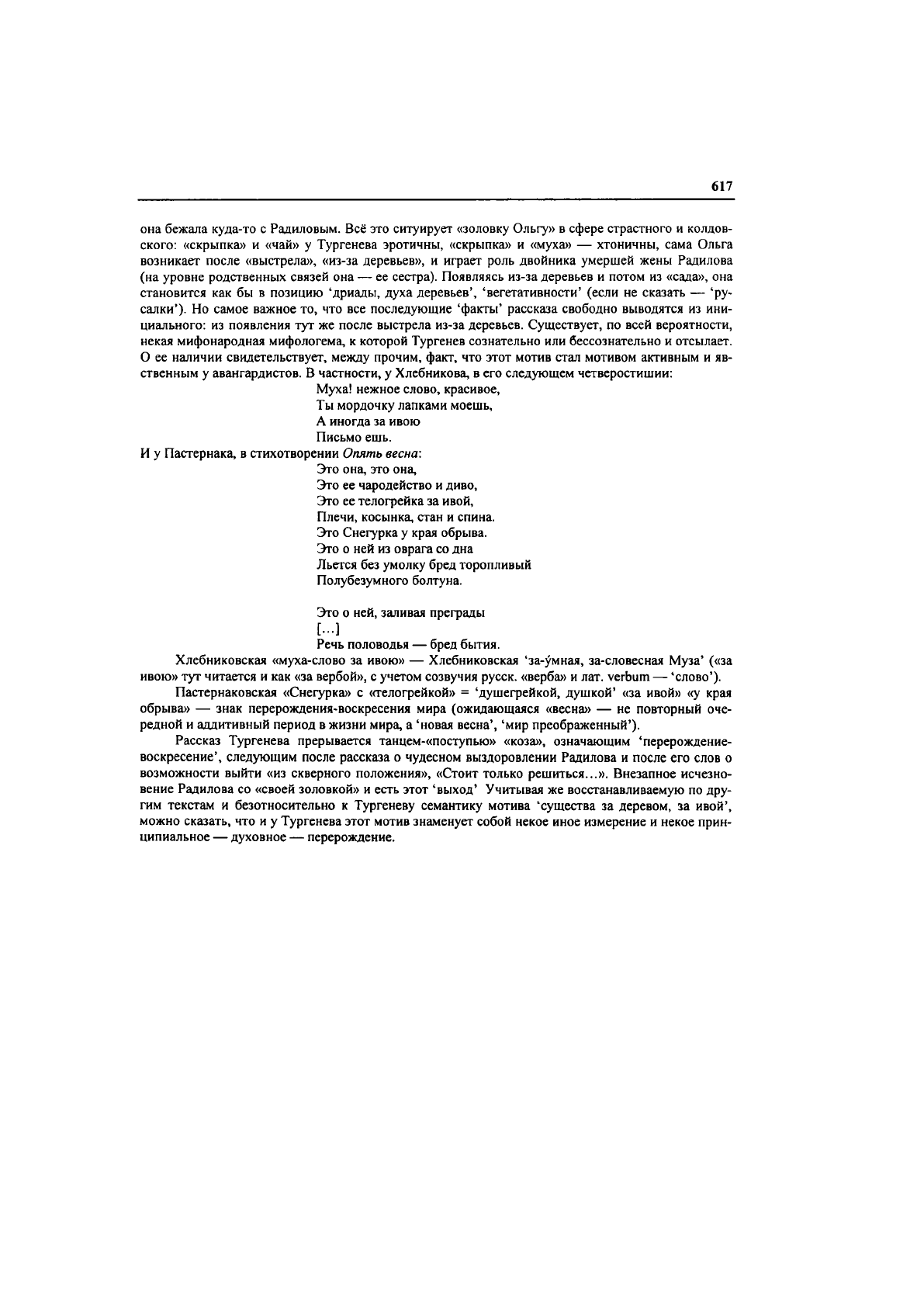
617
она бежала куда-то с Радиловым. Всё это ситуирует «золовку Ольгу» в сфере страстного и колдов-
ского: «скрыпка» и «чай» у Тургенева эротичны, «скрыпка» и «муха» — хтоничны, сама Ольга
возникает после «выстрела», «из-за деревьев», и играет роль двойника умершей жены Радилова
(на уровне родственных связей она — ее сестра). Появляясь из-за деревьев и потом из «сада», она
становится как бы в позицию 'дриады, духа деревьев', 'вегетативности' (если не сказать — 'ру-
салки'). Но самое важное то, что все последующие 'факты' рассказа свободно выводятся из ини-
циального: из появления тут же после выстрела из-за деревьев. Существует, по всей вероятности,
некая мифонародная мифологема, к которой Тургенев сознательно или бессознательно и отсылает.
О ее наличии свидетельствует, между прочим, факт, что этот мотив стал мотивом активным и яв-
ственным у авангардистов. В частности, у Хлебникова, в его следующем четверостишии:
Муха! нежное слово, красивое,
Ты мордочку лапками моешь,
А иногда за ивою
Письмо ешь.
И у Пастернака, в стихотворении Опять весна:
Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.
Это о ней, заливая преграды
[...]
Речь половодья — бред бытия.
Хлебниковская «муха-слово за ивою» — Хлебниковская 'за-умная, за-словесная Муза' («за
ивою» тут читается и как «за вербой», с учетом созвучия русск. «верба» и лат. verbum — 'слово').
Пастернаковская «Снегурка» с «телогрейкой» = 'душегрейкой, душкой' «за ивой» «у края
обрыва» — знак перерождения-воскресения мира (ожидающаяся «весна» — не повторный оче-
редной и аддитивный период в жизни мира, а 'новая весна', 'мир преображенный').
Рассказ Тургенева прерывается танцем-«поступью» «коза», означающим 'перерождение-
воскресение', следующим после рассказа о чудесном выздоровлении Радилова и после его слов о
возможности выйти «из скверного положения», «Стоит только решиться...». Внезапное исчезно-
вение Радилова со «своей золовкой» и есть этот 'выход' Учитывая же восстанавливаемую по дру-
гим текстам и безотносительно к Тургеневу семантику мотива 'существа за деревом, за ивой',
можно сказать, что и у Тургенева этот мотив знаменует собой некое иное измерение и некое прин-
ципиальное — духовное — перерождение.
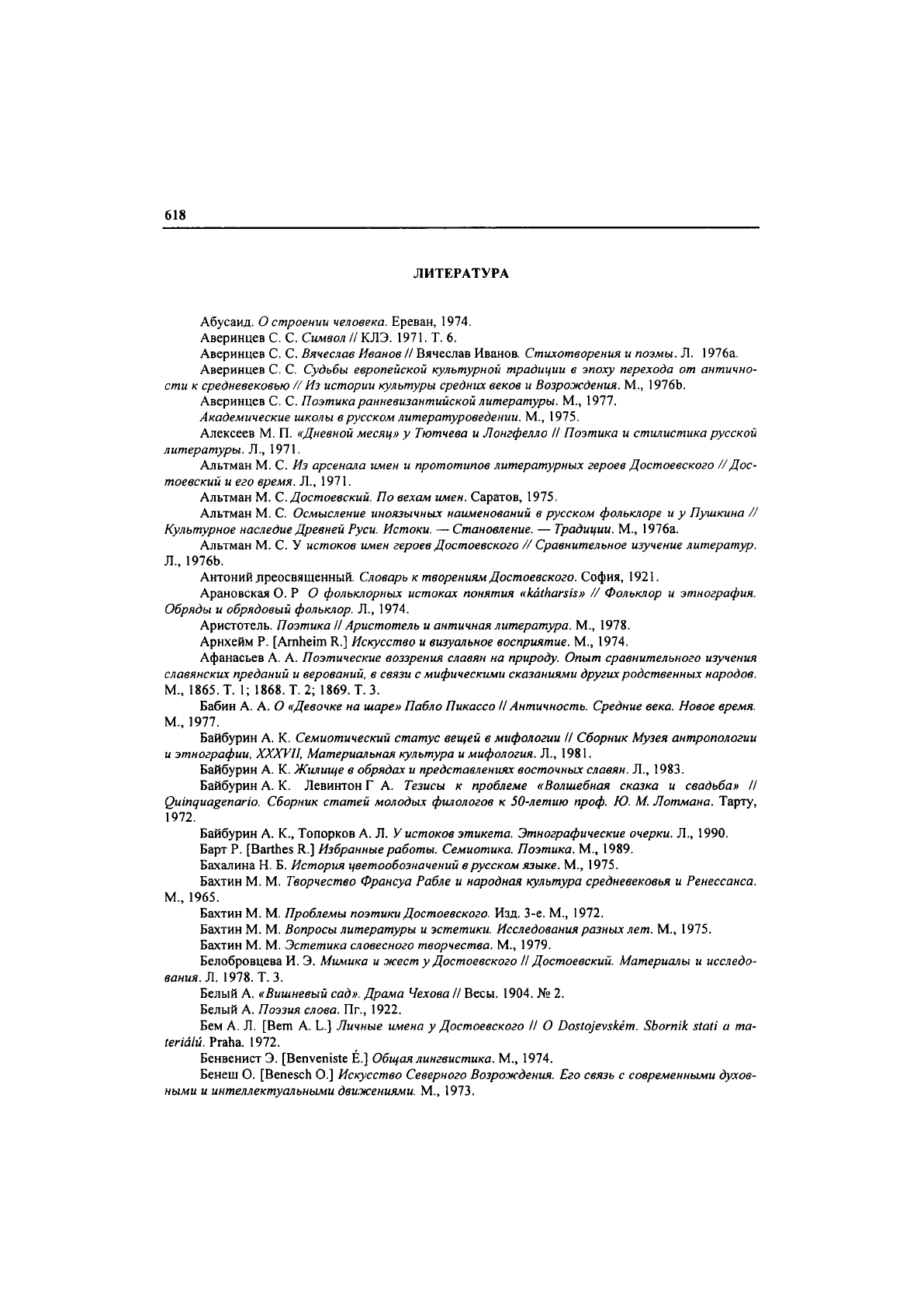
618
ЛИТЕРАТУРА
Абусаид. О строении человека. Ереван, 1974.
Аверинцев С. С. Символ // КЛЭ. 1971. Т. 6.
Аверинцев С. С. Вячеслав Иванов II Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Л. 1976а.
Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от антично-
сти к средневековью //Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976b.
Аверинцев С. С. Поэтикаранневизантийской литературы. М., 1977.
Академические школы в русском литературоведении. М., 1975.
Алексеев М. П. «Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло II Поэтика и стилистика русской
литературы. Я., 1971.
Альтман М. С. Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского //Дос-
тоевский и его время. Л., 1971.
Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975.
Альтман М. С. Осмысление иноязычных наименований в русском фольклоре и у Пушкина //
Культурное наследие Древней Руси. Истоки. — Становление. — Традиции. М., 1976а.
Альтман М. С. У истоков имен героев Достоевского // Сравнительное изучение литератур.
Л., 1976b.
Антоний .преосвященный. Словарь к творениям Достоевского. София, 1921.
Арановская О. Р О фольклорных истоках понятия «katharsis» // Фольклор и этнография.
Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974.
Аристотель. Поэтика
Н
Аристотель и античная литература. М., 1978.
Арнхейм P. [Arnheim R.] Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
Афанасьев А. А. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения
славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов.
М., 1865. Т. 1; 1868. Т. 2; 1869. Т.З.
Бабин А. А. О «Девочке на шаре» Пабло Пикассо II Античность. Средние века. Новое время.
М., 1977.
Байбурин А. К. Семиотический статус вещей в мифологии II Сборник Музея антропологии
и этнографии, XXXVII, Материальная культура и мифология. Л., 1981.
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.
Байбурин А. К. Левинтон Г А. Тезисы к проблеме «Волшебная сказка и свадьба» II
Quinquagenario. Сборник статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту,
1972.
Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л., 1990.
Барт P. [Barthes R.] Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Бахалина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.
М., 1965.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М, 1972.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Белобровцева И. Э. Мимика и жест у Достоевского
Н
Достоевский. Материалы и исследо-
вания. Л. 1978. Т.З.
Белый А. «Вишневый сад». Драма Чехова II Весы. 1904. № 2.
Белый А. Поэзия слова. Пг., 1922.
Бем А. Л. [Bem A. L.] Личные имена у Достоевского II О Dostojewskim. Sbornik stati a ma-
teriału. Praha. 1972.
Бенвенист Э. [Benveniste Ё.] Общая лингвистика. М., 1974.
Бенеш О. [Benesch О.] Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духов-
ными и интеллектуальными движениями. М., 1973.
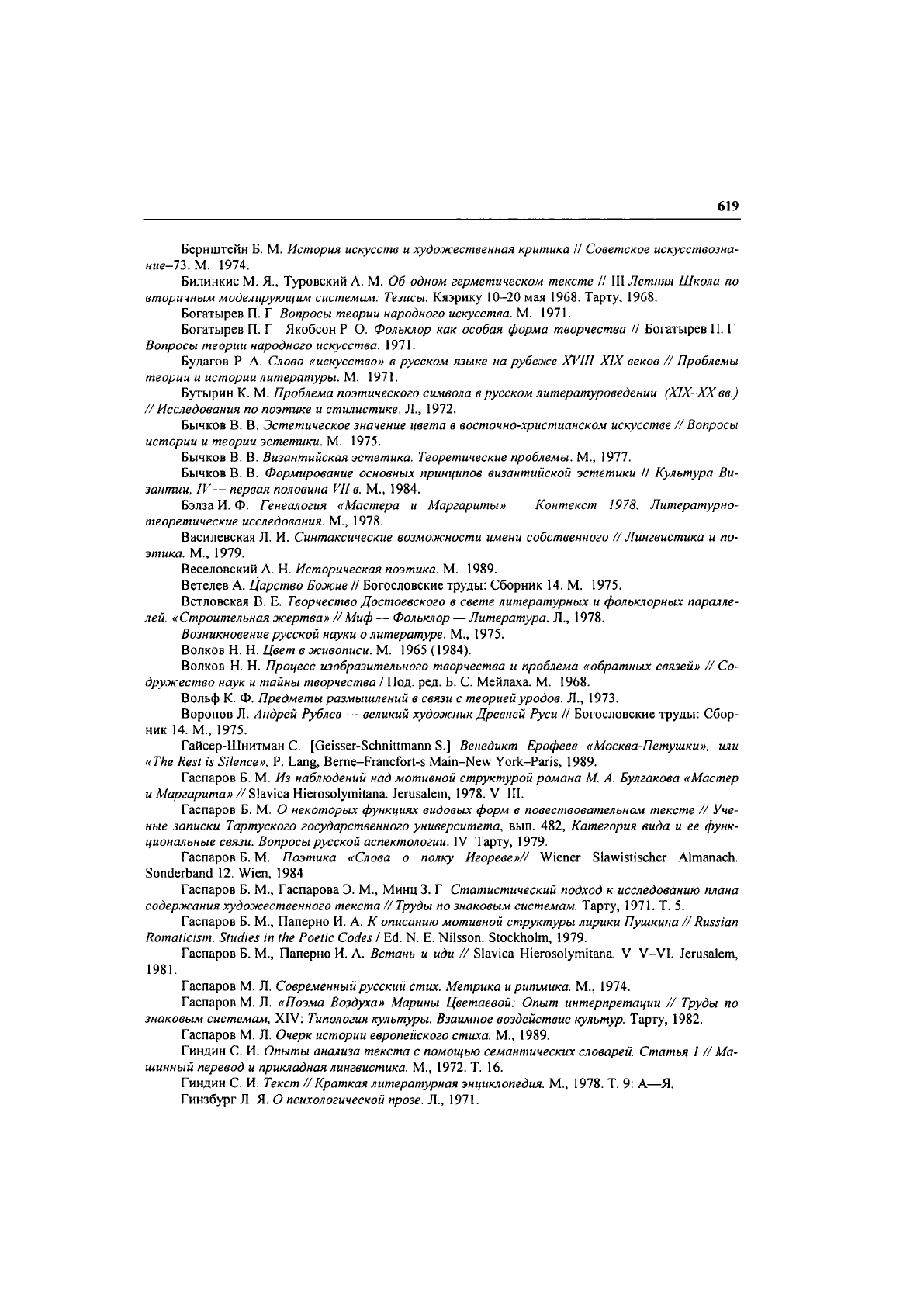
619
Бернштейн Б. М. История искусств и художественная критика II Советское искусствозна-
ние-!
Ъ.
М. 1974.
Билинкис М. Я., Туровский А. М. Об одном герметическом тексте // III Летняя Школа по
вторичным моделирующим системам: Тезисы. Кяэрику 10-20 мая 1968. Тарту, 1968.
Богатырев П. Г Вопросы теории народного искусства. М. 1971.
Богатырев П. Г Якобсон Р О. Фольклор как особая форма творчества II Богатырев П. Г
Вопросы теории народного искусства. 1971.
Будагов Р А. Слово «искусство» в русском языке на рубеже ХѴІІІ-ХІХ веков // Проблемы
теории и истории литературы. М. 1971.
Бутырин К. М. Проблема поэтического символа в русском литературоведении (ХІХ-ХХ вв.)
//Исследования по поэтике и стилистике. J7., 1972.
Бычков В. В. Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве //Вопросы
истории и теории эстетики. М. 1975.
Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.
Бычков В. В. Формирование основных принципов византийской эстетики II Культура Ви-
зантии, IV—первая половина VII в. М., 1984.
Бэлза И. Ф. Генеалогия «Мастера и Маргариты» Контекст 1978. Литературно-
теоретические исследования. М., 1978.
Василевская JI. И. Синтаксические возможности имени собственного // Лингвистика и по-
этика. М., 1979.
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М. 1989.
Ветелев А. Царство Божие // Богословские труды: Сборник 14. М. 1975.
Ветловская В. Е. Творчество Достоевского в свете литературных и фольклорных паралле-
лей. «Строительная жертва» //Миф — Фольклор — Литература. JI., 1978.
Возникновение русской науки о литературе. М., 1975.
Волков Н. Н. Цвет в живописи. М. 1965 (1984).
Волков Н. Н. Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей» // Со-
дружество наук и тайны творчества / Под. ред. Б. С. Мейлаха. М. 1968.
Вольф К. Ф. Предметы размышлений в связи с теорией уродов. JL, 1973.
Воронов JI. Андрей Рублев — великий художник Древней Руси // Богословские труды: Сбор-
ник 14. М., 1975.
Гайсер-Шнитман С. [Geisser-Schnittmann S.] Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки», или
«The Rest is Silence», P. Lang, Berne-Francfort-s Main-New York-Paris, 1989.
Гаспаров Б. M. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер
и Маргарита» // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1978. V III.
Гаспаров Б. М. О некоторых функциях видовых форм в повествовательном тексте // Уче-
ные записки Тартуского государственного университета, вып. 482, Категория вида и ее функ-
циональные связи. Вопросы русской аспектологии. IV Тарту, 1979.
Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве»// Wiener Slawistischer Almanach.
Sonderband 12. Wien, 1984
Гаспаров Б. M., Гаспарова Э. М., Минц 3. Г Статистический подход к исследованию плана
содержания художественного текста // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5.
Гаспаров Б. М., Паперно И. А. К описанию мотивной структуры лирики Пушкина // Russian
Romaticism. Studies in the Poetic Codes / Ed. N. E. Nilsson. Stockholm, 1979.
Гаспаров Б. M., Паперно И. А. Встань и иди // Slavica Hierosolymitana. V V-VI. Jerusalem,
1981.
Гаспаров M. Л. Современный русский стих. Метрика
и
ритмика. М., 1974.
Гаспаров М. Л. «Поэма Воздуха» Марины Цветаевой: Опыт интерпретации // Труды по
знаковым системам, XIV: Типология культуры. Взаимное воздействие культур. Тарту, 1982.
Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.
Гиндин С. И. Опыты анализа текста с помощью семантических словарей. Статья 1 // Ма-
шинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1972. Т. 16.
Гиндин С. И. Текст//Краткая литературная энциклопедия. М., 1978. Т. 9: А—Я.
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971.
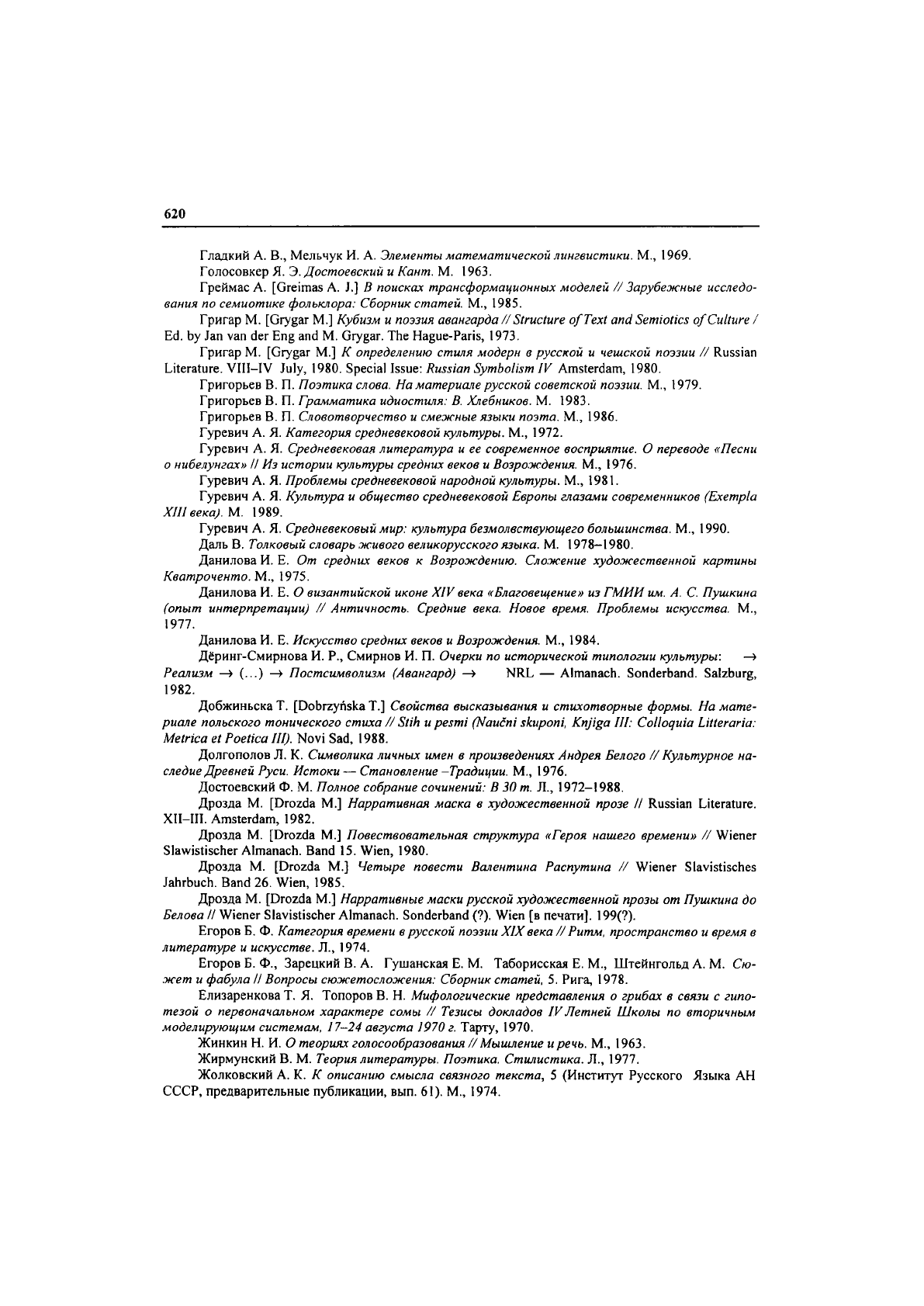
620
Гладкий А. В., Мельчук И. А. Элементы математической лингвистики. М., 1969.
Голосовкер Я. Э.Достоевский и Кант. М. 1963.
Греймас A. [Greimas A. L] В поисках трансформационных моделей // Зарубежные исследо-
вания по семиотике фольклора: Сборник статей. М., 1985.
Григар М. [Gry gar М.] Кубизм и поэзия авангарда //Structure of Text and Semiotics of Culture /
Ed. by Jan van der Eng and M. Grygar. The Hague-Paris, 1973.
Григар M. [Grygar M.] К определению стиля модерн в русской и чешской поэзии // Russian
Literature. VIII—IV July, 1980. Special Issue: Russian Symbolism IV Amsterdam, 1980.
Григорьев В. П. Поэтика слова. На материале русской советской поэзии. М., 1979.
Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М. 1983.
Григорьев В. П. Словотворчество и смежные языки поэта. М., 1986.
Гуревич А. Я. Категория средневековой культуры. М., 1972.
Гуревич А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие. О переводе «Песни
о нибелунгах» II Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Ехетріа
XIII века). М. 1989.
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 1978-1980.
Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной картины
Кватроченто. М., 1975.
Данилова И. Е. О византийской иконе XIV века «Благовещение» из ГМИИ
им.
А. С. Пушкина
(опыт интерпретации) // Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М.,
1977.
Данилова И. Е. Искусство средних веков и Возрождения. М., 1984.
Дёринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П. Очерки по исторической типологии культуры: —>
Реализм
—>
(...) Постсимволизм (Авангард) —> NRL — Almanach. Sonderband. Salzburg,
1982.
Добжиньска Т. [Dobrzyńska Т.] Свойства высказывания и стихотворные формы. На мате-
риале польского тонического стиха // Stih и pesmi (Naućni skupom, Knjiga III: Colloquia Litteraria:
Metrica et Poetica III). Novi Sad, 1988.
Долгополов JI. К. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого //Культурное на-
следие Древней Руси. Истоки — Становление -Традиции. М., 1976.
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972-1988.
Дрозда М. [Drozda М.] Нарративная маска в художественной прозе // Russian Literature.
XII—III. Amsterdam, 1982.
Дрозда M. [Drozda М.] Повествовательная структура «Героя нашего времени» // Wiener
Slawistischer Almanach. Band 15. Wien, 1980.
Дрозда M. [Drozda M.] Четыре повести Валентина Распутина // Wiener Slavistisches
Jahrbuch. Band 26. Wien, 1985.
Дрозда M. [Drozda M.] Нарративные маски русской художественной прозы от Пушкина до
Белова II Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband (?). Wien [в печати]. 199(?).
Егоров Б. Ф. Категория времени в русской поэзии XIX века //Ритм, пространство и время в
литературе и искусстве. Л., 1974.
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А. Гушанская Е. М. Таборисская Е. М., Штейнгольд А. М. Сю-
жет и фабула
Н
Вопросы сюжетосложения: Сборник статей, 5. Рига, 1978.
Елизаренкова Т. Я. Топоров В. Н. Мифологические представления о грибах в связи с гипо-
тезой о первоначальном характере сомы // Тезисы докладов IVЛетней Школы по вторичным
моделирующим системам, 17-24 августа 1970 г. Тарту, 1970.
Жинкин Н. И. О теориях голосообразования //Мышление
и
речь. М., 1963.
Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
Жолковский А. К. К описанию смысла связного текста, 5 (Институт Русского Языка АН
СССР, предварительные публикации, вып. 61). М., 1974.
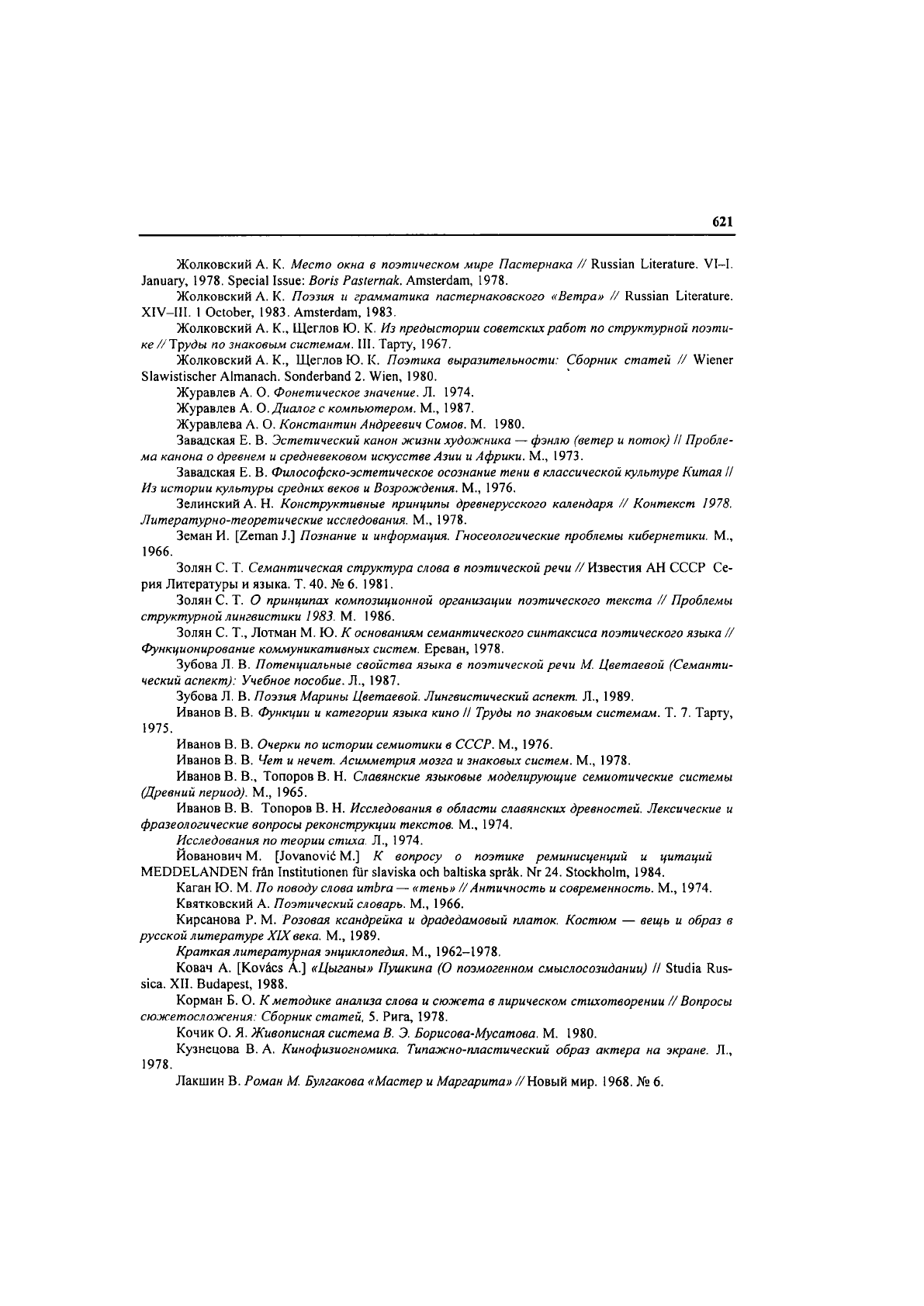
621
Жолковский А. К. Место окна в поэтическом мире Пастернака // Russian Literature. VI—I.
January, 1978. Special Issue: Boris Pasternak. Amsterdam, 1978.
Жолковский А. К. Поэзия и грамматика пастернаковского «Ветра» // Russian Literature.
XIV-III. I October, 1983. Amsterdam, 1983.
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Из предыстории советских работ по структурной поэти-
ке //Труды по знаковым системам. III. Тарту, 1967.
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Поэтика выразительности: Сборник статей // Wiener
Slawistischer Almanach. Sonderband 2. Wien, 1980.
Журавлев А. О. Фонетическое значение. JI. 1974.
Журавлев А. О. Диалог с компьютером. М., 1987.
Журавлева А. О. Константин Андреевич Сомов. М. 1980.
Завадская Е. В. Эстетический канон жизни художника — фэнлю (ветер и поток) II Пробле-
ма канона о древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
Завадская Е. В. Философско-эстетическое осознание тени в классической культуре Китая II
Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
Зелинский А. Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст 1978.
Литературно-теоретические исследования. М., 1978.
Земан И. [Zeman J.] Познание и информация. Гносеологические проблемы кибернетики. М.,
1966.
Золян С. Т. Семантическая структура слова в поэтической речи // Известия АН СССР Се-
рия Литературы и языка. Т. 40. № 6. 1981.
Золян С. Т. О принципах композиционной организации поэтического текста // Проблемы
структурной лингвистики 1983. М. 1986.
Золян С. Т., Лотман М. Ю. К основаниям семантического синтаксиса поэтического языка //
Функционирование коммуникативных систем. Ереван, 1978.
Зубова Л. В. Потенциальные свойства языка в поэтической речи М. Цветаевой (Семанти-
ческий аспект): Учебное пособие. Л., 1987.
Зубова Л. В. Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект. Л., 1989.
Иванов В. В. Функции и категории языка кино Н Труды по знаковым системам. Т. 7. Тарту,
1975.
Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Иванов В. В. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы
(Древний период). М., 1965.
Иванов В. В. Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
Исследования по теории стиха. Л., 1974.
Иованович М. [Jovanović М.] К вопросу о поэтике реминисценций и цитаций
MEDDELANDEN frän Institutionen für slaviska och baltiska spräk. Nr 24. Stockholm, 1984.
Каган Ю. M. По поводу слова umbra — «тень» //Античность и современность. М., 1974.
Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966.
Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в
русской литературе XIX века. М., 1989.
Краткая литературная энциклопедия. М., 1962-1978.
Ковач А. [Koväcs А.] «Цыганы» Пушкина (О поэмогенном смысл ос озидании) // Studia Rus-
sica. XII. Budapest, 1988.
Корман Б. О. К методике анализа слова и сюжета в лирическом стихотворении //Вопросы
сюжетосложения: Сборник статей, 5. Рига, 1978.
Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. М. 1980.
Кузнецова В. А. Кинофизиогномика. Типажно-пластический образ актера на экране. Л.,
1978.
Лакшин В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» //Новый мир. 1968. № 6.
