Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

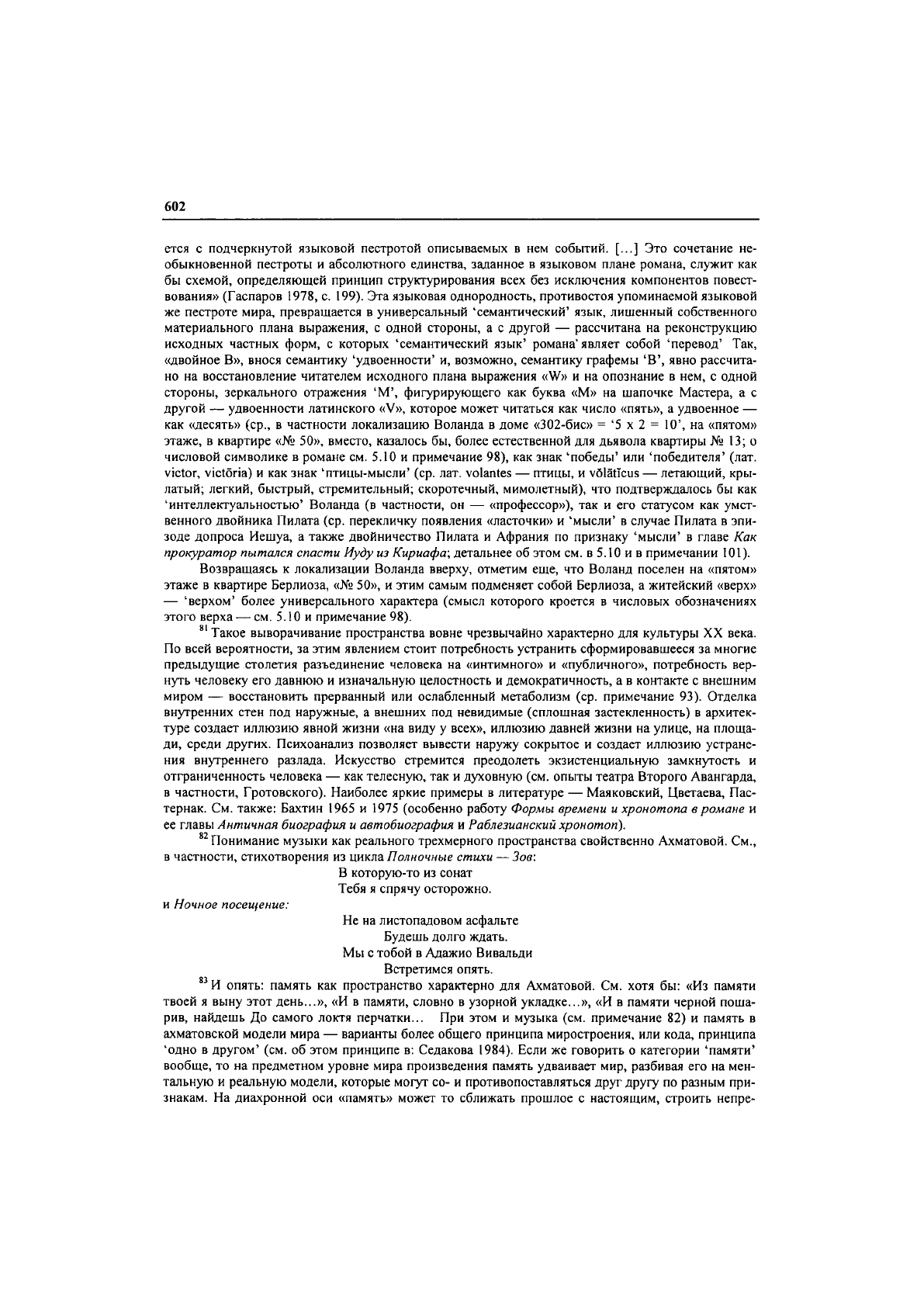
602
ется с подчеркнутой языковой пестротой описываемых в нем событий. [...] Это сочетание не-
обыкновенной пестроты и абсолютного единства, заданное в языковом плане романа, служит как
бы схемой, определяющей принцип структурирования всех без исключения компонентов повест-
вования» (Гаспаров 1978, с. 199). Эта языковая однородность, противостоя упоминаемой языковой
же пестроте мира, превращается в универсальный 'семантический' язык, лишенный собственного
материального плана выражения, с одной стороны, а с другой — рассчитана на реконструкцию
исходных частных форм, с которых 'семантический язык' романа'являет собой 'перевод' Так,
«двойное В», внося семантику 'удвоенности' и, возможно, семантику графемы 'B', явно рассчита-
но на восстановление читателем исходного плана выражения «W» и на опознание в нем, с одной
стороны, зеркального отражения 'М', фигурирующего как буква «М» на шапочке Мастера, а с
другой — удвоенности латинского «V», которое может читаться как число «пять», а удвоенное —
как «десять» (ср., в частности локализацию Воланда в доме «302-бис» = '5x2= 10', на «пятом»
этаже, в квартире «№ 50», вместо, казалось бы, более естественной для дьявола квартиры № 13; о
числовой символике в романе см. 5.10 и примечание 98), как знак 'победы' или 'победителя' (лат.
victor, Victoria) и как знак 'птицы-мысли' (ср. лат. volantes — птицы, и völäticus — летающий, кры-
латый; легкий, быстрый, стремительный; скоротечный, мимолетный), что подтверждалось бы как
'интеллектуальностью' Воланда (в частности, он — «профессор»), так и его статусом как умст-
венного двойника Пилата (ср. перекличку появления «ласточки» и 'мысли' в случае Пилата в эпи-
зоде допроса Иешуа, а также двойничество Пилата и Афрания по признаку 'мысли' в главе Как
прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа\ детальнее об этом см. в 5.10 и в примечании 101).
Возвращаясь к локализации Воланда вверху, отметим еще, что Воланд поселен на «пятом»
этаже в квартире Берлиоза, «№ 50», и этим самым подменяет собой Берлиоза, а житейский «верх»
— 'верхом' более универсального характера (смысл которого кроется в числовых обозначениях
этого верха — см. 5.10 и примечание 98).
81
Такое выворачивание пространства вовне чрезвычайно характерно для культуры XX века.
По всей вероятности, за этим явлением стоит потребность устранить сформировавшееся за многие
предыдущие столетия разъединение человека на «интимного» и «публичного», потребность вер-
нуть человеку его давнюю и изначальную целостность и демократичность, а в контакте с внешним
миром — восстановить прерванный или ослабленный метаболизм (ср. примечание 93). Отделка
внутренних стен под наружные, а внешних под невидимые (сплошная застекленность) в архитек-
туре создает иллюзию явной жизни «на виду у всех», иллюзию давней жизни на улице, на площа-
ди, среди других. Психоанализ позволяет вывести наружу сокрытое и создает иллюзию устране-
ния внутреннего разлада. Искусство стремится преодолеть экзистенциальную замкнутость и
отграниченность человека — как телесную, так и духовную (см. опыты театра Второго Авангарда,
в частности, Гротовского). Наиболее яркие примеры в литературе — Маяковский, Цветаева, Пас-
тернак. См. также: Бахтин 1965 и 1975 (особенно работу Формы времени и хронотопа в романе и
ее главы Античная биография и автобиография и Раблезианский хронотоп).
82
Понимание музыки как реального трехмерного пространства свойственно Ахматовой. См.,
в частности, стихотворения из цикла Полночные стихи — Зов:
В которую-то из сонат
Тебя я спрячу осторожно.
и Ночное посещение:
Не на листопадовом асфальте
Будешь долго ждать.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять.
83
И опять: память как пространство характерно для Ахматовой. См. хотя бы: «Из памяти
твоей я выну этот день...», «И в памяти, словно в узорной укладке...», «И в памяти черной поша-
рив, найдешь До самого локтя перчатки... При этом и музыка (см. примечание 82) и память в
ахматовской модели мира — варианты более общего принципа миростроения, или кода, принципа
'одно в другом' (см. об этом принципе в: Седакова 1984). Если же говорить о категории 'памяти'
вообще, то на предметном уровне мира произведения память удваивает мир, разбивая его на мен-
тальную и реальную модели, которые могут со- и противопоставляться друг другу по разным при-
знакам. На диахронной оси «память» может то сближать прошлое с настоящим, строить непре-
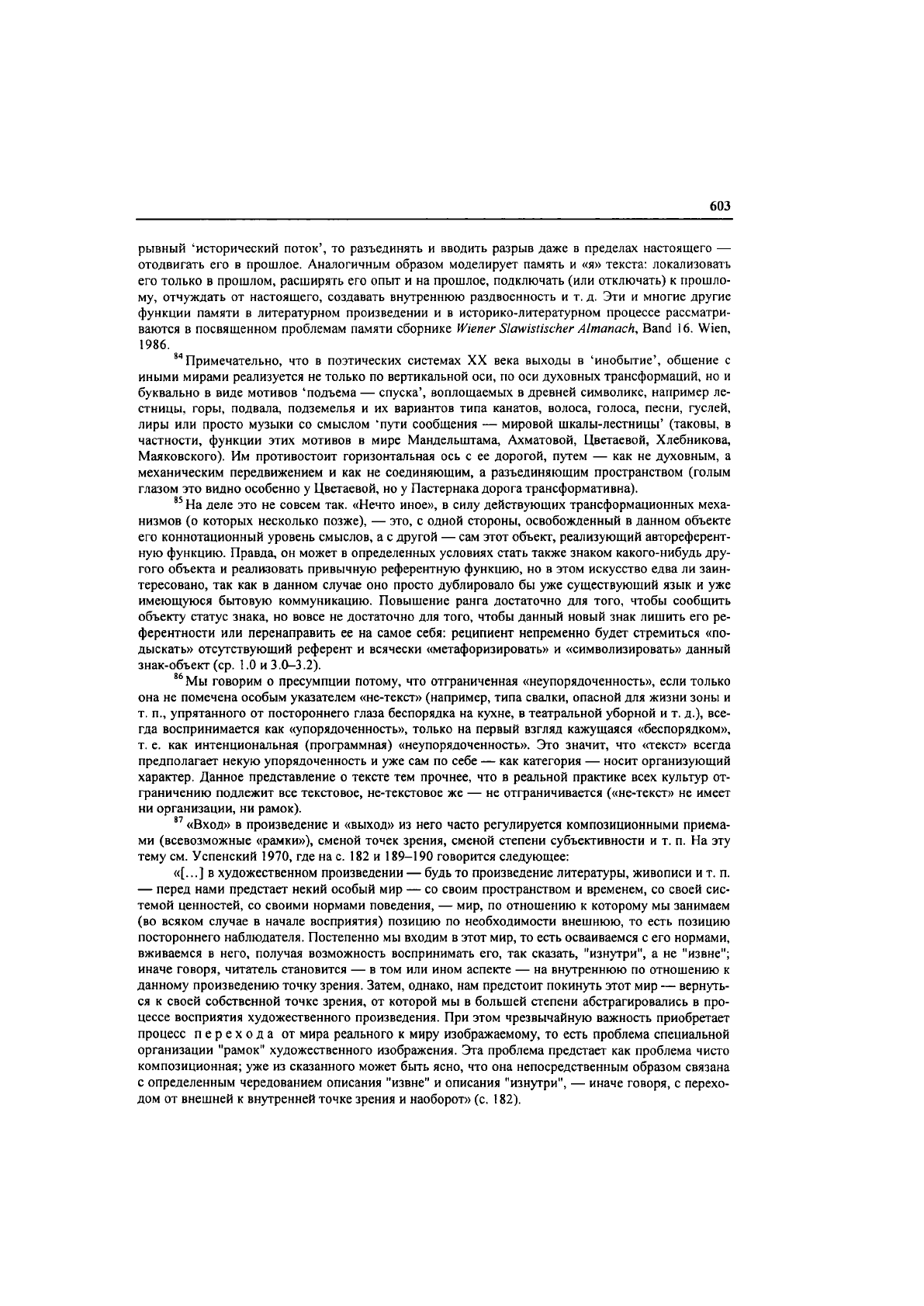
603
рывный 'исторический поток', то разъединять и вводить разрыв даже в пределах настоящего —
отодвигать его в прошлое. Аналогичным образом моделирует память и «я» текста: локализовать
его только в прошлом, расширять его опыт и на прошлое, подключать (или отключать) к прошло-
му, отчуждать от настоящего, создавать внутреннюю раздвоенность и т. д. Эти и многие другие
функции памяти в литературном произведении и в историко-литературном процессе рассматри-
ваются в посвященном проблемам памяти сборнике Wiener Slawistischer Almanach, Band 16. Wien,
1986.
84
Примечательно, что в поэтических системах XX века выходы в 'инобытие', общение с
иными мирами реализуется не только по вертикальной оси, по оси духовных трансформаций, но и
буквально в виде мотивов 'подъема — спуска', воплощаемых в древней символике, например ле-
стницы, горы, подвала, подземелья и их вариантов типа канатов, волоса, голоса, песни, гуслей,
лиры или просто музыки со смыслом 'пути сообщения — мировой шкалы-лестницы' (таковы, в
частности, функции этих мотивов в мире Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Хлебникова,
Маяковского). Им противостоит горизонтальная ось с ее дорогой, путем — как не духовным, а
механическим передвижением и как не соединяющим, а разъединяющим пространством (голым
глазом это видно особенно у Цветаевой, но у Пастернака дорога трансформативна).
85
На деле это не совсем так. «Нечто иное», в силу действующих трансформационных меха-
низмов (о которых несколько позже), — это, с одной стороны, освобожденный в данном объекте
его коннотационный уровень смыслов, а с другой — сам этот объект, реализующий автореферент-
ную функцию. Правда, он может в определенных условиях стать также знаком какого-нибудь дру-
гого объекта и реализовать привычную референтную функцию, но в этом искусство едва ли заин-
тересовано, так как в данном случае оно просто дублировало бы уже существующий язык и уже
имеющуюся бытовую коммуникацию. Повышение ранга достаточно для того, чтобы сообщить
объекту статус знака, но вовсе не достаточно для того, чтобы данный новый знак лишить его ре-
ферентное™ или перенаправить ее на самое себя: реципиент непременно будет стремиться «по-
дыскать» отсутствующий референт и всячески «метафоризировать» и «символизировать» данный
знак-объект (ср. 1.0 и 3.0-3.2).
86
Мы говорим о пресумпции потому, что отграниченная «неупорядоченность», если только
она не помечена особым указателем «не-текст» (например, типа свалки, опасной для жизни зоны и
т. п., упрятанного от постороннего глаза беспорядка на кухне, в театральной уборной и т. д.), все-
гда воспринимается как «упорядоченность», только на первый взгляд кажущаяся «беспорядком»,
т. е. как интенциональная (программная) «неупорядоченность». Это значит, что «текст» всегда
предполагает некую упорядоченность и уже сам по себе — как категория — носит организующий
характер. Данное представление о тексте тем прочнее, что в реальной практике всех культур от-
граничению подлежит все текстовое, не-текстовое же — не отграничивается («не-текст» не имеет
ни организации, ни рамок).
87
«Вход» в произведение и «выход» из него часто регулируется композиционными приема-
ми (всевозможные «рамки»), сменой точек зрения, сменой степени субъективности и т. п. На эту
тему см. Успенский 1970, где на с. 182 и 189-190 говорится следующее:
«[...] в художественном произведении — будь то произведение литературы, живописи и т. п.
— перед нами предстает некий особый мир — со своим пространством и временем, со своей сис-
темой ценностей, со своими нормами поведения, — мир, по отношению к которому мы занимаем
(во всяком случае в начале восприятия) позицию по необходимости внешнюю, то есть позицию
постороннего наблюдателя. Постепенно мы входим в этот мир, то есть осваиваемся с его нормами,
вживаемся в него, получая возможность воспринимать его, так сказать, "изнутри", а не "извне";
иначе говоря, читатель становится — в том или ином аспекте — на внутреннюю по отношению к
данному произведению точку зрения. Затем, однако, нам предстоит покинуть этот мир — вернуть-
ся к своей собственной точке зрения, от которой мы в большей степени абстрагировались в про-
цессе восприятия художественного произведения. При этом чрезвычайную важность приобретает
процесс перехода от мира реального к миру изображаемому, то есть проблема специальной
организации "рамок" художественного изображения. Эта проблема предстает как проблема чисто
композиционная; уже из сказанного может быть ясно, что она непосредственным образом связана
с определенным чередованием описания "извне" и описания "изнутри", — иначе говоря, с перехо-
дом от внешней к внутренней точке зрения и наоборот» (с. 182).
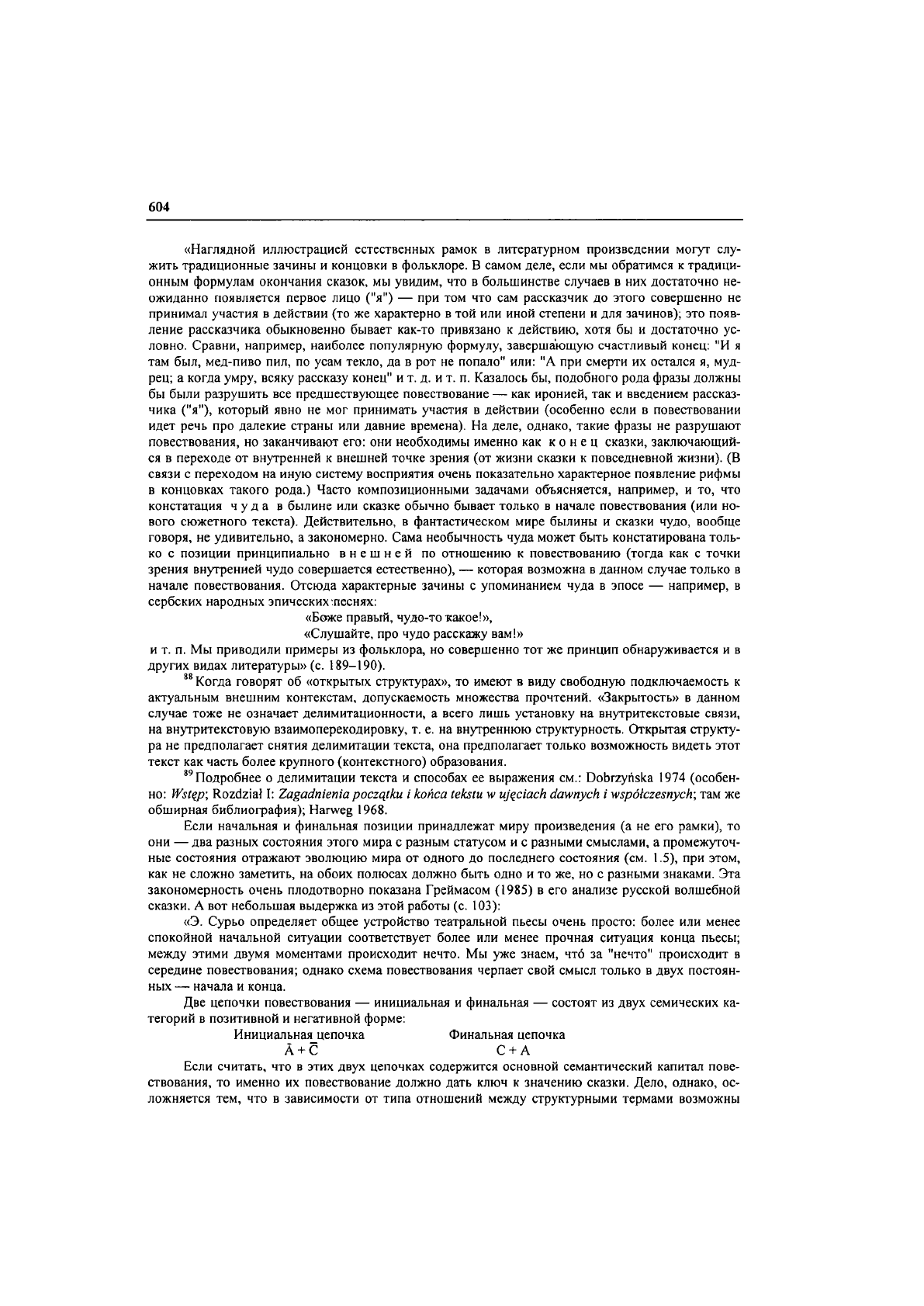
604
«Наглядной иллюстрацией естественных рамок в литературном произведении могут слу-
жить традиционные зачины и концовки в фольклоре. В самом деле, если мы обратимся к традици-
онным формулам окончания сказок, мы увидим, что в большинстве случаев в них достаточно не-
ожиданно появляется первое лицо ("я") — при том что сам рассказчик до этого совершенно не
принимал участия в действии (то же характерно в той или иной степени и для зачинов); это появ-
ление рассказчика обыкновенно бывает как-то привязано к действию, хотя бы и достаточно ус-
ловно. Сравни, например, наиболее популярную формулу, завершающую счастливый конец: "И я
там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало" или: "А при смерти их остался я, муд-
рец; а когда умру, всяку рассказу конец" и т. д. и т. п. Казалось бы, подобного рода фразы должны
бы были разрушить все предшествующее повествование — как иронией, так и введением рассказ-
чика ("я"), который явно не мог принимать участия в действии (особенно если в повествовании
идет речь про далекие страны или давние времена). На деле, однако, такие фразы не разрушают
повествования, но заканчивают его: они необходимы именно как конец сказки, заключающий-
ся в переходе от внутренней к внешней точке зрения (от жизни сказки к повседневной жизни). (В
связи с переходом на иную систему восприятия очень показательно характерное появление рифмы
в концовках такого рода.) Часто композиционными задачами объясняется, например, и то, что
констатация ч у д а в былине или сказке обычно бывает только в начале повествования (или но-
вого сюжетного текста). Действительно, в фантастическом мире былины и сказки чудо, вообще
говоря, не удивительно, а закономерно. Сама необычность чуда может быть констатирована толь-
ко с позиции принципиально внешней по отношению к повествованию (тогда как с точки
зрения внутренней чудо совершается естественно), — которая возможна в данном случае только в
начале повествования. Отсюда характерные зачины с упоминанием чуда в эпосе — например, в
сербских народных эпических тіеснях:
«Боже правый, чудо-то какое!»,
«Слушайте, про чудо расскажу вам!»
и т. п. Мы приводили примеры из фольклора, но совершенно тот же принцип обнаруживается и в
других видах литературы» (с. 189-190).
88
Когда говорят об «открытых структурах», то имеют в виду свободную подключаемость к
актуальным внешним контекстам, допускаемость множества прочтений. «Закрытость» в данном
случае тоже не означает делимитационности, а всего лишь установку на внутритекстовые связи,
на внутритекстовую взаимоперекодировку, т. е. на внутреннюю структурность. Открытая структу-
ра не предполагает снятия делимитации текста, она предполагает только возможность видеть этот
текст как часть более крупного (контекстного) образования.
89
Подробнее о делимитации текста и способах ее выражения см.: Dobrzyńska 1974 (особен-
но: Wstąp; Rozdział I: Zagadnienia początku i końca tekstu w ujęciach dawnych i współczesnych; там же
обширная библиография); Harweg 1968.
Если начальная и финальная позиции принадлежат миру произведения (а не его рамки), то
они — два разных состояния этого мира с разным статусом и с разными смыслами, а промежуточ-
ные состояния отражают эволюцию мира от одного до последнего состояния (см. 1.5), при этом,
как не сложно заметить, на обоих полюсах должно быть одно и то же, но с разными знаками. Эта
закономерность очень плодотворно показана Греймасом (1985) в его анализе русской волшебной
сказки. А вот небольшая выдержка из этой работы (с. 103):
«Э. Сурьо определяет общее устройство театральной пьесы очень просто: более или менее
спокойной начальной ситуации соответствует более или менее прочная ситуация конца пьесы;
между этими двумя моментами происходит нечто. Мы уже знаем, что за "нечто" происходит в
середине повествования; однако схема повествования черпает свой смысл только в двух постоян-
ных — начала и конца.
Две цепочки повествования — инициальная и финальная — состоят из двух семических ка-
тегорий в позитивной и негативной форме:
Инициальная_цепочка Финальная цепочка
Ä + C С + А
Если считать, что в этих двух цепочках содержится основной семантический капитал пове-
ствования, то именно их повествование должно дать ключ к значению сказки. Дело, однако, ос-
ложняется тем, что в зависимости от типа отношений между структурными термами возможны
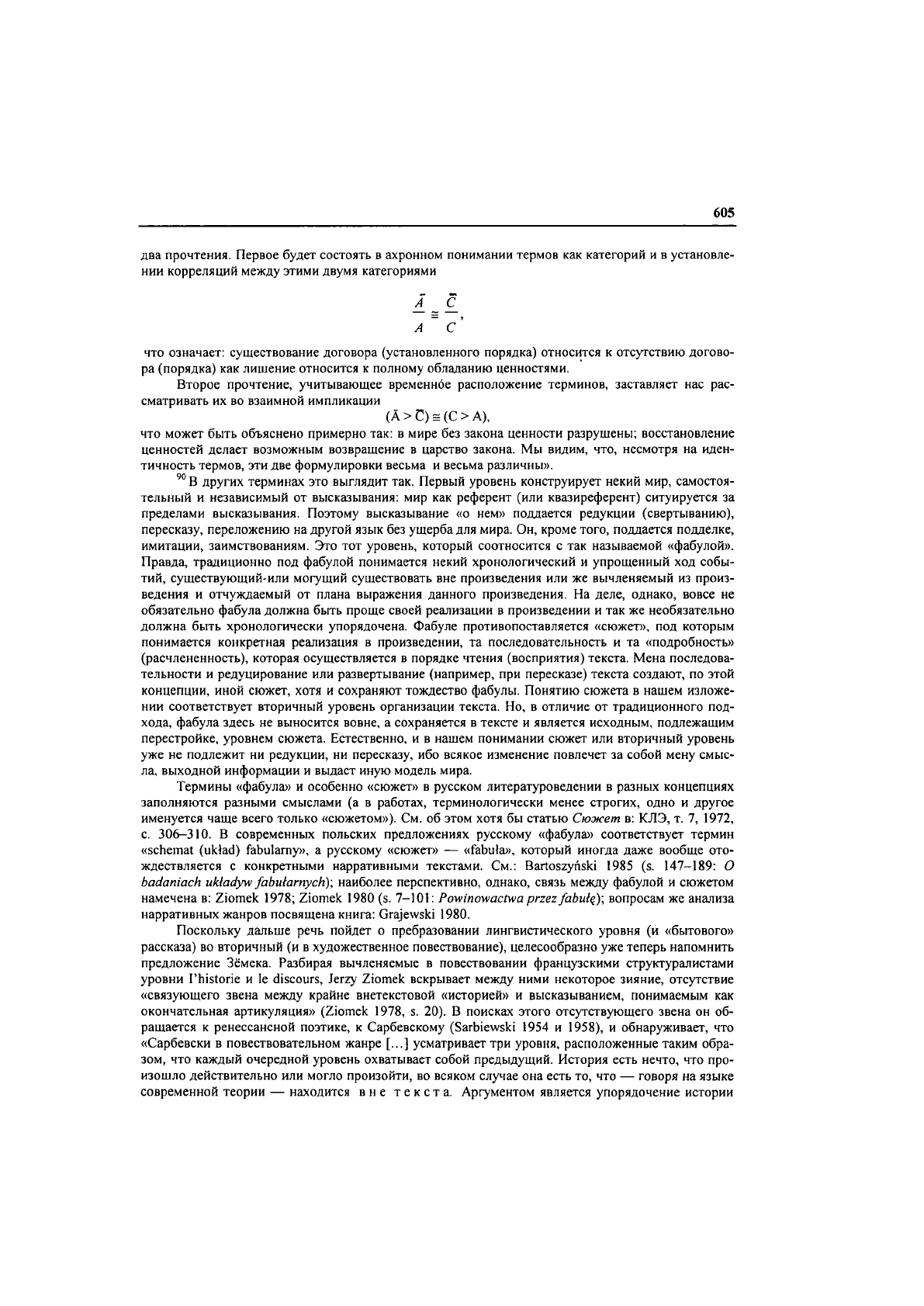
605
два прочтения. Первое будет состоять в ахронном понимании термов как категорий и в установле-
нии корреляций между этими двумя категориями
/Г _ с
А ~ С'
что означает: существование договора (установленного порядка) относится к отсутствию догово-
ра (порядка) как лишение относится к полному обладанию ценностями.
Второе прочтение, учитывающее временнбе расположение терминов, заставляет нас рас-
сматривать их во взаимной импликации
(Ä > С) = (С > А),
что может быть объяснено примерно так: в мире без закона ценности разрушены; восстановление
ценностей делает возможным возвращение в царство закона. Мы видим, что, несмотря на иден-
тичность термов, эти две формулировки весьма и весьма различны».
90
В других терминах это выглядит так. Первый уровень конструирует некий мир, самостоя-
тельный и независимый от высказывания: мир как референт (или квазиреферент) ситуируется за
пределами высказывания. Поэтому высказывание «о нем» поддается редукции (свертыванию),
пересказу, переложению на другой язык без ущерба для мира. Он, кроме того, поддается подделке,
имитации, заимствованиям. Это тот уровень, который соотносится с так называемой «фабулой».
Правда, традиционно под фабулой понимается некий хронологический и упрощенный ход собы-
тий, существующий-или могущий существовать вне произведения или же вычленяемый из произ-
ведения и отчуждаемый от плана выражения данного произведения. На деле, однако, вовсе не
обязательно фабула должна быть проще своей реализации в произведении и так же необязательно
должна быть хронологически упорядочена. Фабуле противопоставляется «сюжет», под которым
понимается конкретная реализация в произведении, та последовательность и та «подробность»
(расчлененность), которая осуществляется в порядке чтения (восприятия) текста. Мена последова-
тельности и редуцирование или развертывание (например, при пересказе) текста создают, по этой
концепции, иной сюжет, хотя и сохраняют тождество фабулы. Понятию сюжета в нашем изложе-
нии соответствует вторичный уровень организации текста. Но, в отличие от традиционного под-
хода, фабула здесь не выносится вовне, а сохраняется в тексте и является исходным, подлежащим
перестройке, уровнем сюжета. Естественно, и в нашем понимании сюжет или вторичный уровень
уже не подлежит ни редукции, ни пересказу, ибо всякое изменение повлечет за собой мену смыс-
ла, выходной информации и выдаст иную модель мира.
Термины «фабула» и особенно «сюжет» в русском литературоведении в разных концепциях
заполняются разными смыслами (а в работах, терминологически менее строгих, одно и другое
именуется чаще всего только «сюжетом»). См. об этом хотя бы статью Сюжет в: КЛЭ, т. 7, 1972,
с. 306-310. В современных польских предложениях русскому «фабула» соответствует термин
«schemat (układ) fabularny», а русскому «сюжет» — «fabuła», который иногда даже вообще ото-
ждествляется с конкретными нарративными текстами. См.: Bartoszyński 1985 (s. 147-189: О
badaniach układyw fabularnych); наиболее перспективно, однако, связь между фабулой и сюжетом
намечена в: Ziomek 1978; Ziomek 1980 (s. 7-101: Powinowactwa przez fabułą); вопросам же анализа
нарративных жанров посвящена книга: Grajewski 1980.
Поскольку дальше речь пойдет о пребразовании лингвистического уровня (и «бытового»
рассказа) во вторичный (и в художественное повествование), целесообразно уже теперь напомнить
предложение Зёмека. Разбирая вычленяемые в повествовании французскими структуралистами
уровни Thistorie и le discours, Jerzy Ziomek вскрывает между ними некоторое зияние, отсутствие
«связующего звена между крайне внетекстовой «историей» и высказыванием, понимаемым как
окончательная артикуляция» (Ziomek 1978, s. 20). В поисках этого отсутствующего звена он об-
ращается к ренессансной поэтике, к Сарбевскому (Sarbiewski 1954 и 1958), и обнаруживает, что
«Сарбевски в повествовательном жанре [...] усматривает три уровня, расположенные таким обра-
зом, что каждый очередной уровень охватывает собой предыдущий. История есть нечто, что про-
изошло действительно или могло произойти, во всяком случае она есть то, что — говоря на языке
современной теории — находится вне текста. Аргументом является упорядочение истории
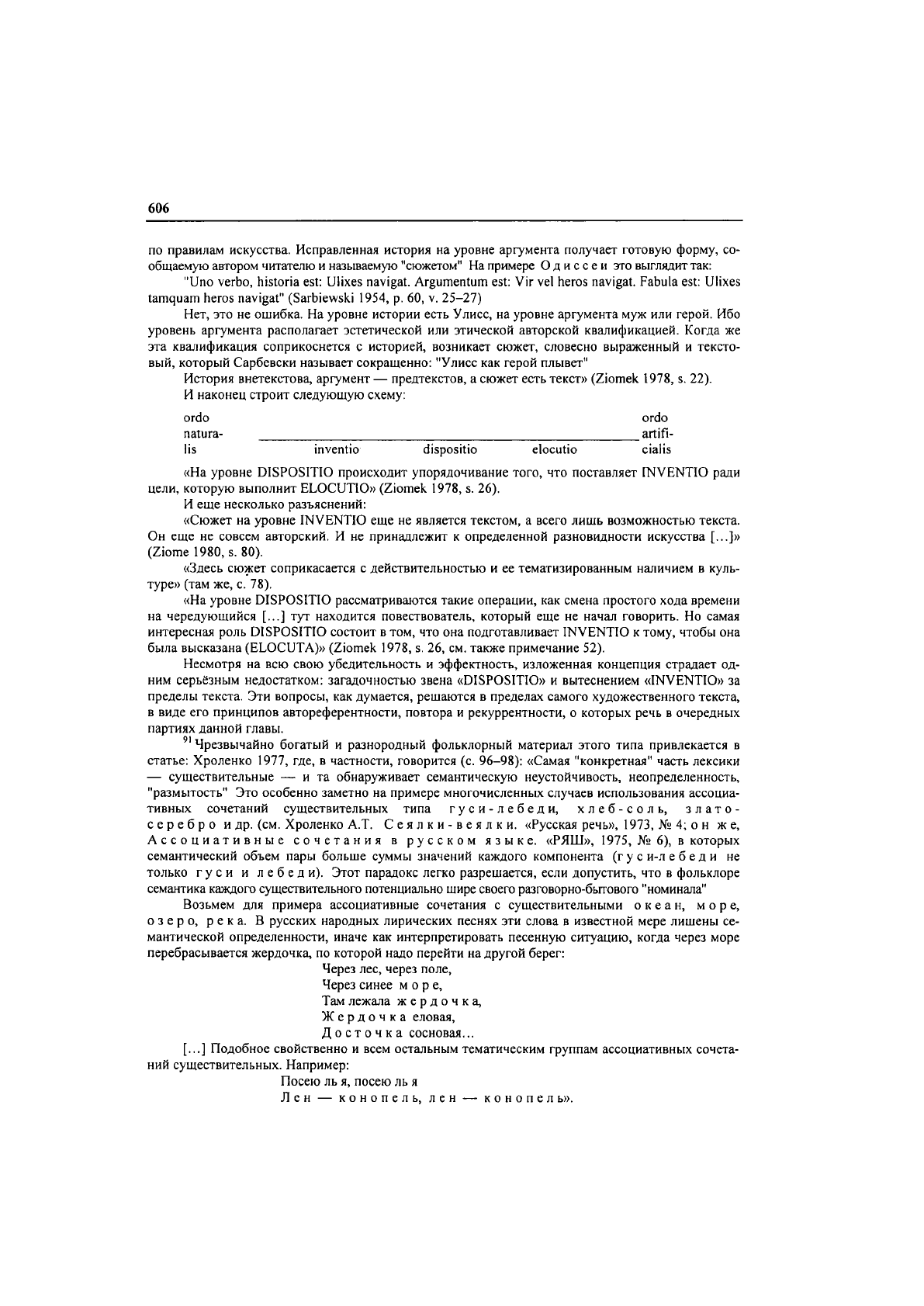
606
по правилам искусства. Исправленная история на уровне аргумента получает готовую форму, со-
общаемую автором читателю и называемую "сюжетом" На примере Одиссеи это выглядит так:
"Uno verbo, historia est: Ulixes navigat. Argumentum est: Vir vel heros navigat. Fabuła est: Ulixes
tamquam heros navigat" (Sarbiewski 1954, p. 60, v. 25-27)
Нет, это не ошибка. На уровне истории есть Улисс, на уровне аргумента муж или герой. Ибо
уровень аргумента располагает эстетической или этической авторской квалификацией. Когда же
эта квалификация соприкоснется с историей, возникает сюжет, словесно выраженный и тексто-
вый, который Сарбевски называет сокращенно: "Улисс как герой плывет"
История внетекстова, аргумент — предтекстов, а сюжет есть текст» (Ziomek 1978, s. 22).
И наконец строит следующую схему:
ordo ordo
natura- artifi-
lis inventio dispositio elocutio cialis
«На уровне DISPOSITIO происходит упорядочивание того, что поставляет INVENTIO ради
цели, которую выполнит ELOCUTIO» (Ziomek 1978, s. 26).
И еще несколько разъяснений:
«Сюжет на уровне INVENTIO еще не является текстом, а всего лишь возможностью текста.
Он еще не совсем авторский. И не принадлежит к определенной разновидности искусства [...]»
(Ziome 1980, s. 80).
«Здесь сюжет соприкасается с действительностью и ее тематизированным наличием в куль-
туре» (там же, с. 78).
«На уровне DISPOSITIO рассматриваются такие операции, как смена простого хода времени
на чередующийся [...] тут находится повествователь, который еще не начал говорить. Но самая
интересная роль DISPOSITIO состоит в том, что она подготавливает INVENTIO к тому, чтобы она
была высказана (ELOCUTA)» (Ziomek 1978, s. 26, см. также примечание 52).
Несмотря на всю свою убедительность и эффектность, изложенная концепция страдает од-
ним серьёзным недостатком: загадочностью звена «DISPOSITIO» и вытеснением «INVENTIO» за
пределы текста. Эти вопросы, как думается, решаются в пределах самого художественного текста,
в виде его принципов автореферентности, повтора и рекуррентности, о которых речь в очередных
партиях данной главы.
91
Чрезвычайно богатый и разнородный фольклорный материал этого типа привлекается в
статье: Хроленко 1977, где, в частности, говорится (с. 96-98): «Самая "конкретная" часть лексики
— существительные — и та обнаруживает семантическую неустойчивость, неопределенность,
"размытость" Это особенно заметно на примере многочисленных случаев использования ассоциа-
тивных сочетаний существительных типа гуси-лебеди, хлеб-соль, злато-
серебро и др. (см. Хроленко А.Т. Сеялки-веялки. «Русская речь», 1973, № 4; о н же,
Ассоциативные сочетания в русском языке. «РЯШ», 1975, № 6), в которых
семантический объем пары больше суммы значений каждого компонента (г у с и-л е б е д и не
только гуси и лебеди). Этот парадокс легко разрешается, если допустить, что в фольклоре
семантика каждого существительного потенциально шире своего разговорно-бытового "номинала"
Возьмем для примера ассоциативные сочетания с существительными океан, море,
озеро, река. В русских народных лирических песнях эти слова в известной мере лишены се-
мантической определенности, иначе как интерпретировать песенную ситуацию, когда через море
перебрасывается жердочка, по которой надо перейти на другой берег:
Через лес, через поле,
Через синее море,
Там лежала жердочка,
Жердочка еловая,
Досточка сосновая...
[...] Подобное свойственно и всем остальным тематическим группам ассоциативных сочета-
ний существительных. Например:
Посею ль я, посею ль я
Лен — конопель, лен — конопел ь».
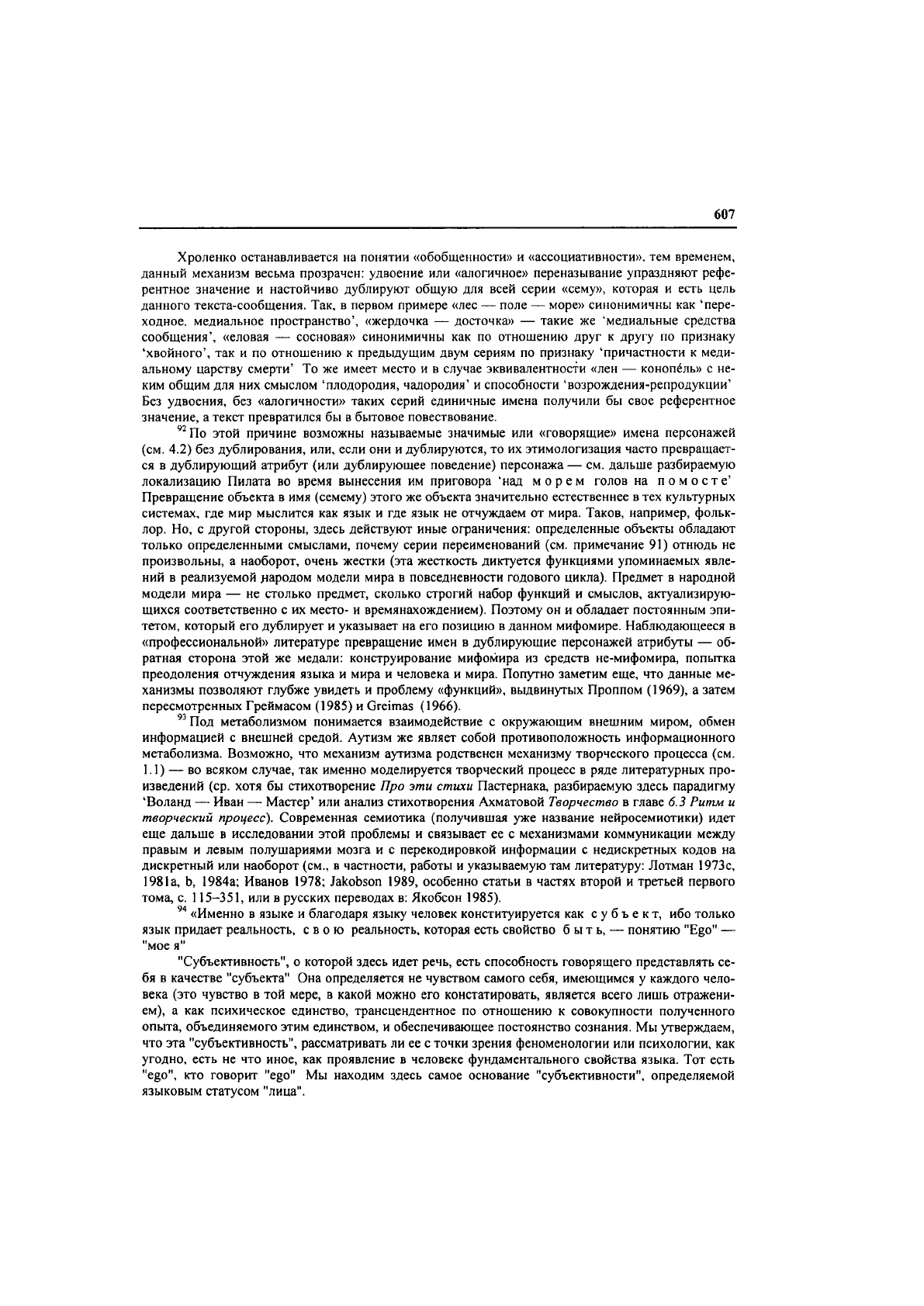
607
Хроленко останавливается на понятии «обобщенности» и «ассоциативности», тем временем,
данный механизм весьма прозрачен: удвоение или «алогичное» переназывание упраздняют рефе-
рентное значение и настойчиво дублируют общую для всей серии «сему», которая и есть цель
данного текста-сообщения. Так, в первом примере «лес — поле — море» синонимичны как 'пере-
ходное, медиальное пространство', «жердочка — досточка» — такие же 'медиальные средства
сообщения', «еловая — сосновая» синонимичны как по отношению друг к другу по признаку
'хвойного', так и по отношению к предыдущим двум сериям по признаку 'причастности к меди-
альному царству смерти' То же имеет место и в случае эквивалентности «лен — конопёль» с не-
ким общим для них смыслом 'плодородия, чадородия' и способности 'возрождения-репродукции'
Без удвоения, без «алогичности» таких серий единичные имена получили бы свое референтное
значение, а текст превратился бы в бытовое повествование.
92
По этой причине возможны называемые значимые или «говорящие» имена персонажей
(см. 4.2) без дублирования, или, если они и дублируются, то их этимологизация часто превращает-
ся в дублирующий атрибут (или дублирующее поведение) персонажа — см. дальше разбираемую
локализацию Пилата во время вынесения им приговора 'над морем голов на помосте'
Превращение объекта в имя (семему) этого же объекта значительно естественнее в тех культурных
системах, где мир мыслится как язык и где язык не отчуждаем от мира. Таков, например, фольк-
лор. Но, с другой стороны, здесь действуют иные ограничения: определенные объекты обладают
только определенными смыслами, почему серии переименований (см. примечание 91) отнюдь не
произвольны, а наоборот, очень жестки (эта жесткость диктуется функциями упоминаемых явле-
ний в реализуемой .народом модели мира в повседневности годового цикла). Предмет в народной
модели мира — не столько предмет, сколько строгий набор функций и смыслов, актуализирую-
щихся соответственно с их место- и времянахождением). Поэтому он и обладает постоянным эпи-
тетом, который его дублирует и указывает на его позицию в данном мифомире. Наблюдающееся в
«профессиональной» литературе превращение имен в дублирующие персонажей атрибуты — об-
ратная сторона этой же медали: конструирование мифомира из средств не-мифомира, попытка
преодоления отчуждения языка и мира и человека и мира. Попутно заметим еще, что данные ме-
ханизмы позволяют глубже увидеть и проблему «функций», выдвинутых Проппом (1969), а затем
пересмотренных Греймасом (1985) и Greimas (1966).
93
Под метаболизмом понимается взаимодействие с окружающим внешним миром, обмен
информацией с внешней средой. Аутизм же являет собой противоположность информационного
метаболизма. Возможно, что механизм аутизма родственен механизму творческого процесса (см.
1.1) — во всяком случае, так именно моделируется творческий процесс в ряде литературных про-
изведений (ср. хотя бы стихотворение Про эти стихи Пастернака, разбираемую здесь парадигму
'Воланд — Иван — Мастер' или анализ стихотворения Ахматовой Творчество в главе 6.3 Ритм и
творческий процесс). Современная семиотика (получившая уже название нейросемиотики) идет
еще дальше в исследовании этой проблемы и связывает ее с механизмами коммуникации между
правым и левым полушариями мозга и с перекодировкой информации с недискретных кодов на
дискретный или наоборот (см., в частности, работы и указываемую там литературу: Лотман 1973с,
1981а, Ь, 1984а; Иванов 1978; Jakobson 1989, особенно статьи в частях второй и третьей первого
тома, с. 115-351, или в русских переводах в: Якобсон 1985).
94
«Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только
язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть, — понятию "Ego" —
"мое я"
"Субъективность", о которой здесь идет речь, есть способность говорящего представлять се-
бя в качестве "субъекта" Она определяется не чувством самого себя, имеющимся у каждого чело-
века (это чувство в той мере, в какой можно его констатировать, является всего лишь отражени-
ем), а как психическое единство, трансцендентное по отношению к совокупности полученного
опыта, объединяемого этим единством, и обеспечивающее постоянство сознания. Мы утверждаем,
что эта "субъективность", рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как
угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть
"ego", кто говорит "ego" Мы находим здесь самое основание "субъективности", определяемой
языковым статусом "лица".
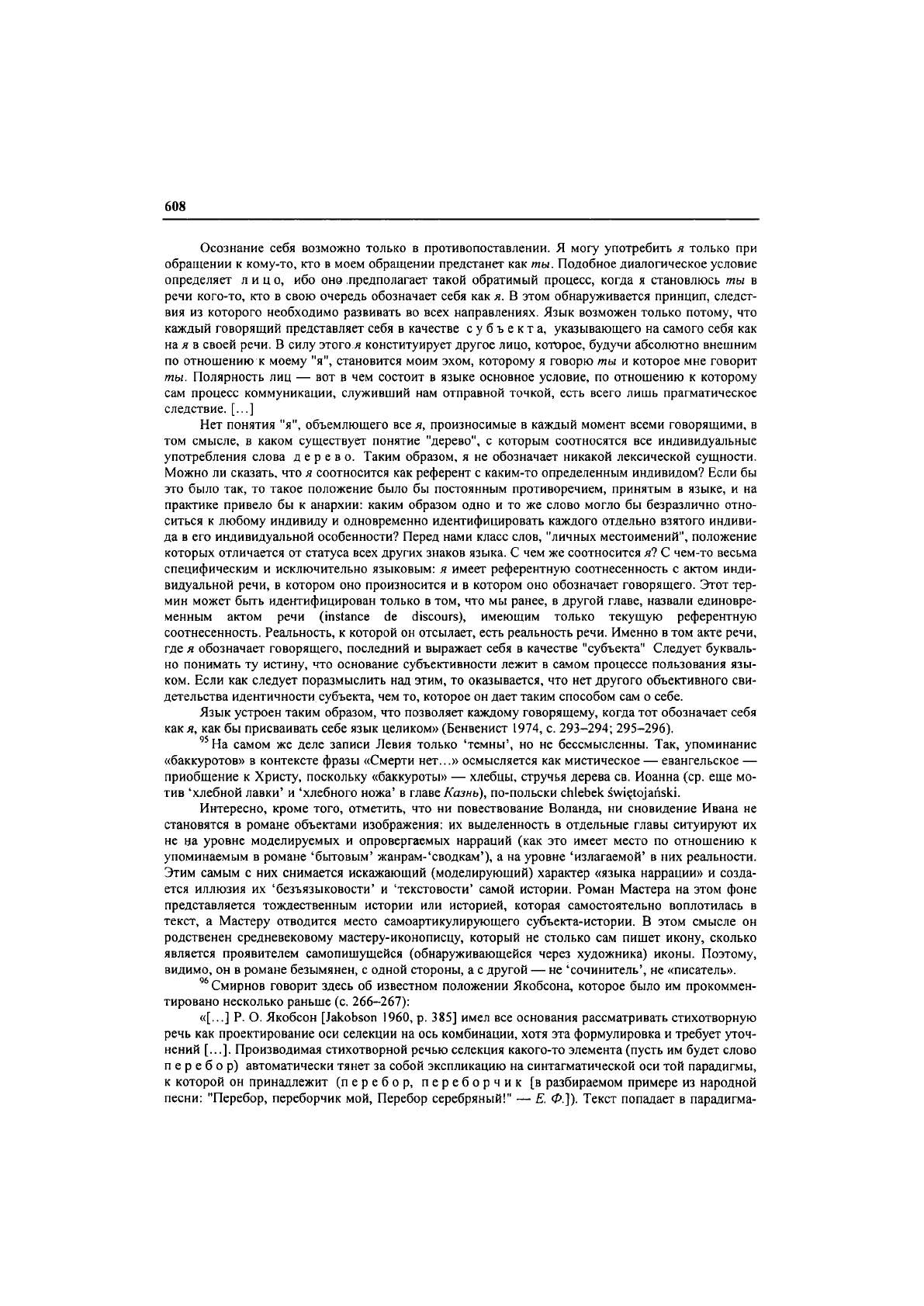
608
Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при
обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты. Подобное диалогическое условие
определяет лицо, ибо оно предполагает такой обратимый процесс, когда я становлюсь ты в
речи кого-то, кто в свою очередь обозначает себя как я. В этом обнаруживается принцип, следст-
вия из которого необходимо развивать во всех направлениях. Язык возможен только потому, что
каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как
на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним
по отношению к моему "я", становится моим эхом, которому я говорю ты и которое мне говорит
ты. Полярность лиц — вот в чем состоит в языке основное условие, по отношению к которому
сам процесс коммуникации, служивший нам отправной точкой, есть всего лишь прагматическое
следствие. [...]
Нет понятия "я", объемлющего все я, произносимые в каждый момент всеми говорящими, в
том смысле, в каком существует понятие "дерево", с которым соотносятся все индивидуальные
употребления слова дерево. Таким образом, я не обозначает никакой лексической сущности.
Можно ли сказать, что я соотносится как референт с каким-то определенным индивидом? Если бы
это было так, то такое положение было бы постоянным противоречием, принятым в языке, и на
практике привело бы к анархии: каким образом одно и то же слово могло бы безразлично отно-
ситься к любому индивиду и одновременно идентифицировать каждого отдельно взятого индиви-
да в его индивидуальной особенности? Перед нами класс слов, "личных местоимений", положение
которых отличается от статуса всех других знаков языка. С чем же соотносится я? С чем-то весьма
специфическим и исключительно языковым: я имеет референтную соотнесенность с актом инди-
видуальной речи, в котором оно произносится и в котором оно обозначает говорящего. Этот тер-
мин может быть идентифицирован только в том, что мы ранее, в другой главе, назвали единовре-
менным актом речи (instance de discours), имеющим только текущую референтную
соотнесенность. Реальность, к которой он отсылает, есть реальность речи. Именно в том акте речи,
где я обозначает говорящего, последний и выражает себя в качестве "субъекта" Следует букваль-
но понимать ту истину, что основание субъективности лежит в самом процессе пользования язы-
ком. Если как следует поразмыслить над этим, то оказывается, что нет другого объективного сви-
детельства идентичности субъекта, чем то, которое он дает таким способом сам о себе.
Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обозначает себя
как я, как бы присваивать себе язык целиком» (Бенвенист 1974, с. 293-294; 295-296).
95
На самом же деле записи Левия только 'темны', но не бессмысленны. Так, упоминание
«баккуротов» в контексте фразы «Смерти нет...» осмысляется как мистическое — евангельское —
приобщение к Христу, поскольку «баккуроты» — хлебцы, стручья дерева св. Иоанна (ср. еще мо-
тив 'хлебной лавки' и 'хлебного ножа' в главе Казнь), по-польски chlebek świętojański.
Интересно, кроме того, отметить, что ни повествование Воланда, ни сновидение Ивана не
становятся в романе объектами изображения: их выделенность в отдельные главы ситуируют их
не на уровне моделируемых и опровергаемых нарраций (как это имеет место по отношению к
упоминаемым в романе 'бытовым' жанрам-'сводкам'), а на уровне 'излагаемой' в них реальности.
Этим самым с них снимается искажающий (моделирующий) характер «языка наррации» и созда-
ется иллюзия их 'безъязыковости' и 'текстовости' самой истории. Роман Мастера на этом фоне
представляется тождественным истории или историей, которая самостоятельно воплотилась в
текст, а Мастеру отводится место самоартикулирующего субъекта-истории. В этом смысле он
родственен средневековому мастеру-иконописцу, который не столько сам пишет икону, сколько
является проявителем самопишущейся (обнаруживающейся через художника) иконы. Поэтому,
видимо, он в романе безымянен, с одной стороны, а с другой — не 'сочинитель', не «писатель».
96
Смирнов говорит здесь об известном положении Якобсона, которое было им прокоммен-
тировано несколько раньше (с. 266-267):
«[...] Р. О. Якобсон [Jakobson 1960, р. 385] имел все основания рассматривать стихотворную
речь как проектирование оси селекции на ось комбинации, хотя эта формулировка и требует уточ-
нений [...]. Производимая стихотворной речью селекция какого-то элемента (пусть им будет слово
перебор) автоматически тянет за собой экспликацию на синтагматической оси той парадигмы,
к которой он принадлежит (перебор, переборчик [в разбираемом примере из народной
песни: "Перебор, переборчик мой, Перебор серебряный!" — Е. Ф.]). Текст попадает в парадигма-
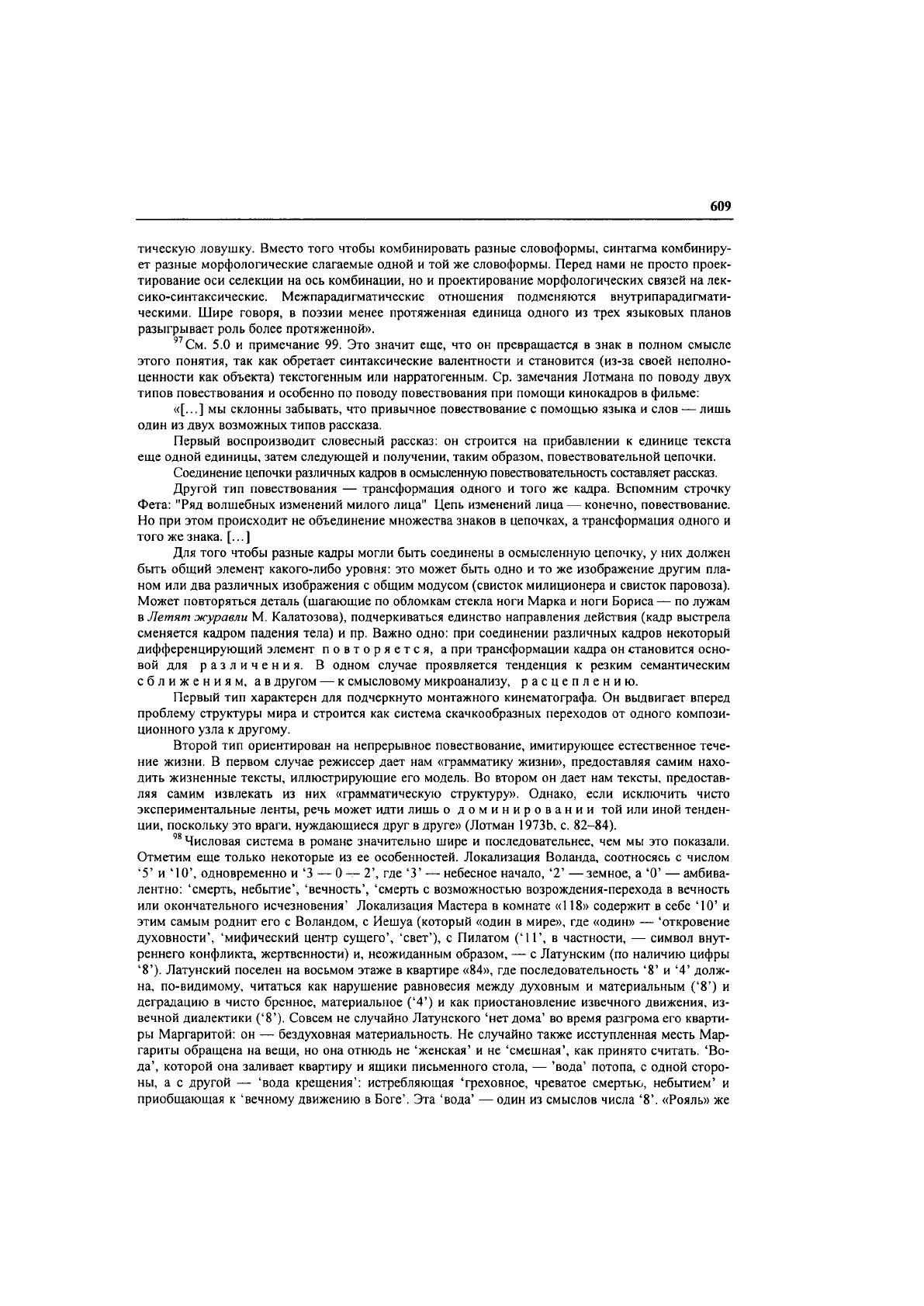
609
тическую ловушку. Вместо того чтобы комбинировать разные словоформы, синтагма комбиниру-
ет разные морфологические слагаемые одной и той же словоформы. Перед нами не просто проек-
тирование оси селекции на ось комбинации, но и проектирование морфологических связей на лек-
сико-синтаксические. Межпарадигматические отношения подменяются внутрипарадигмати-
ческими. Шире говоря, в поэзии менее протяженная единица одного из трех языковых планов
разыгрывает роль более протяженной».
97
См. 5.0 и примечание 99. Это значит еще, что он превращается в знак в полном смысле
этого понятия, так как обретает синтаксические валентности и становится (из-за своей неполно-
ценности как объекта) текстогенным или нарратогенным. Ср. замечания Лотмана по поводу двух
типов повествования и особенно по поводу повествования при помощи кинокадров в фильме:
«[...] мы склонны забывать, что привычное повествование с помощью языка и слов — лишь
один из двух возможных типов рассказа.
Первый воспроизводит словесный рассказ: он строится на прибавлении к единице текста
еще одной единицы, затем следующей и получении, таким образом, повествовательной цепочки.
Соединение цепочки различных кадров в осмысленную повествовательность составляет рассказ.
Другой тип повествования — трансформация одного и того же кадра. Вспомним строчку
Фета: "Ряд волшебных изменений милого лица" Цепь изменений лица — конечно, повествование.
Но при этом происходит не объединение множества знаков в цепочках, а трансформация одного и
того же знака. [...]
Для того чтобы разные кадры могли быть соединены в осмысленную цепочку, у них должен
быть общий элемент какого-либо уровня: это может быть одно и то же изображение другим пла-
ном или два различных изображения с общим модусом (свисток милиционера и свисток паровоза).
Может повторяться деталь (шагающие по обломкам стекла ноги Марка и ноги Бориса— по лужам
в Летят журавли М. Калатозова), подчеркиваться единство направления действия (кадр выстрела
сменяется кадром падения тела) и пр. Важно одно: при соединении различных кадров некоторый
дифференцирующий элемент повторяется, а при трансформации кадра он становится осно-
вой для различения. В одном случае проявляется тенденция к резким семантическим
сближениям, ав другом — к смысловому микроанализу, расцеплению.
Первый тип характерен для подчеркнуто монтажного кинематографа. Он выдвигает вперед
проблему структуры мира и строится как система скачкообразных переходов от одного компози-
ционного узла к другому.
Второй тип ориентирован на непрерывное повествование, имитирующее естественное тече-
ние жизни. В первом случае режиссер дает нам «грамматику жизни», предоставляя самим нахо-
дить жизненные тексты, иллюстрирующие его модель. Во втором он дает нам тексты, предостав-
ляя самим извлекать из них «грамматическую структуру». Однако, если исключить чисто
экспериментальные ленты, речь может идти лишь о доминировании той или иной тенден-
ции, поскольку это враги, нуждающиеся друг в друге» (Лотман 1973b, с. 82-84).
98
Числовая система в романе значительно шире и последовательнее, чем мы это показали.
Отметим еще только некоторые из ее особенностей. Локализация Воланда, соотносясь с числом
'5' и 40', одновременно и '3 — 0 — 2', где '3' — небесное начало, '2' — земное, а 'O' — амбива-
лентно: 'смерть, небытие', 'вечность', 'смерть с возможностью возрождения-перехода в вечность
или окончательного исчезновения' Локализация Мастера в комнате «118» содержит в себе '10' и
этим самым роднит его с Воландом, с Иешуа (который «один в мире», где «один» — 'откровение
духовности', 'мифический центр сущего', 'свет'), с Пилатом ('H', в частности, — символ внут-
реннего конфликта, жертвенности) и, неожиданным образом, — с Латунским (по наличию цифры
'8'). Латунский поселен на восьмом этаже в квартире «84», где последовательность '8' и '4' долж-
на, по-видимому, читаться как нарушение равновесия между духовным и материальным ('8') и
деградацию в чисто бренное, материальное ('4') и как приостановление извечного движения, из-
вечной диалектики ('8'). Совсем не случайно Латунского 'нет дома' во время разгрома его кварти-
ры Маргаритой: он — бездуховная материальность. Не случайно также исступленная месть Мар-
гариты обращена на вещи, но она отнюдь не 'женская' и не 'смешная', как принято считать. 'Во-
да', которой она заливает квартиру и ящики письменного стола, — 'вода' потопа, с одной сторо-
ны, а с другой — 'вода крещения': истребляющая 'греховное, чреватое смертью, небытием' и
приобщающая к 'вечному движению в Боге'. Эта 'вода' — один из смыслов числа '8'. «Рояль» же
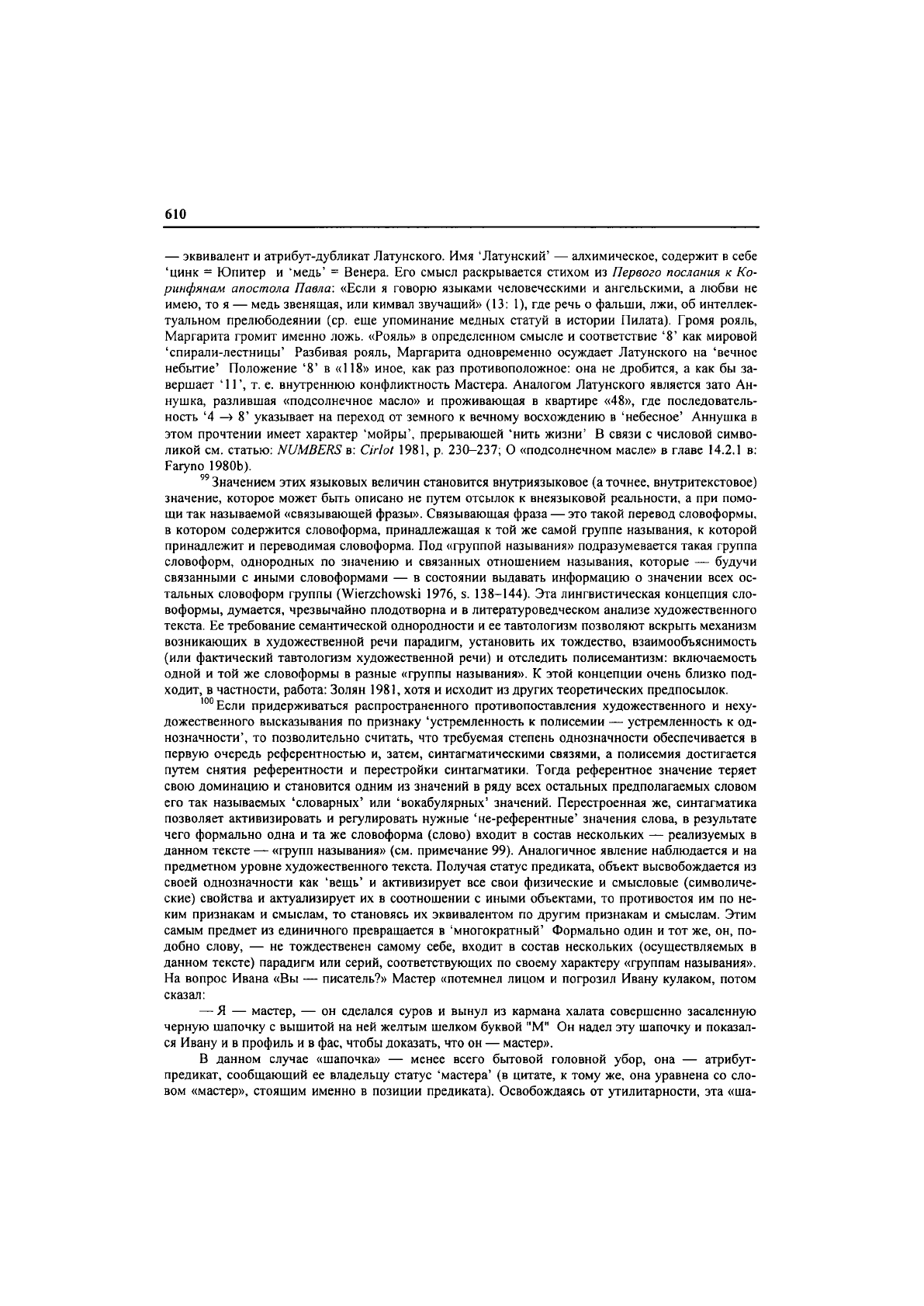
610
— эквивалент и атрибут-дубликат Латунского. Имя 'Латунский' — алхимическое, содержит в себе
'цинк = Юпитер и 'медь' = Венера. Его смысл раскрывается стихом из Первого послания к Ко-
ринфянам апостола Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий» (13: 1), где речь о фальши, лжи, об интеллек-
туальном прелюбодеянии (ср. еще упоминание медных статуй в истории Пилата). Громя рояль,
Маргарита громит именно ложь. «Рояль» в определенном смысле и соответствие '8' как мировой
'спирали-лестницы' Разбивая рояль, Маргарита одновременно осуждает Латунского на 'вечное
небытие' Положение '8' в «118» иное, как раз противоположное: она не дробится, а как бы за-
вершает '1 Г, т. е. внутреннюю конфликтность Мастера. Аналогом Латунского является зато Ан-
нушка, разлившая «подсолнечное масло» и проживающая в квартире «48», где последователь-
ность '4 —> 8' указывает на переход от земного к вечному восхождению в 'небесное' Аннушка в
этом прочтении имеет характер 'мойры', прерывающей 'нить жизни' В связи с числовой симво-
ликой см. статью: NUMBERS в: Cirlot 1981, р. 230-237; О «подсолнечном масле» в главе 14.2.1 в:
Faryno 1980b).
99
Значением этих языковых величин становится внутриязыковое (а точнее, внутритекстовое)
значение, которое может быть описано не путем отсылок к внеязыковой реальности, а при помо-
щи так называемой «связывающей фразы». Связывающая фраза — это такой перевод словоформы,
в котором содержится словоформа, принадлежащая к той же самой группе называния, к которой
принадлежит и переводимая словоформа. Под «группой называния» подразумевается такая группа
словоформ, однородных по значению и связанных отношением называния, которые — будучи
связанными с иными словоформами — в состоянии выдавать информацию о значении всех ос-
тальных словоформ группы (Wierzchowski 1976, s. 138-144). Эта лингвистическая концепция сло-
воформы, думается, чрезвычайно плодотворна и в литературоведческом анализе художественного
текста. Ее требование семантической однородности и ее тавтологизм позволяют вскрыть механизм
возникающих в художественной речи парадигм, установить их тождество, взаимообъяснимость
(или фактический тавтологизм художественной речи) и отследить полисемантизм: включаемость
одной и той же словоформы в разные «группы называния». К этой концепции очень близко под-
ходит, в частности, работа: Золян 1981, хотя и исходит из других теоретических предпосылок.
100
Если придерживаться распространенного противопоставления художественного и неху-
дожественного высказывания по признаку 'устремленность к полисемии — устремленность к од-
нозначности', то позволительно считать, что требуемая степень однозначности обеспечивается в
первую очередь референтностью и, затем, синтагматическими связями, а полисемия достигается
путем снятия референтности и перестройки синтагматики. Тогда референтное значение теряет
свою доминацию и становится одним из значений в ряду всех остальных предполагаемых словом
его так называемых 'словарных' или 'вокабулярных' значений. Перестроенная же, синтагматика
позволяет активизировать и регулировать нужные 'не-референтные' значения слова, в результате
чего формально одна и та же словоформа (слово) входит в состав нескольких — реализуемых в
данном тексте — «групп называния» (см. примечание 99). Аналогичное явление наблюдается и на
предметном уровне художественного текста. Получая статус предиката, объект высвобождается из
своей однозначности как 'вещь' и активизирует все свои физические и смысловые (символиче-
ские) свойства и актуализирует их в соотношении с иными объектами, то противостоя им по не-
ким признакам и смыслам, то становясь их эквивалентом по другим признакам и смыслам. Этим
самым предмет из единичного превращается в 'многократный' Формально один и тот же, он, по-
добно слову, — не тождественен самому себе, входит в состав нескольких (осуществляемых в
данном тексте) парадигм или серий, соответствующих по своему характеру «группам называния».
На вопрос Ивана «Вы — писатель?» Мастер «потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом
сказал:
— Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную
черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой "М" Он надел эту шапочку и показал-
ся Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он — мастер».
В данном случае «шапочка» — менее всего бытовой головной убор, она — атрибут-
предикат, сообщающий ее владельцу статус 'мастера' (в цитате, к тому же, она уравнена со сло-
вом «мастер», стоящим именно в позиции предиката). Освобождаясь от утилитарности, эта «ша-
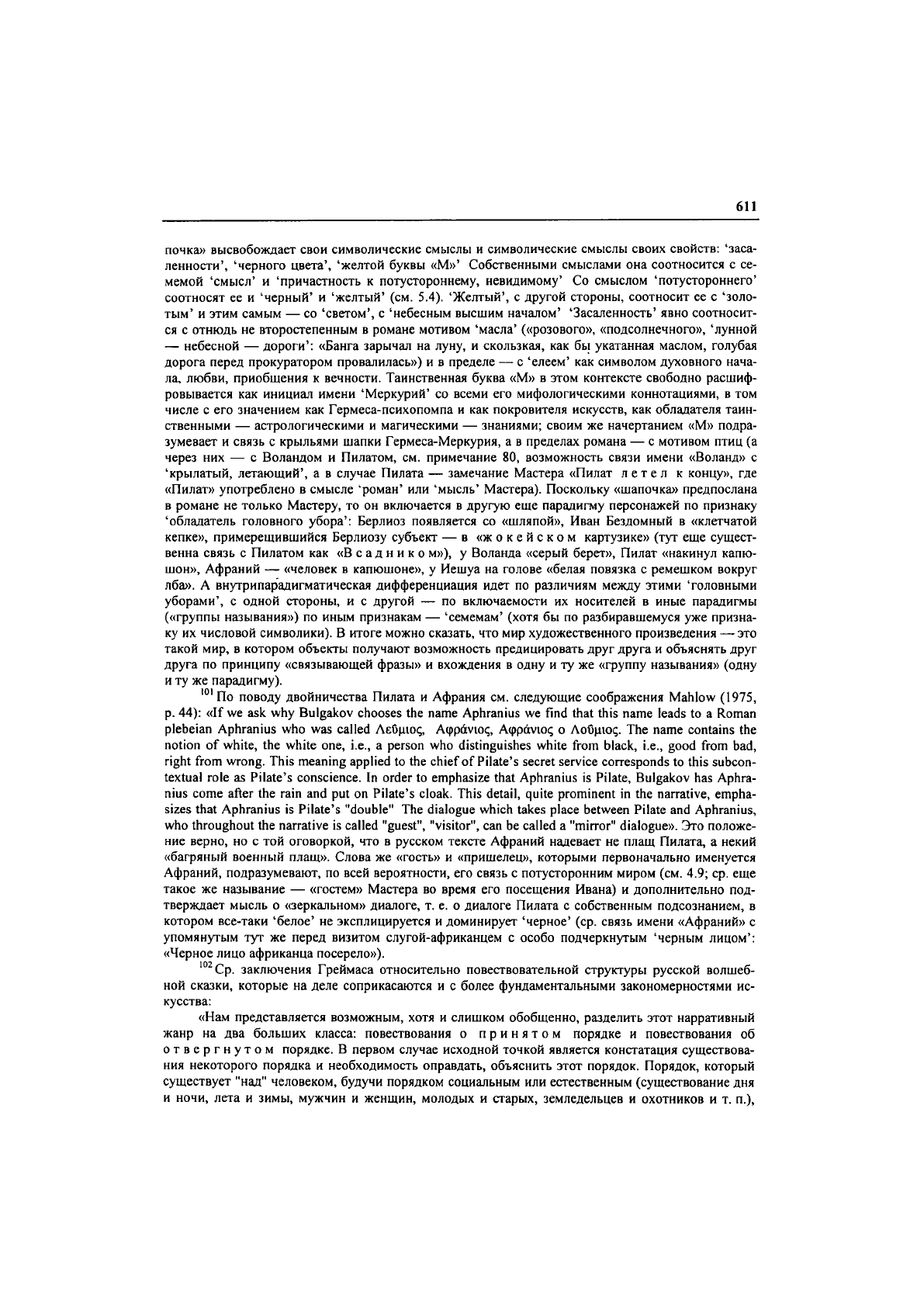
611
почка» высвобождает свои символические смыслы и символические смыслы своих свойств: 'заса-
ленное™', 'черного цвета', 'желтой буквы «М»' Собственными смыслами она соотносится с се-
мемой 'смысл' и 'причастность к потустороннему, невидимому' Со смыслом 'потустороннего'
соотносят ее и 'черный' и 'желтый' (см. 5.4). 'Желтый', с другой стороны, соотносит ее с 'золо-
тым' и этим самым — со 'светом', с 'небесным высшим началом' 'Засаленность' явно соотносит-
ся с отнюдь не второстепенным в романе мотивом 'масла' («розового», «подсолнечного», 'лунной
— небесной — дороги': «Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая
дорога перед прокуратором провалилась») и в пределе — с 'елеем' как символом духовного нача-
ла, любви, приобщения к вечности. Таинственная буква «М» в этом контексте свободно расшиф-
ровывается как инициал имени 'Меркурий' со всеми его мифологическими коннотациями, в том
числе с его значением как Гермеса-психопомпа и как покровителя искусств, как обладателя таин-
ственными — астрологическими и магическими — знаниями; своим же начертанием «М» подра-
зумевает и связь с крыльями шапки Гермеса-Меркурия, а в пределах романа — с мотивом птиц (а
через них — с Воландом и Пилатом, см. примечание 80, возможность связи имени «Воланд» с
'крылатый, летающий', а в случае Пилата — замечание Мастера «Пилат летел к концу», где
«Пилат» употреблено в смысле 'роман' или 'мысль' Мастера). Поскольку «шапочка» предпослана
в романе не только Мастеру, то он включается в другую еще парадигму персонажей по признаку
'обладатель головного убора': Берлиоз появляется со «шляпой», Иван Бездомный в «клетчатой
кепке», примерещившийся Берлиозу субъект — в «жокейском картузике» (тут еще сущест-
венна связь с Пилатом как «В с а д н и к о м»), у Воланда «серый берет», Пилат «накинул капю-
шон», Афраний — «человек в капюшоне», у Иешуа на голове «белая повязка с ремешком вокруг
лба». А внутрипарадигматическая дифференциация идет по различиям между этими 'головными
уборами', с одной стороны, и с другой — по включаемости их носителей в иные парадигмы
(«группы называния») по иным признакам — 'семемам' (хотя бы по разбиравшемуся уже призна-
ку их числовой символики). В итоге можно сказать, что мир художественного произведения — это
такой мир, в котором объекты получают возможность предицировать друг друга и объяснять друг
друга по принципу «связывающей фразы» и вхождения в одну и ту же «группу называния» (одну
и ту же парадигму).
101
По поводу двойничества Пилата и Афрания см. следующие соображения Mahlow (1975,
р. 44): «If we ask why Bulgakov chooses the name Aphranius we find that this name leads to a Roman
plebeian Aphranius who was called AsOjiioę, A<ppdvioę, Acppdwoę o Aofijiioę. The name contains the
notion of white, the white one, i.e., a person who distinguishes white from black, i.e., good from bad,
right from wrong. This meaning applied to the chief of Pilate's secret service corresponds to this subcon-
textual role as Pilate's conscience. In order to emphasize that Aphranius is Pilate, Bulgakov has Aphra-
nius come after the rain and put on Pilate's cloak. This detail, quite prominent in the narrative, empha-
sizes that Aphranius is Pilate's "double" The dialogue which takes place between Pilate and Aphranius,
who throughout the narrative is called "guest", "visitor", can be called a "mirror" dialogue». Это положе-
ние верно, но с той оговоркой, что в русском тексте Афраний надевает не плащ Пилата, а некий
«багряный военный плащ». Слова же «гость» и «пришелец», которыми первоначально именуется
Афраний, подразумевают, по всей вероятности, его связь с потусторонним миром (см. 4.9; ср. еще
такое же называние — «гостем» Мастера во время его посещения Ивана) и дополнительно под-
тверждает мысль о «зеркальном» диалоге, т. е. о диалоге Пилата с собственным подсознанием, в
котором все-таки 'белое' не эксплицируется и доминирует 'черное' (ср. связь имени «Афраний» с
упомянутым тут же перед визитом слугой-африканцем с особо подчеркнутым 'черным лицом':
«Черное лицо африканца посерело»).
102
Ср. заключения Греймаса относительно повествовательной структуры русской волшеб-
ной сказки, которые на деле соприкасаются и с более фундаментальными закономерностями ис-
кусства:
«Нам представляется возможным, хотя и слишком обобщенно, разделить этот нарративный
жанр на два больших класса: повествования о принятом порядке и повествования об
отвергнутом порядке. В первом случае исходной точкой является констатация существова-
ния некоторого порядка и необходимость оправдать, объяснить этот порядок. Порядок, который
существует "над" человеком, будучи порядком социальным или естественным (существование дня
и ночи, лета и зимы, мужчин и женщин, молодых и старых, земледельцев и охотников и т. п.),
