Фарино Е. Введение в литературоведение
Подождите немного. Документ загружается.

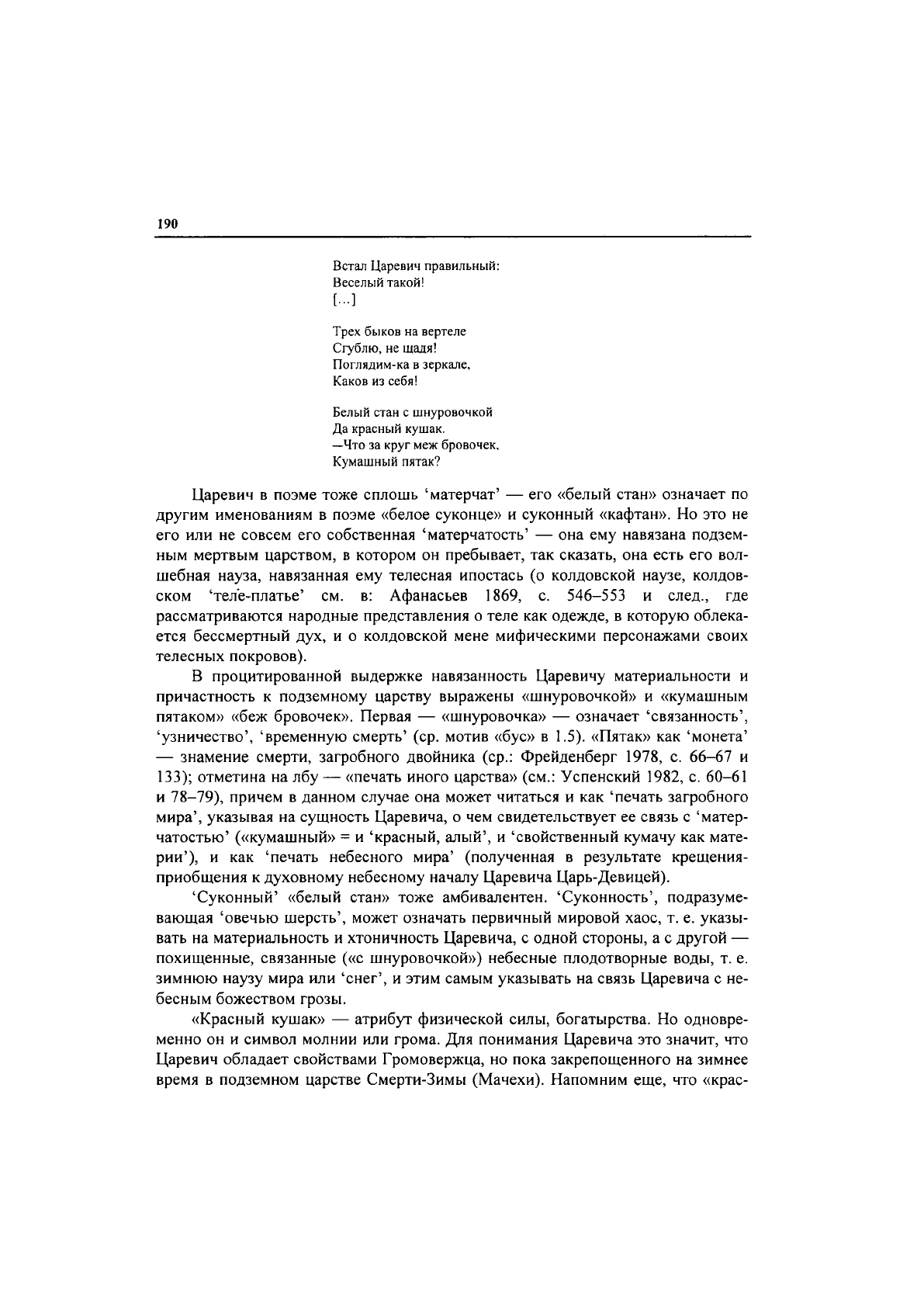
190
Встал Царевич правильный:
Веселый такой!
[...]
Трех быков на вертеле
Сгублю, не щадя!
Поглядим-ка в зеркале,
Каков из себя!
Белый стан с шнуровочкой
Да красный кушак.
—Что за круг меж бровочек,
Кумашный пятак?
Царевич в поэме тоже сплошь 'матерчат' — его «белый стан» означает по
другим именованиям в поэме «белое суконце» и суконный «кафтан». Но это не
его или не совсем его собственная 'матерчатость' — она ему навязана подзем-
ным мертвым царством, в котором он пребывает, так сказать, она есть его вол-
шебная науза, навязанная ему телесная ипостась (о колдовской наузе, колдов-
ском 'теле-платье' см. в: Афанасьев 1869, с. 546-553 и след., где
рассматриваются народные представления о теле как одежде, в которую облека-
ется бессмертный дух, и о колдовской мене мифическими персонажами своих
телесных покровов).
В процитированной выдержке навязанность Царевичу материальности и
причастность к подземному царству выражены «шнуровочкой» и «кумашным
пятаком» «беж бровочек». Первая — «шнуровочка» — означает 'связанность',
'узничество', 'временную смерть' (ср. мотив «бус» в 1.5). «Пятак» как 'монета'
— знамение смерти, загробного двойника (ср.: Фрейденберг 1978, с. 66-67 и
133); отметина на лбу — «печать иного царства» (см.: Успенский 1982, с. 60-61
и 78-79), причем в данном случае она может читаться и как 'печать загробного
мира', указывая на сущность Царевича, о чем свидетельствует ее связь с 'матер-
чатостью' («кумашный» = и 'красный, алый', и 'свойственный кумачу как мате-
рии'), и как 'печать небесного мира' (полученная в результате крещения-
приобщения к духовному небесному началу Царевича Царь-Девицей).
'Суконный' «белый стан» тоже амбивалентен. 'Суконность', подразуме-
вающая 'овечью шерсть', может означать первичный мировой хаос, т. е. указы-
вать на материальность и хтоничность Царевича, с одной стороны, а с другой —
похищенные, связанные («с шнуровочкой») небесные плодотворные воды, т. е.
зимнюю наузу мира или 'снег', и этим самым указывать на связь Царевича с не-
бесным божеством грозы.
«Красный кушак» — атрибут физической силы, богатырства. Но одновре-
менно он и символ молнии или грома. Для понимания Царевича это значит, что
Царевич обладает свойствами Громовержца, но пока закрепощенного на зимнее
время в подземном царстве Смерти-Зимы (Мачехи). Напомним еще, что «крас-

191
ный кушак» перекликается с «красной» же и одновременно «огненной»
«каской» Царь-Девицы-'Архангела', правящей небесными грозовыми силами.
В результате «костюм» Царевича занимает промежуточную позицию меж-
ду «костюмом» Царь-Девицы и «костюмами» Мачехи: он отражает и духовную
и материальную сущность Царевича, а точнее, являет собой 'материальность,
сковывающую духовное начало' (детальный разбор поэмы см. в: Faryno 1985b).
Царевич как ипостась Громовержца обладает креативными способностями. За-
дача Мачехи — соблазнить его, завладеть телесным началом, что означало бы
для Царевича гибель его начала духовного. Задача Царь-Девицы как раз проти-
воположная — освободить духовное начало Царевича ото всякой материально-
сти, возвести его в ранг чистого духа, что для Царевича означало бы, в свою
очередь, его гибель физическую, потерю всякой материальности, земной ипо-
стаси. И так и построен сюжет Царь-Девицы.
Непосредственно в поэме Царь-Девица смысл костюмов ее персонажей ни-
где не эксплицируется. Костюмы эти рассчитаны на опознание читателем. Но
это не свойство цветаевской поэтики, а свойство любого произведения искусст-
ва. На наиболее поверхностном уровне опознаваемый костюм «выручает» ху-
дожника — в живописи, в спектакле он позволяет не прибегать к сопровождаю-
щим словесным комментариям, а в фильме или литературе он сокращает
распространенную экспозицию, позволяет обойти вербальную психологизацию,
динамизировать события, повысить впечатлительность демонстрируемого мира.
На других уровнях костюм является внутренним компонентом мира, обладаю-
щим собственным значением и поэтому сразу же превращает мир произведения
в модель мира — социального в одних случаях, космогонического (как в Царь-
Девице) — в других.
В Прологе романа Леонова Вор (см. выдержку дальше, в главе Метонимия)
действующие лица обозначены по признаку их одежды: «демисезон» и «мили-
цейская шинель». Тут мы имеем несколько функций костюма. Одна из них —
вызвать впечатление непосредственного контакта читателя с повествуемым ми-
ром: о появляющихся героях мы ничего не знаем и определяем их по первому
признаку (как и в жизни), т. е. по одежде. Одновременно, конечно, возникает не
только эффект «незадуманности» произведения, но эффект повышения любо-
пытства со стороны читателя. Дальнейший контекст выясняет, что «демисезон»
— писатель, пришедший сверять сюда свои творческие замыслы с самой дейст-
вительностью. Костюмы получают в этом случае функцию манекенов, которые
со временем должны превратиться в полноценных живых персонажей. Посколь-
ку, однако, в виде костюма выведен в начале романа и внетекстовый мир (сам
писатель Фирсов и встреченный милиционер), то это указывает и на фиктив-
ность и схематичность также и данного мира: будучи сочинителем, Фирсов сам
подлежит еще сочинению. В данном случае мы имеем дело с семиотической
функцией в ее чистом виде: костюм переводит героя в ранг «текста».
Нечто аналогичное происходит в романе Бесы со Степаном Трофимовичем
Верховенским, которому Варвара Петровна Ставрогина сочинила специальный
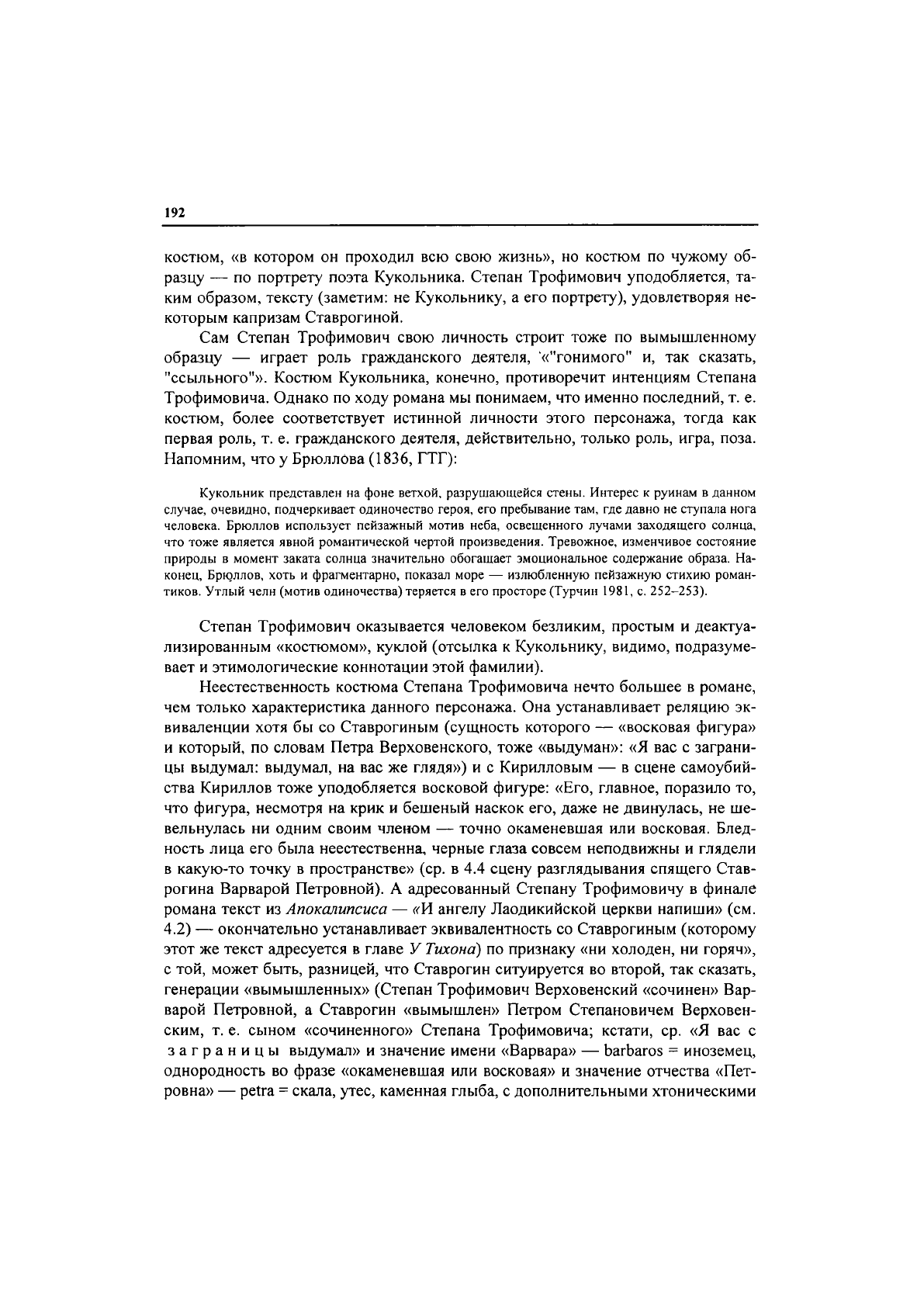
192
костюм, «в котором он проходил всю свою жизнь», но костюм по чужому об-
разцу — по портрету поэта Кукольника. Степан Трофимович уподобляется, та-
ким образом, тексту (заметим: не Кукольнику, а его портрету), удовлетворяя не-
которым капризам Ставрогиной.
Сам Степан Трофимович свою личность строит тоже по вымышленному
образцу — играет роль гражданского деятеля, «"гонимого" и, так сказать,
"ссыльного"». Костюм Кукольника, конечно, противоречит интенциям Степана
Трофимовича. Однако по ходу романа мы понимаем, что именно последний, т. е.
костюм, более соответствует истинной личности этого персонажа, тогда как
первая роль, т. е. гражданского деятеля, действительно, только роль, игра, поза.
Напомним, что у Брюллова (1836, ГТГ):
Кукольник представлен на фоне ветхой, разрушающейся стены. Интерес к руинам в данном
случае, очевидно, подчеркивает одиночество героя, его пребывание там, где давно не ступала нога
человека. Брюллов использует пейзажный мотив неба, освещенного лучами заходящего солнца,
что тоже является явной романтической чертой произведения. Тревожное, изменчивое состояние
природы в момент заката солнца значительно обогащает эмоциональное содержание образа. На-
конец, Брюллов, хоть и фрагментарно, показал море — излюбленную пейзажную стихию роман-
тиков. Утлый челн (мотив одиночества) теряется в его просторе (Турчин 1981, с. 252-253).
Степан Трофимович оказывается человеком безликим, простым и деактуа-
лизированным «костюмом», куклой (отсылка к Кукольнику, видимо, подразуме-
вает и этимологические коннотации этой фамилии).
Неестественность костюма Степана Трофимовича нечто большее в романе,
чем только характеристика данного персонажа. Она устанавливает реляцию эк-
виваленции хотя бы со Ставрогиным (сущность которого — «восковая фигура»
и который, по словам Петра Верховенского, тоже «выдуман»: «Я вас с заграни-
цы выдумал: выдумал, на вас же глядя») и с Кирилловым — в сцене самоубий-
ства Кириллов тоже уподобляется восковой фигуре: «Его, главное, поразило то,
что фигура, несмотря на крик и бешеный наскок его, даже не двинулась, не ше-
вельнулась ни одним своим членом — точно окаменевшая или восковая. Блед-
ность лица его была неестественна, черные глаза совсем неподвижны и глядели
в какую-то точку в пространстве» (ср. в 4.4 сцену разглядывания спящего Став-
рогина Варварой Петровной). А адресованный Степану Трофимовичу в финале
романа текст из Апокалипсиса — «И ангелу Лаодикийской церкви напиши» (см.
4.2) — окончательно устанавливает эквивалентность со Ставрогиным (которому
этот же текст адресуется в главе У Тихона) по признаку «ни холоден, ни горяч»,
с той, может быть, разницей, что Ставрогин ситуируется во второй, так сказать,
генерации «вымышленных» (Степан Трофимович Верховенский «сочинен» Вар-
варой Петровной, а Ставрогин «вымышлен» Петром Степановичем Верховен-
ским, т. е. сыном «сочиненного» Степана Трофимовича; кстати, ср. «Я вас с
заграницы выдумал» и значение имени «Варвара» — barbaros = иноземец,
однородность во фразе «окаменевшая или восковая» и значение отчества «Пет-
ровна» — petra = скала, утес, каменная глыба, с дополнительными хтоническими
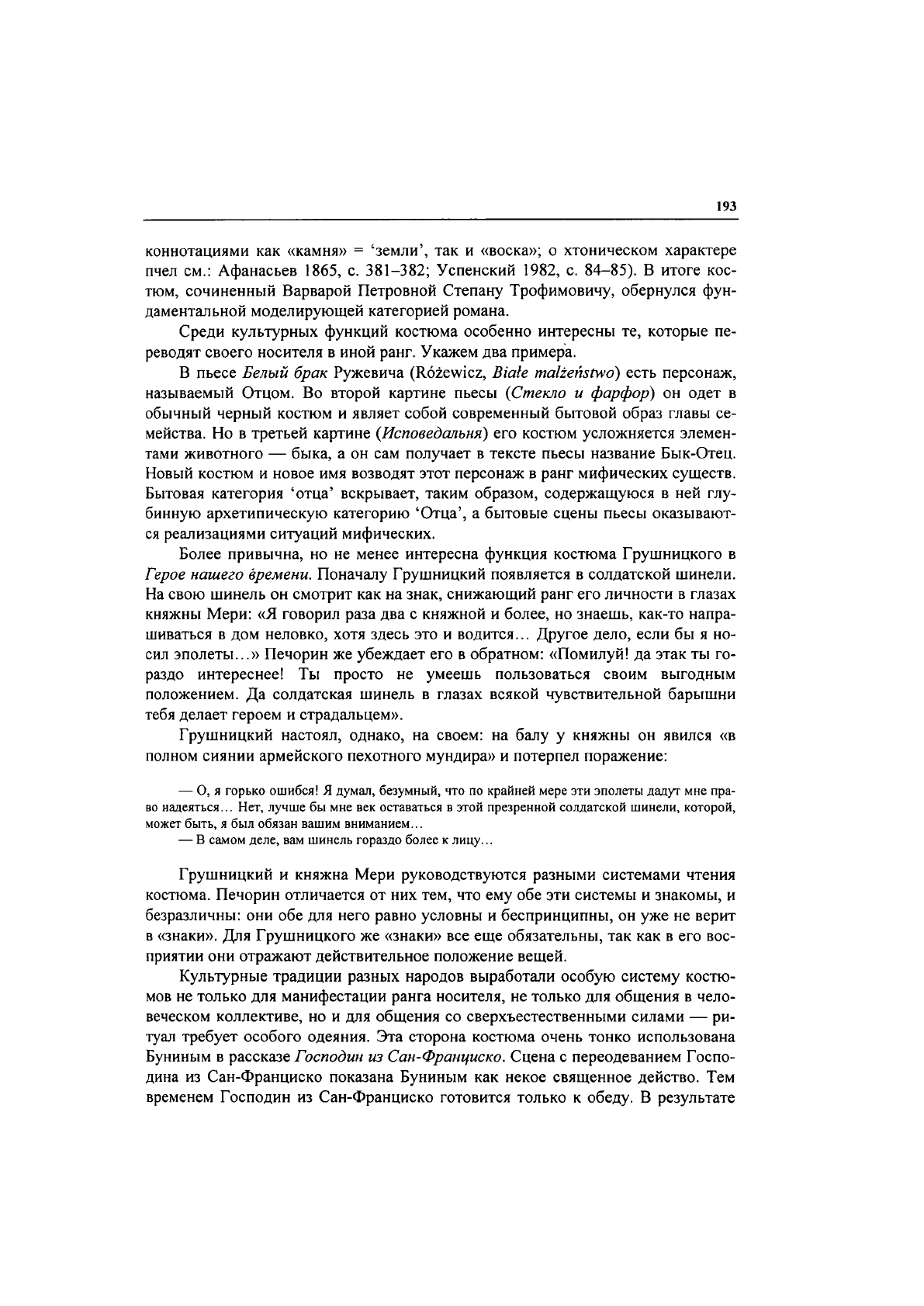
193
коннотациями как «камня» = 'земли', так и «воска»; о хтоническом характере
пчел см.: Афанасьев 1865, с. 381-382; Успенский 1982, с. 84-85). В итоге кос-
тюм, сочиненный Варварой Петровной Степану Трофимовичу, обернулся фун-
даментальной моделирующей категорией романа.
Среди культурных функций костюма особенно интересны те, которые пе-
реводят своего носителя в иной ранг. Укажем два примера.
В пьесе Белый брак Ружевича (Różewicz, Białe małżeństwo) есть персонаж,
называемый Отцом. Во второй картине пьесы (Стекло и фарфор) он одет в
обычный черный костюм и являет собой современный бытовой образ главы се-
мейства. Но в третьей картине {Исповедальня) его костюм усложняется элемен-
тами животного — быка, а он сам получает в тексте пьесы название Бык-Отец.
Новый костюм и новое имя возводят этот персонаж в ранг мифических существ.
Бытовая категория 'отца' вскрывает, таким образом, содержащуюся в ней глу-
бинную архетипическую категорию 'Отца', а бытовые сцены пьесы оказывают-
ся реализациями ситуаций мифических.
Более привычна, но не менее интересна функция костюма Грушницкого в
Герое нашего времени. Поначалу Грушницкий появляется в солдатской шинели.
На свою шинель он смотрит как на знак, снижающий ранг его личности в глазах
княжны Мери: «Я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напра-
шиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я но-
сил эполеты...» Печорин же убеждает его в обратном: «Помилуй! да этак ты го-
раздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным
положением. Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни
тебя делает героем и страдальцем».
Грушницкий настоял, однако, на своем: на балу у княжны он явился «в
полном сиянии армейского пехотного мундира» и потерпел поражение:
— О, я горько ошибся! Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне пра-
во надеяться... Нет, лучше бы мне век оставаться в этой презренной солдатской шинели, которой,
может быть, я был обязан вашим вниманием...
— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...
Грушницкий и княжна Мери руководствуются разными системами чтения
костюма. Печорин отличается от них тем, что ему обе эти системы и знакомы, и
безразличны: они обе для него равно условны и беспринципны, он уже не верит
в «знаки». Для Грушницкого же «знаки» все еще обязательны, так как в его вос-
приятии они отражают действительное положение вещей.
Культурные традиции разных народов выработали особую систему костю-
мов не только для манифестации ранга носителя, не только для общения в чело-
веческом коллективе, но и для общения со сверхъестественными силами — ри-
туал требует особого одеяния. Эта сторона костюма очень тонко использована
Буниным в рассказе Господин из Сан-Франциско. Сцена с переодеванием Госпо-
дина из Сан-Франциско показана Буниным как некое священное действо. Тем
временем Господин из Сан-Франциско готовится только к обеду. В результате
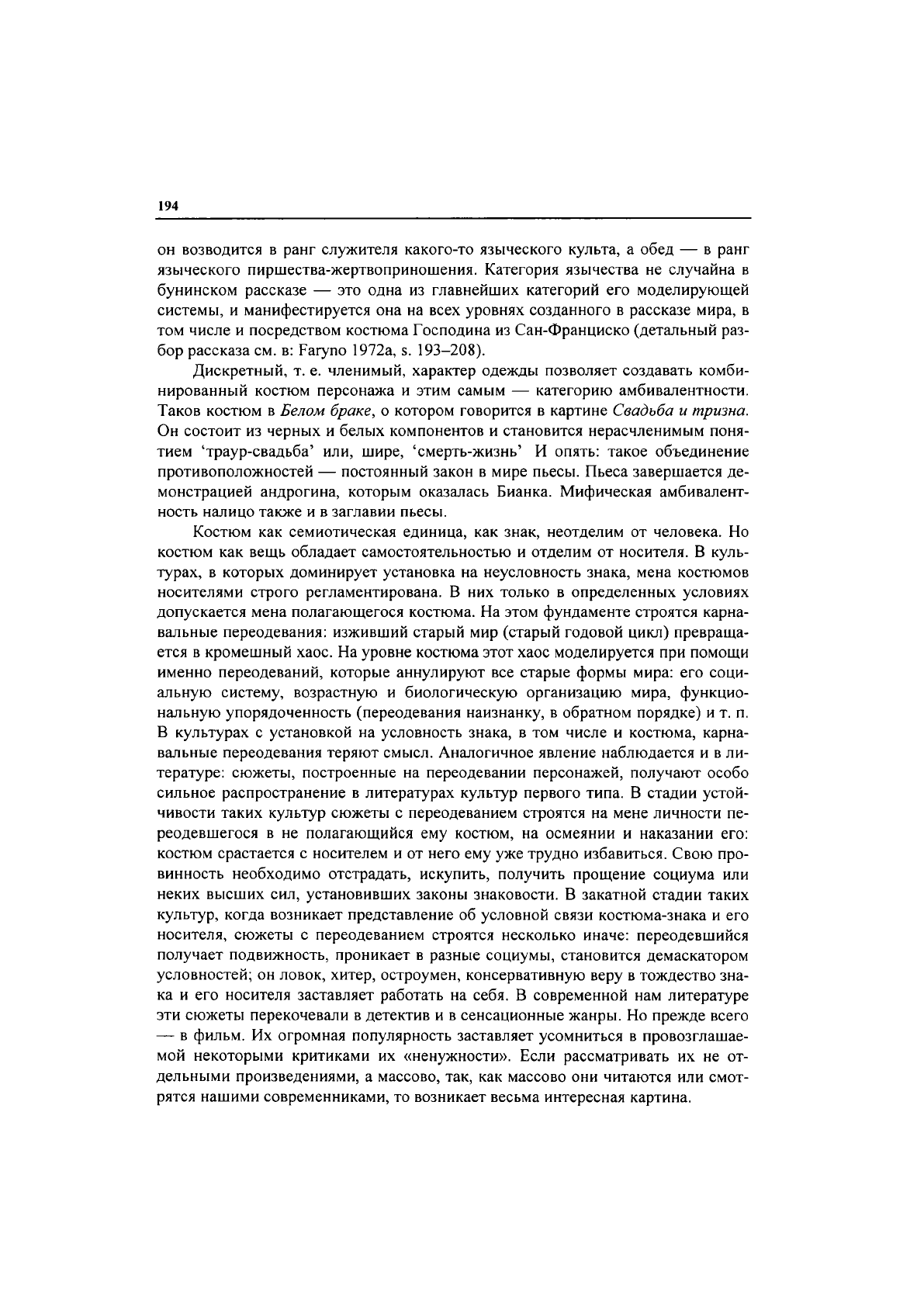
194
он возводится в ранг служителя какого-то языческого культа, а обед — в ранг
языческого пиршества-жертвоприношения. Категория язычества не случайна в
бунинском рассказе — это одна из главнейших категорий его моделирующей
системы, и манифестируется она на всех уровнях созданного в рассказе мира, в
том числе и посредством костюма Господина из Сан-Франциско (детальный раз-
бор рассказа см. в: Faryno 1972а, s. 193-208).
Дискретный, т. е. членимый, характер одежды позволяет создавать комби-
нированный костюм персонажа и этим самым — категорию амбивалентности.
Таков костюм в Белом браке, о котором говорится в картине Свадьба и тризна.
Он состоит из черных и белых компонентов и становится нерасчленимым поня-
тием 'траур-свадьба' или, шире, 'смерть-жизнь' И опять: такое объединение
противоположностей — постоянный закон в мире пьесы. Пьеса завершается де-
монстрацией андрогина, которым оказалась Бианка. Мифическая амбивалент-
ность налицо также и в заглавии пьесы.
Костюм как семиотическая единица, как знак, неотделим от человека. Но
костюм как вещь обладает самостоятельностью и отделим от носителя. В куль-
турах, в которых доминирует установка на неусловность знака, мена костюмов
носителями строго регламентирована. В них только в определенных условиях
допускается мена полагающегося костюма. На этом фундаменте строятся карна-
вальные переодевания: изживший старый мир (старый годовой цикл) превраща-
ется в кромешный хаос. На уровне костюма этот хаос моделируется при помощи
именно переодеваний, которые аннулируют все старые формы мира: его соци-
альную систему, возрастную и биологическую организацию мира, функцио-
нальную упорядоченность (переодевания наизнанку, в обратном порядке) и т. п.
В культурах с установкой на условность знака, в том числе и костюма, карна-
вальные переодевания теряют смысл. Аналогичное явление наблюдается и в ли-
тературе: сюжеты, построенные на переодевании персонажей, получают особо
сильное распространение в литературах культур первого типа. В стадии устой-
чивости таких культур сюжеты с переодеванием строятся на мене личности пе-
реодевшегося в не полагающийся ему костюм, на осмеянии и наказании его:
костюм срастается с носителем и от него ему уже трудно избавиться. Свою про-
винность необходимо отстрадать, искупить, получить прощение социума или
неких высших сил, установивших законы знаковости. В закатной стадии таких
культур, когда возникает представление об условной связи костюма-знака и его
носителя, сюжеты с переодеванием строятся несколько иначе: переодевшийся
получает подвижность, проникает в разные социумы, становится демаскатором
условностей; он ловок, хитер, остроумен, консервативную веру в тождество зна-
ка и его носителя заставляет работать на себя. В современной нам литературе
эти сюжеты перекочевали в детектив и в сенсационные жанры. Но прежде всего
— в фильм. Их огромная популярность заставляет усомниться в провозглашае-
мой некоторыми критиками их «ненужности». Если рассматривать их не от-
дельными произведениями, а массово, так, как массово они читаются или смот-
рятся нашими современниками, то возникает весьма интересная картина.
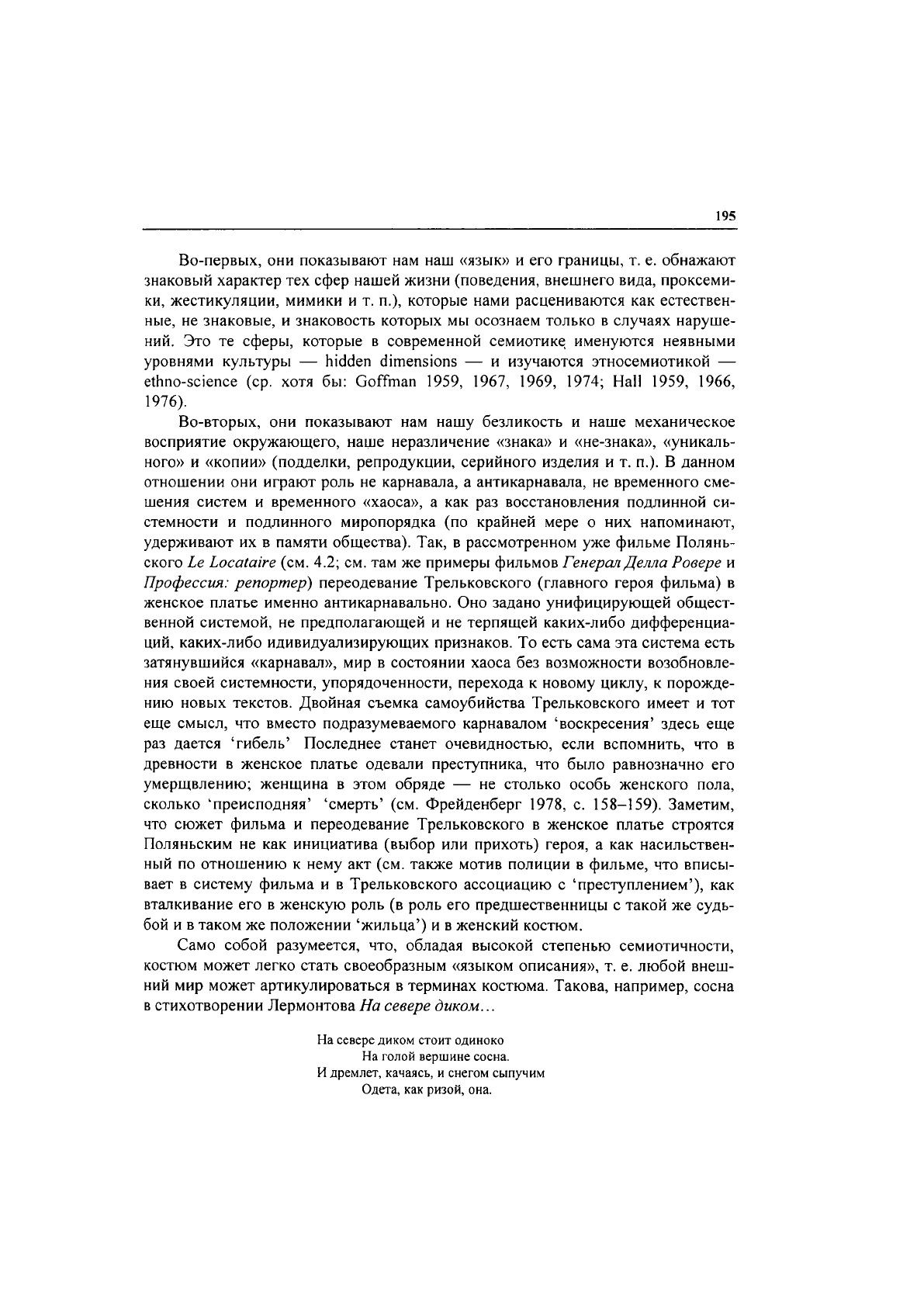
195
Во-первых, они показывают нам наш «язык» и его границы, т. е. обнажают
знаковый характер тех сфер нашей жизни (поведения, внешнего вида, проксеми-
ки, жестикуляции, мимики и т. п.), которые нами расцениваются как естествен-
ные, не знаковые, и знаковость которых мы осознаем только в случаях наруше-
ний. Это те сферы, которые в современной семиотике именуются неявными
уровнями культуры — hidden dimensions — и изучаются этносемиотикой —
ethno-science (ср. хотя бы: Goffman 1959, 1967, 1969, 1974; Hall 1959, 1966,
1976).
Во-вторых, они показывают нам нашу безликость и наше механическое
восприятие окружающего, наше неразличение «знака» и «не-знака», «уникаль-
ного» и «копии» (подделки, репродукции, серийного изделия и т. п.). В данном
отношении они играют роль не карнавала, а антикарнавала, не временного сме-
шения систем и временного «хаоса», а как раз восстановления подлинной си-
стемности и подлинного миропорядка (по крайней мере о них напоминают,
удерживают их в памяти общества). Так, в рассмотренном уже фильме Полянь-
ского Le Locataire (см. 4.2; см. там же примеры фильмов Генерал Делла Ровере и
Профессия: репортер) переодевание Трельковского (главного героя фильма) в
женское платье именно антикарнавально. Оно задано унифицирующей общест-
венной системой, не предполагающей и не терпящей каких-либо дифференциа-
ций, каких-либо идивидуализирующих признаков. То есть сама эта система есть
затянувшийся «карнавал», мир в состоянии хаоса без возможности возобновле-
ния своей системности, упорядоченности, перехода к новому циклу, к порожде-
нию новых текстов. Двойная съемка самоубийства Трельковского имеет и тот
еще смысл, что вместо подразумеваемого карнавалом 'воскресения' здесь еще
раз дается 'гибель' Последнее станет очевидностью, если вспомнить, что в
древности в женское платье одевали преступника, что было равнозначно его
умерщвлению; женщина в этом обряде — не столько особь женского пола,
сколько 'преисподняя' 'смерть' (см. Фрейденберг 1978, с. 158-159). Заметим,
что сюжет фильма и переодевание Трельковского в женское платье строятся
Поляньским не как инициатива (выбор или прихоть) героя, а как насильствен-
ный по отношению к нему акт (см. также мотив полиции в фильме, что вписы-
вает в систему фильма и в Трельковского ассоциацию с 'преступлением'), как
вталкивание его в женскую роль (в роль его предшественницы с такой же судь-
бой и в таком же положении 'жильца') и в женский костюм.
Само собой разумеется, что, обладая высокой степенью семиотичности,
костюм может легко стать своеобразным «языком описания», т. е. любой внеш-
ний мир может артикулироваться в терминах костюма. Такова, например, сосна
в стихотворении Лермонтова На севере диком...
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
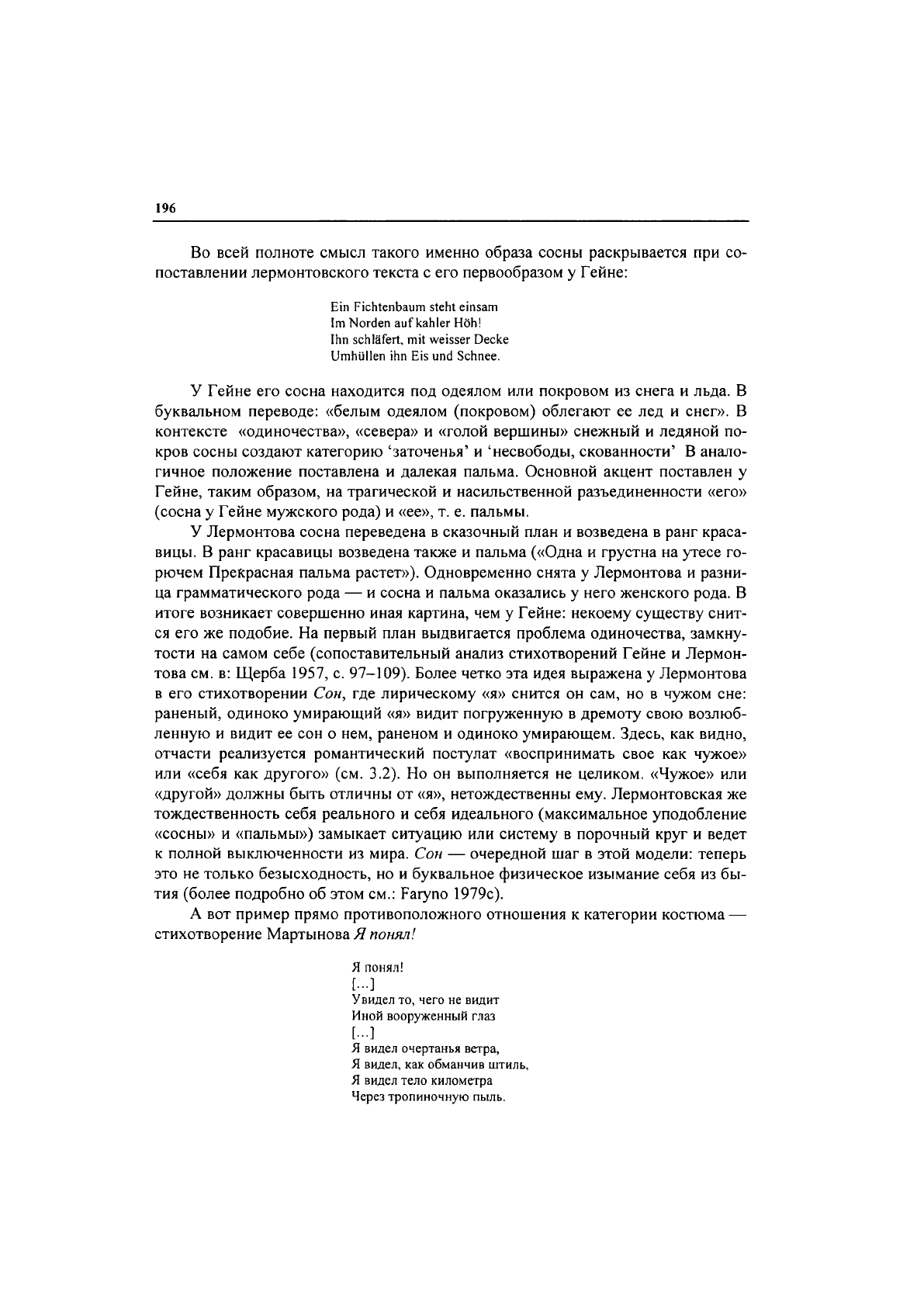
196
Во всей полноте смысл такого именно образа сосны раскрывается при со-
поставлении лермонтовского текста с его первообразом у Гейне:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh!
Ihn schläfert, mit weisser Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
У Гейне его сосна находится под одеялом или покровом из снега и льда. В
буквальном переводе: «белым одеялом (покровом) облегают ее лед и снег». В
контексте «одиночества», «севера» и «голой вершины» снежный и ледяной по-
кров сосны создают категорию 'заточенья' и 'несвободы, скованности' В анало-
гичное положение поставлена и далекая пальма. Основной акцент поставлен у
Гейне, таким образом, на трагической и насильственной разъединенности «его»
(сосна у Гейне мужского рода) и «ее», т. е. пальмы.
У Лермонтова сосна переведена в сказочный план и возведена в ранг краса-
вицы. В ранг красавицы возведена также и пальма («Одна и грустна на утесе го-
рючем Прекрасная пальма растет»). Одновременно снята у Лермонтова и разни-
ца грамматического рода — и сосна и пальма оказались у него женского рода. В
итоге возникает совершенно иная картина, чем у Гейне: некоему существу снит-
ся его же подобие. На первый план выдвигается проблема одиночества, замкну-
тости на самом себе (сопоставительный анализ стихотворений Гейне и Лермон-
това см. в: Щерба 1957, с. 97-109). Более четко эта идея выражена у Лермонтова
в его стихотворении Сон, где лирическому «я» снится он сам, но в чужом сне:
раненый, одиноко умирающий «я» видит погруженную в дремоту свою возлюб-
ленную и видит ее сон о нем, раненом и одиноко умирающем. Здесь, как видно,
отчасти реализуется романтический постулат «воспринимать свое как чужое»
или «себя как другого» (см. 3.2). Но он выполняется не целиком. «Чужое» или
«другой» должны быть отличны от «я», нетождественны ему. Лермонтовская же
тождественность себя реального и себя идеального (максимальное уподобление
«сосны» и «пальмы») замыкает ситуацию или систему в порочный круг и ведет
к полной выключенное™ из мира. Сон — очередной шаг в этой модели: теперь
это не только безысходность, но и буквальное физическое изымание себя из бы-
тия (более подробно об этом см.: Faryno 1979с).
А вот пример прямо противоположного отношения к категории костюма —
стихотворение Мартынова Я понял!
Я понял!
[...]
Увидел то, чего не видит
Иной вооруженный глаз
[-]
Я видел очертанья ветра,
Я видел, как обманчив штиль,
Я видел тело километра
Через тропиночную пыль.
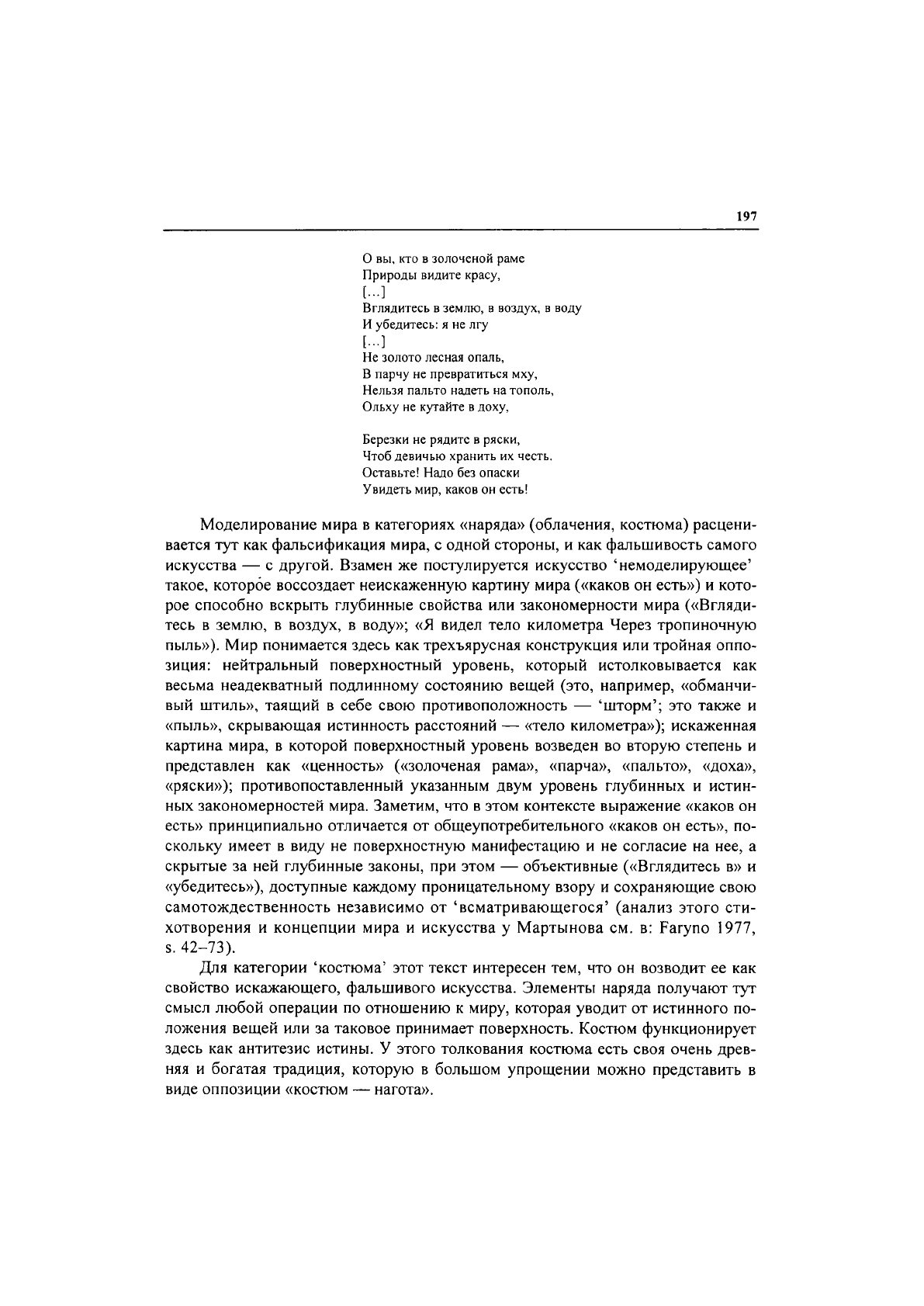
197
О вы, кто в золоченой раме
Природы видите красу,
[-]
Вглядитесь в землю, в воздух, в воду
И убедитесь: я не лгу
[...]
Не золото лесная опаль,
В парчу не превратиться мху,
Нельзя пальто надеть на тополь,
Ольху не кутайте в доху,
Березки не рядите в ряски,
Чтоб девичью хранить их честь.
Оставьте! Надо без опаски
Увидеть мир, каков он есть!
Моделирование мира в категориях «наряда» (облачения, костюма) расцени-
вается тут как фальсификация мира, с одной стороны, и как фальшивость самого
искусства — с другой. Взамен же постулируется искусство 'немоделирующее'
такое, которое воссоздает неискаженную картину мира («каков он есть») и кото-
рое способно вскрыть глубинные свойства или закономерности мира («Вгляди-
тесь в землю, в воздух, в воду»; «Я видел тело километра Через тропиночную
пыль»). Мир понимается здесь как трехъярусная конструкция или тройная оппо-
зиция: нейтральный поверхностный уровень, который истолковывается как
весьма неадекватный подлинному состоянию вещей (это, например, «обманчи-
вый штиль», таящий в себе свою противоположность — 'шторм'; это также и
«пыль», скрывающая истинность расстояний — «тело километра»); искаженная
картина мира, в которой поверхностный уровень возведен во вторую степень и
представлен как «ценность» («золоченая рама», «парча», «пальто», «доха»,
«ряски»); противопоставленный указанным двум уровень глубинных и истин-
ных закономерностей мира. Заметим, что в этом контексте выражение «каков он
есть» принципиально отличается от общеупотребительного «каков он есть», по-
скольку имеет в виду не поверхностную манифестацию и не согласие на нее, а
скрытые за ней глубинные законы, при этом — объективные («Вглядитесь в» и
«убедитесь»), доступные каждому проницательному взору и сохраняющие свою
самотождественность независимо от 'всматривающегося' (анализ этого сти-
хотворения и концепции мира и искусства у Мартынова см. в: Faryno 1977,
s. 42-73).
Для категории 'костюма' этот текст интересен тем, что он возводит ее как
свойство искажающего, фальшивого искусства. Элементы наряда получают тут
смысл любой операции по отношению к миру, которая уводит от истинного по-
ложения вещей или за таковое принимает поверхность. Костюм функционирует
здесь как антитезис истины. У этого толкования костюма есть своя очень древ-
няя и богатая традиция, которую в большом упрощении можно представить в
виде оппозиции «костюм — нагота».
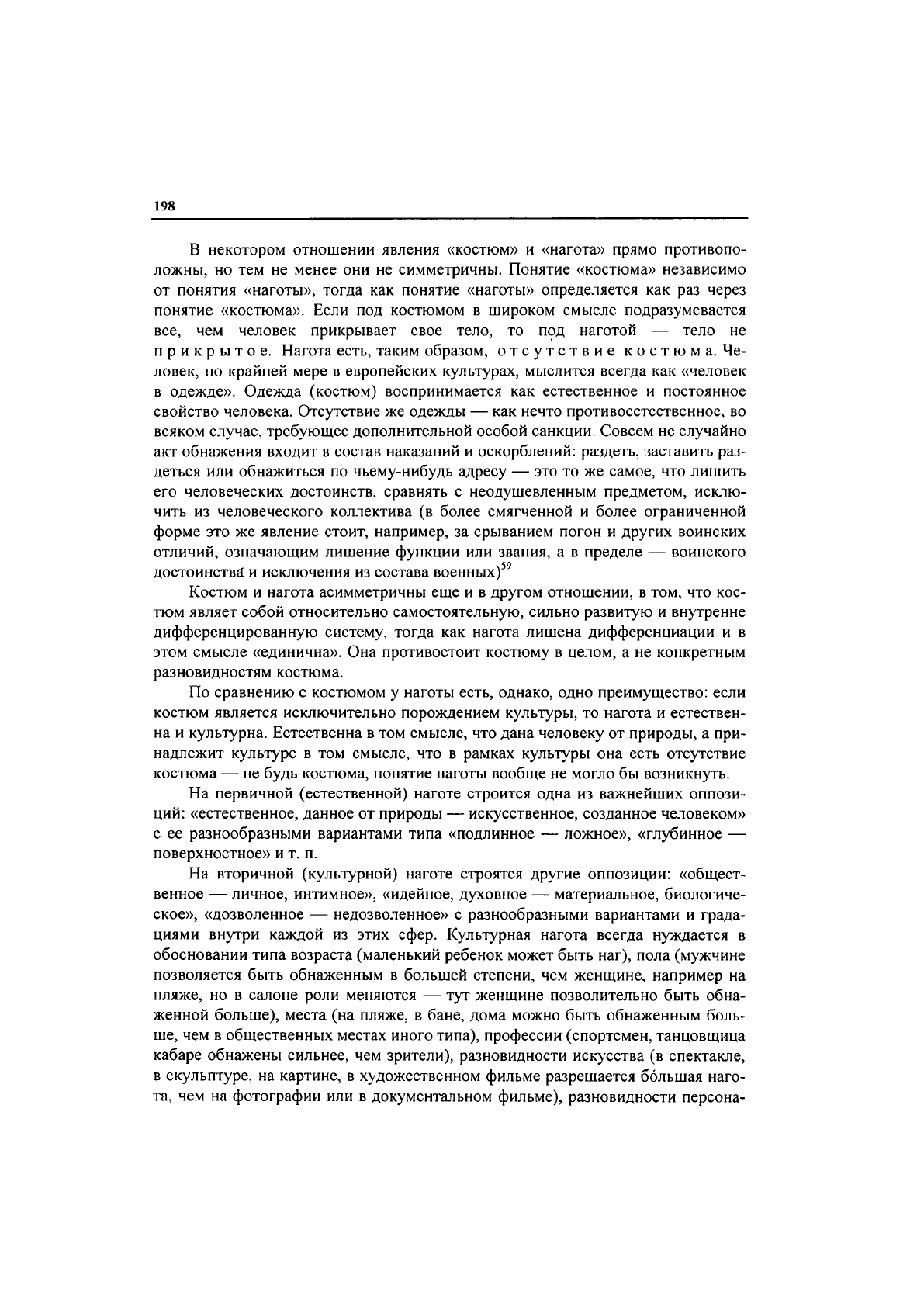
198
В некотором отношении явления «костюм» и «нагота» прямо противопо-
ложны, но тем не менее они не симметричны. Понятие «костюма» независимо
от понятия «наготы», тогда как понятие «наготы» определяется как раз через
понятие «костюма». Если под костюмом в широком смысле подразумевается
все, чем человек прикрывает свое тело, то под наготой — тело не
прикрытое. Нагота есть, таким образом, отсутствие костюма. Че-
ловек, по крайней мере в европейских культурах, мыслится всегда как «человек
в одежде». Одежда (костюм) воспринимается как естественное и постоянное
свойство человека. Отсутствие же одежды — как нечто противоестественное, во
всяком случае, требующее дополнительной особой санкции. Совсем не случайно
акт обнажения входит в состав наказаний и оскорблений: раздеть, заставить раз-
деться или обнажиться по чьему-нибудь адресу — это то же самое, что лишить
его человеческих достоинств, сравнять с неодушевленным предметом, исклю-
чить из человеческого коллектива (в более смягченной и более ограниченной
форме это же явление стоит, например, за срыванием погон и других воинских
отличий, означающим лишение функции или звания, а в пределе — воинского
достоинства и исключения из состава военных)
59
Костюм и нагота асимметричны еще и в другом отношении, в том, что кос-
тюм являет собой относительно самостоятельную, сильно развитую и внутренне
дифференцированную систему, тогда как нагота лишена дифференциации и в
этом смысле «единична». Она противостоит костюму в целом, а не конкретным
разновидностям костюма.
По сравнению с костюмом у наготы есть, однако, одно преимущество: если
костюм является исключительно порождением культуры, то нагота и естествен-
на и культурна. Естественна в том смысле, что дана человеку от природы, а при-
надлежит культуре в том смысле, что в рамках культуры она есть отсутствие
костюма — не будь костюма, понятие наготы вообще не могло бы возникнуть.
На первичной (естественной) наготе строится одна из важнейших оппози-
ций: «естественное, данное от природы — искусственное, созданное человеком»
с ее разнообразными вариантами типа «подлинное — ложное», «глубинное —
поверхностное» и т. п.
На вторичной (культурной) наготе строятся другие оппозиции: «общест-
венное — личное, интимное», «идейное, духовное — материальное, биологиче-
ское», «дозволенное — недозволенное» с разнообразными вариантами и града-
циями внутри каждой из этих сфер. Культурная нагота всегда нуждается в
обосновании типа возраста (маленький ребенок может быть наг), пола (мужчине
позволяется быть обнаженным в большей степени, чем женщине, например на
пляже, но в салоне роли меняются — тут женщине позволительно быть обна-
женной больше), места (на пляже, в бане, дома можно быть обнаженным боль-
ше, чем в общественных местах иного типа), профессии (спортсмен, танцовщица
кабаре обнажены сильнее, чем зрители), разновидности искусства (в спектакле,
в скульптуре, на картине, в художественном фильме разрешается большая наго-
та, чем на фотографии или в документальном фильме), разновидности персона-
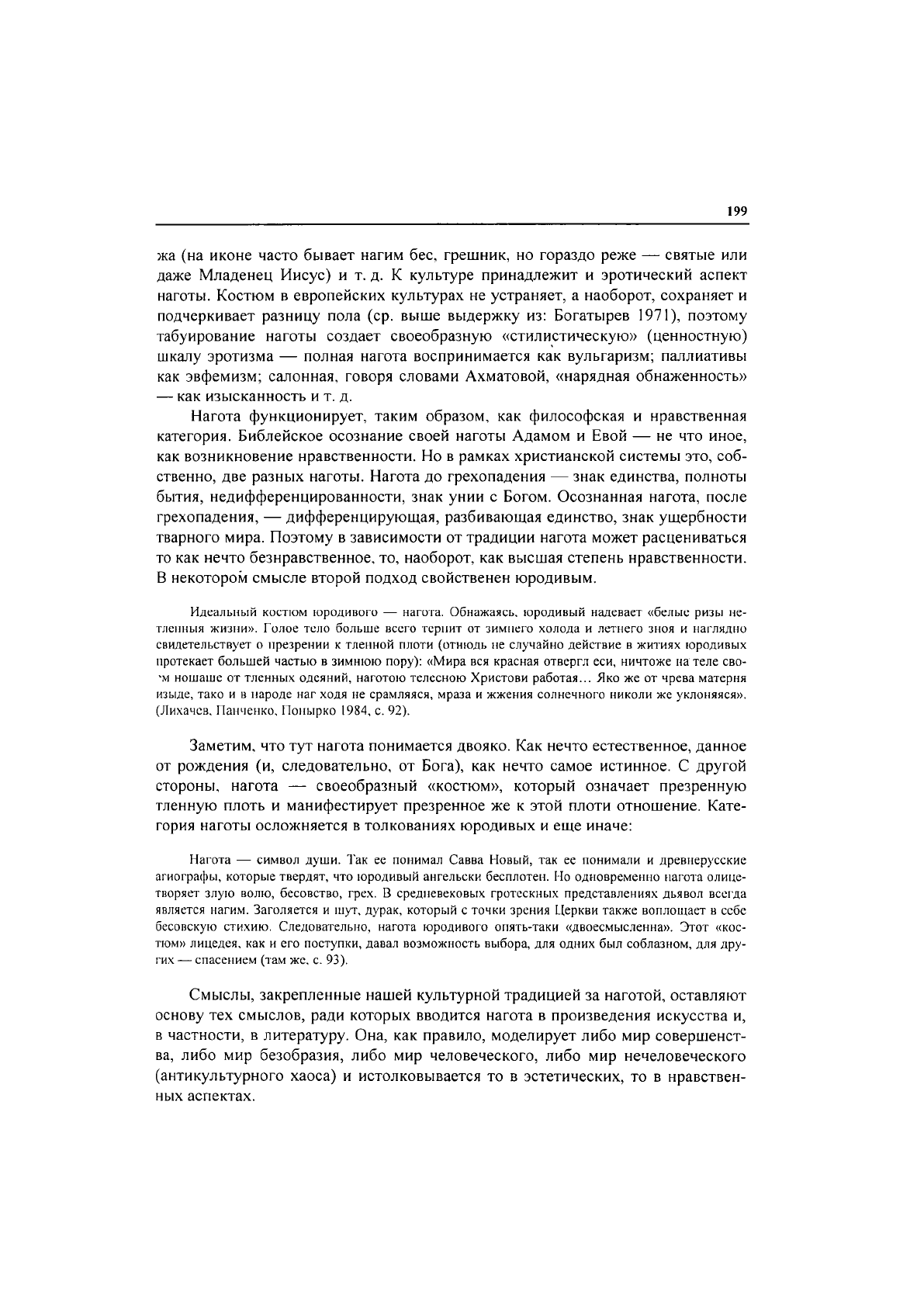
199
жа (на иконе часто бывает нагим бес, грешник, но гораздо реже — святые или
даже Младенец Иисус) и т. д. К культуре принадлежит и эротический аспект
наготы. Костюм в европейских культурах не устраняет, а наоборот, сохраняет и
подчеркивает разницу пола (ср. выше выдержку из: Богатырев 1971), поэтому
табуирование наготы создает своеобразную «стилистическую» (ценностную)
шкалу эротизма — полная нагота воспринимается как вульгаризм; паллиативы
как эвфемизм; салонная, говоря словами Ахматовой, «нарядная обнаженность»
— как изысканность и т. д.
Нагота функционирует, таким образом, как философская и нравственная
категория. Библейское осознание своей наготы Адамом и Евой — не что иное,
как возникновение нравственности. Но в рамках христианской системы это, соб-
ственно, две разных наготы. Нагота до грехопадения — знак единства, полноты
бытия, недифференцированное™, знак унии с Богом. Осознанная нагота, после
грехопадения, — дифференцирующая, разбивающая единство, знак ущербности
тварного мира. Поэтому в зависимости от традиции нагота может расцениваться
то как нечто безнравственное, то, наоборот, как высшая степень нравственности.
В некотором смысле второй подход свойственен юродивым.
Идеальный костюм юродивого — нагота. Обнажаясь, юродивый надевает «белые ризы не-
тленныя жизни». Голое тело больше всего терпит от зимнего холода и летнего зноя и наглядно
свидетельствует о презрении к тленной плоти (отнюдь не случайно действие в житиях юродивых
протекает большей частью в зимнюю пору): «Мира вся красная отвергл еси, ничтоже на теле сво-
чѵі ношаше от тленных одеяний, наготою телесною Христови работая... Яко же от чрева материя
изыде, тако и в народе наг ходя не срамляяся, мраза и жжения солнечного николи же уклонялся».
(Лихачев, Паиченко, Понырко 1984, с. 92).
Заметим, что тут нагота понимается двояко. Как нечто естественное, данное
от рождения (и, следовательно, от Бога), как нечто самое истинное. С другой
стороны, нагота — своеобразный «костюм», который означает презренную
тленную плоть и манифестирует презренное же к этой плоти отношение. Кате-
гория наготы осложняется в толкованиях юродивых и еще иначе:
Нагота — символ души. Так ее понимал Савва Новый, так ее понимали и древнерусские
агиографы, которые твердят, что юродивый ангельски бесплотен. Но одновременно нагота олице-
творяет злую волю, бесовство, грех. В средневековых гротескных представлениях дьявол всегда
является нагим. Заголяется и шут, дурак, который с точки зрения Церкви также воплощает в себе
бесовскую стихию. Следовательно, нагота юродивого опять-таки «двоесмысленна». Этот «кос-
тюм» лицедея, как и его поступки, давал возможность выбора, для одних был соблазном, для дру-
гих — спасением (там же, с. 93).
Смыслы, закрепленные нашей культурной традицией за наготой, оставляют
основу тех смыслов, ради которых вводится нагота в произведения искусства и,
в частности, в литературу. Она, как правило, моделирует либо мир совершенст-
ва, либо мир безобразия, либо мир человеческого, либо мир нечеловеческого
(антикультурного хаоса) и истолковывается то в эстетических, то в нравствен-
ных аспектах.
